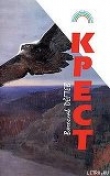Текст книги "Лунная опера (сборник)"
Автор книги: Би Фэйюй
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Все смешалось. Как сказал Толстой, все смешалось в доме Облонских. В доме Гоу Цюаня тоже все смешалось. Он выключил телевизор, окинул инспекторским взглядом интерьер комнаты, все выглядело современным и стояло в ожидании жизни или забвения. Дома было тихо, даже чересчур тихо, в этом ощущался признак хаоса, его предвестник и высшее проявление. Все смешалось. Гоу Цюань вспомнил Толстого. Великий Толстой был настоящим гуманистом. Его печальный взор проник в каждую семью. Все смешалось. Бог сотворил человека, создал семью. А после забыл о своих творениях. А вспомнил о них Толстой. Все смешалось в доме Облонских.
Лэ Го проспала с позднего вечера субботы до вечера воскресенья. Когда она проснулась, за окном уже догорал последний луч заката, что было несколько странно и отчего ее пробуждению сопутствовало ленивое, легкомысленное, отрешенное настроение падшей женщины. Ее волосы беспорядочно растрепались по шее, тело источало удушливый запах. В доме царила полная тишина, к маме в спальню зашла дочь. Лэ Го поманила Цяньцянь к себе, та подошла. Лэ Го бессильно провела рукой по ее волосам, после чего с совершенно отстраненным видом взяла карандаш для бровей, помаду и от нечего делать стала наносить дочери макияж. Та не сводила с нее глаз. Чистым, ясным взором она следила за каждым движением матери. Взгляд ребенка, проникающий в самую суть вещей, не столько вызывает страх, сколько очаровывает. Лэ Го вдруг сказала: «Цяньцянь еще не поздоровалась с мамой». В ответ Цяньцянь поздоровалась, но приветствие прозвучало искусственно. Лэ Го нанесла на губы Цяньцянь помаду, отклонившись, со всех сторон тщательно оценила результат, после чего, слегка улыбнувшись, тихо произнесла: «Наша Цяньцянь вырастет настоящей красавицей».
Гоу Цюань уже успел подойти к спальне. Услышав эти слова, он просунул голову в дверной проем. Увидев разрисованную дочь, Гоу Цюань прямо заскочил в спальню. Встав перед дочерью, он указал в сторону ванной комнаты и произнес: «Умойся!» Цяньцянь вот-вот была готова расплакаться, сквозь пелену слез она смотрела поочередно то на отца, то на мать. Слезинки готовы были выкатиться в любой момент и упасть, но так и не решились этого сделать. Лэ Го собралась с духом и спросила: «Ну зачем так грубо?» Гоу Цюань пропустил ее вопрос мимо ушей, продолжая стоять словно изваяние, он повторил: «Умойся».
Цяньцянь, глотая слезы, вышла из спальни. В ее кристально-чистых слезах отражались робость и обида. Гоу Цюань махом закрыл дверь и решил устроить разборку. Вчерашней ночью он сотню раз прокручивал в голове этот момент, вместо сна инсценируя судебное заседание, с горечью и негодованием он что-то возбужденно объяснял сам себе, задавал вопросы и сам же на них отвечал. Он лежал на диване в полном безмолвии, пока внутри него продолжался сумбурный монолог. Наутро у Гоу Цюаня осипло горло. Кто бы мог подумать, что можно посадить голос, ничего не выплескивая наружу. Гоу Цюань успокоился только под утро, к этому времени все его вопросы уложились в двадцать пять пунктов. Он непременно заставит Лэ Го встать перед ним и ответить на каждый из вопросов.
Итак, Гоу Цюань закрыл дверь. Лэ Го выглядела рассеянной и опустошенной, сказывался слишком долгий сон. Однако из-под кончиков ресниц проступал холодный взгляд. Обстановка неожиданно накалилась. Гоу Цюань настроился на допрос. Он вспомнил все двадцать пять пунктов. Но так как он уже поддался импульсу, он снова разволновался. Хриплый голос красноречиво выдавал его волнение, в нем слышался отголосок скорби и безнадежности.
– Это была ты?
– Это была я, – спокойно ответила Лэ Го, зная, что он видел ее по телевизору.
– Ты трахалась? – взревел Гоу Цюань.
Стоило ему повысить голос, как он снова осип, слышалось только дыхание. Из него словно выпускали воздух, это выглядело и смешно, и грустно одновременно. Лэ Го, ласково разглаживая простыню, жестко парировала:
– Трахалась.
На этом разбирательство и закончилось. Последняя ниточка надежды Гоу Цюаня оборвалась на первых же секундах допроса. Он тотчас забыл все, о чем хотел спросить. Его мозг, как и голос, перестал слушаться. Однако Гоу Цюаню нужно было как-то отреагировать. Он раскрыл рот, шея его налилась кровью, перед глазами Лэ Го многозначительно повис его кулак. Гоу Цюань был шокирован и разгневан до предела, он был ранен в самое сердце и все же не осмелился сорваться. Попробуй он сделать это, шуму было бы на все этажи. Гоу Цюань схватил Лэ Го за плечо и замахнулся для удара. Лэ Го с большим усилием отстранила его руку и холодно сказала:
– Не бей по лицу. Мне в понедельник на занятия.
Гоу Цюань, воздев руки вверх, сказал самому себе:
– Тебе еще на занятия?
Казалось, что одна половина его лица плачет, а другая – смеется. Лэ Го напугало странное выражение его лица, и она наклонила голову вниз. В этот миг она услышала звонкий удар пощечины. Лэ Го поняла, что он ударил по лицу сам себя [1] .
– У тебя, твою мать, значит, занятия? – сказал Гоу Цюань. – А я ведь, твою мать, тоже преподаватель!В понедельник утром у Гоу Цюаня было два, «твою мать», урока, третий и четвертый по счету. Сначала он зашел в учительскую. Первая десятиминутная перемена должна была все решить, для учителя Гоу Цюаня это был ключевой момент. Он пристально наблюдал за каждым, не пропускал ни одного шепотка, ни одного даже слабого намека, его бдительный взгляд отслеживал любое казавшееся невинным выражение лица. Но все выглядело вполне обычно, с другой стороны, обычная атмосфера виделась ему нарочито созданной, искусственной. Войдя в учительскую, Гоу Цюань улыбнулся, ему не хотелось выглядеть удрученным. Однако беспричинная улыбка напрягает окружающих. Когда Гоу Цюань увидел себя в зеркале, ему показалось, что вид у него какой-то льстивый. Он перестал улыбаться, а заметив, что из учительской пропали три человека, поспешил в туалет. В туалете он обнаружил двух своих коллег, сидящих на корточках над сточным желобом с папиросами в зубах, никаких признаков общения не наблюдалось. Когда Гоу Цюань выходил из туалета, как раз раздался звонок на второй урок. Возвратившись в учительскую, он уже никого там не нашел. Все выглядело как всегда. Наряду с облегчением Гоу Цюань испытывал какое-то невысказанное разочарование.
Однако, когда Гоу Цюань зашел в класс, то начал быстро терять спокойствие. Ведь внешние приличия соблюдались только в его присутствии, кто знает, что происходило в учительской, пока его не было. Урок Гоу Цюань вел скорее по наитию, куда кривая выведет, и как-то неожиданно повел речь о служителях церкви. Он решил записать новую лексику на доске. А пока писал, смотрел за окно, там возле брусьев над чем-то смеялись двое сослуживцев. Это повергло Гоу Цюаня в раздумья. Мысли одолели его как раз в тот момент, когда он заканчивал выводить слово «поп». Тут его мел на некоторое время застыл, после чего он по инерции продолжил писать, и вместо слова «поп» вышло «попа». Ученики рассмеялись. Гоу Цюань тут же насторожился, обернулся и спросил дежурного:
– Что смешного?
– Ничего.
– Раз ничего, почему смеемся? – строго заметил Гоу Цюань.
Ученикам ничего не оставалось, как прекратить смех, они попытались сделать серьезный вид, но им это не удалось, и они снова рассмеялись. Гоу Цюань повернулся к доске и густо покраснел, на левой стороне лица проступил след от пощечины. Сделанная им описка стала в тот день в школе ходячим анекдотом. После урока он совсем сник. Старая дева учительница Цзя заметила: «Надо было это как-то обыграть». Но Гоу Цюань ничего не обыгрывал. Он подошел к парте дежурного, швырнул учебник и приказным тоном заставил ученика встать:
– К чему притворяться, что все нормально, если это явно не так?
В классе воцарилась благоговейная тишина. Никто не смеялся, никому даже не хотелось этого делать, все впали в глубокое раздумье.
– Ну? – громко переспросил Гоу Цюань. И от этого ему самому стало тяжело на душе. Стерев с доски написанное, он горько добавил: – Кому я вообще могу верить?А десять лет тому назад стояло обильное на дожди, жаркое, нервное лето. То было лето одна тысяча девятьсот восемьдесят пятого года. На каждом углу продавали молочное мороженое, трехцветный пломбир, охлажденный морс – именно с этими атрибутами ассоциировался город образца восемьдесят пятого года. Двадцать восьмого июня, когда Гоу Цюань вышагивал по улице, над головой его висело палящее солнце, отчего отражаемый от дороги свет до рези слепил глаза. Народ двигался словно в полудреме, тени пешеходов походили на клецки, такие же мягкие и бесформенные. В отличие от окружающих, Гоу Цюань выглядел бодро, на всей улице только его единственная тень передвигалась вприпрыжку, как лягушка. Он направлялся в школу заявить о своем прибытии. По командировочной бумаге о распределении он должен был явиться только пятнадцатого августа, но Гоу Цюань не мог ждать. Он окончил учебу и теперь наконец-то останется в провинциальном центре, где получит официальный статус городского жителя. Он просто бредил городом. С землей была связана его родина, его предки, но все мечты, устремления, цели были связаны с городом, отодвигая землю на второй план. И сейчас эти мечты были спрятаны в кармане Гоу Цюаня, ему оставалось только оформить бумаги, и он сольется с городом воедино, он уже не будет тут гостем или временным жителем. С распределительной бумагой на руках Гоу Цюань остановился у входа в кинотеатр «Победа» и пропустил два стаканчика охлажденного морса, настроение у него было лучше некуда. Он смотрел на улицу, вдруг поднялся прохладный ветер, однако в его дуновении Гоу Цюань усмотрел дыхание города. Словно нежно дышала красавица, ее благоухание завораживало, пахучие, загрубевшие деревенские бабы так не дышат.
Ветер принес дождь. Для летних ливней нехарактерны прелюдии, они налетают неожиданно. На улице все смешалось, из-за мощных струй от городской пестроты еще приятнее зарябило в глазах. Толпа желающих укрыться от дождя сместила Гоу Цюаня, стоявшего на крыльце из искусственного мрамора, внутрь здания. По окнам струилась вода, очертания улицы стали неясными, она словно покрылась яркими пятнами и оживилась, велосипедисты повытаскивали заготовленные дождевики, красочные расцветки которых расплылись по стеклу радужными красками. Гоу Цюань беспечно разглядывал свой город, свое жизненное пространство, он словно смотрел кино, в котором играл сам. Не каждому суждено пережить такие прекрасные ощущения. В толпе рядом с ним оказалась одна девушка, она источала насыщенную летнюю гамму ароматов женственности. Гоу Цюань обернулся, ее насквозь промокшее белое платье прилипло к телу, явно обозначив параллельно возвышавшиеся соски. Гоу Цюань уставился на ее грудь, ошалев от радости. Какой запах, какая грудь! В этом городе он непременно женится на обладательнице первоклассной городской груди, а не каких-то деревенских сисек.
Оформление документов заняло всего несколько минут. Между тем они походили на речную переправу, с одной стороны которой оставалась деревня, а с другой находился город. Гоу Цюаню потребовалось лишь несколько мгновений, чтобы оставить свое прошлое на другом берегу, перед ним призывно расстилалась новая городская жизнь.
Вместе с ним устраиваться на работу пришла одна его сокурсница, выпускница факультета химии, девушка по фамилии Цзя. Там же присутствовал и директор школы. Он, словно дядя, по-родственному пожал руку Цзя, после чего чисто официально выразил приветствие Гоу Цюаню. Узнав, как того зовут, он высказал неодобрение, заметив, что имя Гоу Цюань созвучно слову «прозябать», имеющему негативный оттенок. Гоу Цюань поспешил расположить к себе директора, протянул ему сигарету и объяснил, что имя его означает «источник». При этом прокомментировал: «Желая стать образцом для подражания, нужно действовать подобно источнику, который без особо бурных проявлений тщательно пропитывает окружающее пространство. Именно в этом можно усмотреть его позитивную природу». Услышав это, директор открыто рассмеялся и, похлопав по плечу Цзя, сказал, погрозив пальцем в его сторону: «Чертяка».
Начиная с сентября тысяча девятьсот восемьдесят пятого года Гоу Цюань на деле приступил к продвижению своего брачного проекта. Он дал ему секретное кодовое название «акция по обустройству гнезда сороки» [2] . Свои действия Гоу Цюань развернул по всем направлениям, на всех уровнях, подкрепляя собственные усилия поддержкой со стороны всех общественных организаций и структур. Основная идея акции заключалась в создании городской семьи, соответственно, его цель сводилась к поиску девушки-горожанки, согласной выйти за него замуж. При этом сама девушка представлялась Гоу Цюаню лишь в виде концепции, с ее неотъемлемыми атрибутами в виде объема и содержания. Между этими философскими категориями существовала обратная связь, как выразился председатель профсоюза, она заключалась в том, что «чем выше требования, тем меньше претенденток, и наоборот – чем ниже требования, тем их больше». На его вопрос, о какой женщине он мечтает, Гоу Цюань не мог дать вразумительного ответа, хотя в уме у него уже сложился перечень пунктов, которым должна соответствовать его девушка. Во-первых, из этого города, во-вторых, с высшим образованием, в-третьих, она красивая (особое примечание: пышная грудь), в-четвертых, женственная, в-пятых, ее рост около метра шестидесяти сантиметров, в-шестых, вес около пятидесяти килограммов, в-седьмых, официально трудоустроенная, в-восьмых, с длинными волосами. Эти восемь пунктов не были равнозначными и одинаково ценными, в порядке их расположения таилась степень важности. Акция по обустройству гнезда сороки должна придерживаться курса «три метода и одно большое пространство». Это означало строгий подход, приоритет сложных задач, учет реальной ситуации, а также развернутый поиск. Так, например, если встречалось труднопреодолимое препятствие, то изложенные требования можно было и подкорректировать. Неприкосновенным оставался лишь первый пункт, именно он представлял собой настоящую драгоценность, а все остальные со второго по восьмой пункты считались побрякушками. Ради этой драгоценности можно было пренебречь всем остальным, но не наоборот. Условие заполучить девушку-горожанку было неизменным.
Акция по обустройству гнезда длилась полтора года. В общей сложности она охватила тридцать семь незамужних девушек и четырех молодых разведенных женщин. Никаких результатов в ходе проводившихся действий достигнуто не было. Девушки исчезали без следа, ускользая словно рыбки. Единственная, кто осталась в зоне доступа, – это учительница Цзя, преподававшая химию, но она была родом из деревни, и как ее ни наряжай, сути это не меняло, поэтому ее кандидатуру, предложенную председателем профсоюза, Гоу Цюань тут же отклонил. На самом деле сама учительница Цзя не проявляла никакого интереса к учителю Гоу, и всю эту сумятицу внес председатель профсоюза. Но одно дело – когда тебе кто-то не нравится, а другое – когда ты кому-то не понравился. Так что учительница Цзя затаила на учителя Гоу обиду. Никогда не известно, кто первый из новоявленных переселенцев сделает пакость другому. Гоу Цюань же вообще оказался не в курсе. Он только с грустью наблюдал, как содержание его понятия «девушка» становится все менее содержательным, в то время как его объем с каждым днем ширится, раздуваясь до громоздких размеров города. Намерение Гоу Цюаня внедриться в городскую среду наткнулось на отсутствие «городской девушки». Так что его операция по обустройству гнезда потерпела фиаско.
Лэ Го возродила эту операцию буквально из пепла. Переломный момент наступил, когда на закате летнего вечера перед ним возникла изящная фигурка Лэ Го. Ее появление было подобно весеннему грому среди ясного неба, к нему словно снизошла сама сестрица Линь [3] . Лэ Го была горожанкой, окончила педагогический колледж, да и внешность у нее была подходящая (грудь достаточно пышная), какой-никакой женственностью она обладала, рост – метр пятьдесят девять, вес – сорок семь килограммов, нормальное место работы, длинные волосы. Так что извилистыми путями его операция по обустройству гнезда вернулась на прежний высокий уровень.
Лэ Го как раз пережила поражение на любовном фронте. В этой схватке из нее выжали все соки. Лэ Го потеряла свою любовь, и сейчас все ее естество переполняла вдовья скорбь утраты. Лэ Го сожалела о том, что сделала аборт, а ведь если бы родился ребенок, он стал бы свидетельством и вещественным доказательством, тогда бы она точно заставила его развестись с женой. А Лэ Го в самый ключевой момент сделала шаг к отступлению и отправилась в больницу. Она пролежала в больнице пятьдесят часов, все ее прошлое рассыпалось по полу мелкими ртутными шариками, и это несметное количество разрозненных жемчужинок уже невозможно было собрать в одно целое.
Спустя три месяца Лэ Го и Гоу Цюаня свели для знакомства. Лэ Го не заинтересовалась предложенным вариантом, но, чтобы не обижать посредника, ей пришлось сходить на встречу. Как раз приближались летние каникулы восемьдесят шестого года, когда в один из вечеров Лэ Го отправилась на свидание. Все уже дышало праздностью. Она распустила волосы, надела длинное черное платье с белым кожаным ремешком, ни дать ни взять горожанка, которая недавно осталась одна. В ней присутствовало спокойствие и затаенная обида. Когда Гоу Цюань воочию увидел, как выглядит Лэ Го, то невольно расстроился. Сколько от него уже ускользнуло подобных хорошеньких городских девушек! Как только знакомивший их посредник ушел, Гоу Цюань тут же поднялся со своего места. Ни с того ни с сего его обуяло волнение, и он сказал: «Давай я провожу тебя. Я тебе точно не пара, так что к чему терять время?» С первого взгляда Гоу Цюань ничем особенным не зацепил Лэ Го, но эта его откровенная фраза стала исключением. Лэ Го так нуждалась в утешении, а в словах Гоу Цюаня она уловила нотки тепла и нежности. Возвращаться домой ей было не резон, поэтому она сказала: «Мы уже все равно познакомились, что ни делается, все к лучшему, присаживайся». Улыбнувшись друг другу, они разрядили атмосферу и, отбросив неловкость, стали общаться, словно старые знакомые после давней разлуки.После того как серебристая «сантана» с Лэ Го на борту завершила свой невесомый полет, директор Ма Бянь в ночном клубе «Флоренция» больше не показывался. Как-то раз, катая в садике деток на красных деревянных лошадках, Лэ Го намеренно посадила к себе на колени Ма Тяньцзин и, сюсюкая, спросила: «Папа, наверное, в командировку уехал?» Глядя на нее своими огромными черными глазами, Ма Тяньцзин отвечала: «Нет, папа все время дома». Когда Лэ Го это услышала, у нее словно что-то оборвалось внутри, точно так же с самого верхнего аккорда сползают звуки на синтезаторе. Лэ Го поцеловала девочку в ее маленькое личико и уставилась в пространство поверх деревянной лошадки. Во всех подробностях она начала восстанавливать детали того вечера, может быть, где-то она допустила ошибку, чем-то не угодила, однако все шло как по маслу, никаких промахов она не сделала, от этих мыслей она только еще больше расстроилась. Ну сказал бы, что больше не придет, да и делу конец.
– Он не приходил? – спросила Ацин.
В это время снова загремела музыка, зашумел народ. Лэ Го, точно не понимая, о чем идет речь, переспросила:
– Кто?
Ацин села напротив, закинула ногу на ногу и многозначительно посмотрела на нее. Потом подалась вперед и, напустив загадочность, снова спросила:
– Ты спрашиваешь кто?
У Лэ Го защекотало под ложечкой, с застывшей улыбкой на лице она механически повторила:
– Кто?
Ацин осторожно пихнула Лэ Го ногой в икру:
– Дуреха, я ведь тоже с ним спала.
Услышав это, Лэ Го нервно поднялась со своего места и стиснула кулаки.
– У меня ничего не было.
От ее грубого рывка на Ацин пролилось все содержимое бокала. Глядя на свои мокрые ноги, Ацин недоуменно прокомментировала:
– Что же это все воспитатели такие нервные.
Лэ Го продолжала упорствовать:
– У меня ничего не было.
– Да чего у тебя не было-то? Дуреха, – рассмеялась Ацин.
Загрохотала музыка, погас верхний свет, в танцзале оставили только лазерную вертушку. В мелькании огней статически высвечивались похожие на застывших паралитиков человеческие силуэты. Цвет и пространство исчезли, осталась лишь черно-белая мелькающая плоскость. Пока гремела музыка, Лэ Го неотрывно смотрела на Ацин, она несколько опасалась шантажа со стороны этой сучки. Но в конечном итоге Лэ Го не оставила Ацин никакой зацепки, так что никакого шантажа с ее стороны не должно было быть. Ну на худой конец, она завтра покинет это место. Размышляя в этом направлении, Лэ Го практически успокоилась. Ацин зажгла сигарету и обернулась, ее лицо ничего не выражало. Однако, когда через секунду ее снова осветила вспышка света, она явно улыбалась. Пока было темно, Лэ Го и на себя натянула улыбку, теперь она излучала уверенность и непринужденность. При следующей вспышке огней Лэ Го было чем ответить Ацин.
Музыка стихла, все вошло в свою колею. Толпа танцевавших постепенно возвратилась на свои места. К стойке подошел парень, он еще не успел перевести дух, поэтому пальцем показал на сигареты, что-то объясняя жестами. Ацин лениво обернулась к Лэ Го:
– Передай-ка пачку «Три пятерки».
Пока Ацин растягивала слова, парень успел сделать еще несколько слабых жестов, после чего вытащил пятнадцать юаней, забрал сигареты и ушел.
Потянув момент, Ацин неожиданно спросила:
– Ты о чем думаешь, о сигаретах, которые продала?
Лэ Го несколько отстраненно ответила:
– Чего ради? Деньги мне заплатили, так что мы в расчете.
Тут на лице у Ацин появилась улыбка, она покосилась на Лэ Го:
– А ты не глупая.
Лэ Го тотчас смутилась. Ацин снова улыбнулась. До Лэ Го вдруг дошло, что ее собственные слова «мы в расчете» и реакция на них Ацин получились логически связанными, отчего ее вдруг захлестнули неприятные чувства. Между тем Ацин продолжала:
– Умные люди больше делают, меньше думают, а дураки, наоборот, больше думают, меньше делают, не грузи ты себя всякими мыслями.
После этих слов в голове у Лэ Го прояснилось, она точно прозрела. Тут она уже совсем другими глазами посмотрела на Ацин, та сидела с безразличным видом, ничем не выказывая своих эмоций. А ведь она не плохая, сказала себе Лэ Го, действительно не плохая. Лэ Го протянула ногу под барную стойку и тихонько ткнула Ацин, та, держа в руках полный бокал, тем не менее тоже незаметно ответила двумя толчками. Обе женщины уставились друг на друга и, плотно зажав губы, перегнулись, зайдясь от смеха.После обеда, когда ученики уже разошлись по домам, Гоу Цюань все еще сидел в учительской. История про «попу» еще в первой половине дня обошла всю школу, а сейчас вслед за армией учащихся, покидавших школу, стала расползаться по всему городу. На улице смеркалось, небо затянули тучи, все было окрашено оттенками, характерными для этого весеннего периода дождей. Сидя в кабинете, Гоу Цюань вспомнил, что теперь он холостяк – как хорошо без семьи! Нет семьи – нет необходимости идти домой. Ведь что такое семья? Это ежедневный наказ, который суждено соблюдать до самой смерти: тебе просто необходимо возвращаться в семью, вся жизнь подчиняется привычной и зависимой форме существования. На самом деле человек даже не живет, поскольку сама его жизнь превращается во вспомогательное понятие, обуславливающее существование семьи, она обеспечивает ее половые функции, слюноотделение, мельчайшие потребности. Глаза Гоу Цюаня пропитались весенней влагой, ощущения обострились, словно на куске свежей солонины выступил сок. Гоу Цюань прожарился в городском масле так, что теперь мог учуять свой запах. Он, Гоу Цюань, и вправду был свежим куском мяса, который, попав в городскую, семейную среду, задохнулся и теперь источал гнилостное зловоние.
Старина У, опираясь на цветастый зонтик, начал обходить аудитории и кабинеты. Это поручение ему дал директор, поэтому после уроков он производил инспекторский осмотр всей школы.
Не желая попадаться ему на глаза, Гоу Цюань предпочел удалиться. Когда он выходил из учительской, на улице пошел дождь. Даже не дождь, когда все-таки можно разглядеть капли и струи, а обволакивающая все и вся туманная завеса. О том, что идет дождь, можно было догадаться лишь по каплям на листьях, волосах или проводах. Когда Гоу Цюань пришел домой, там никого не было. На балконе свисал конец оборванной проволоки от их соседа, учителя Го. Висевшие на проволоке капельки одна за другой падали вниз, семейству Гоу Цюаня словно ставили капельницу. Гоу Цюань вздохнул и пошел на кухню. Жаровня потухла, сгоревший дотла ячеистый уголь обескураживал своим нахальным видом. Гоу Цюань вытащил угольки и достал из-за кадушки с рисом обломок деревяшки, она была покрыта плесенью и толстым слоем желтой пыли. Он повертел лучину в руках – то, что надо. Гоу Цюань взял жаровню и вышел из кухни, немного подумав, отправился с жаровней на балкон. Там он поджег клочок бумаги и направил огонь на лучину, она загорелась, пошел густой дым, который, словно длинная кишка, стал переваливаться с их балкона наружу. Кто-то закашлял наверху, хотя разговора слышно не было. От дыма шел терпкий запах плесени, он пропитал дождевую мглу, повис в воздухе и, порываясь улетучиться, возвращался обратно. Наверху захлопнули балконную дверь, сделали это резким, грубым движением, так что послышалось дребезжание стекол. Гоу Цюань и сам больше не мог находиться на балконе, поэтому зашел внутрь. Остановившись напротив туалетного столика Лэ Го, он рассеянно уставился на красивые баночки и флакончики. Гоу Цюань долго простоял на одном месте, прежде чем снова вернуться на балкон, а ведь он совершенно забыл засунуть в жаровню уголь. В результате деревянная дощечка сгорела дотла, а на ее месте бушевало ярко-красное пламя. Гоу Цюань ногой быстро перевернул жаровню, он чуть не задохнулся, гарь стояла невыносимая. Дым проник в грудную клетку и, точно мокрота, облепил все внутренности. Гоу Цюань опрокинулся спиной на кровать и сделал глубокий вдох, он никак не мог продышаться. Оставив эти усилия, он закрыл глаза, ему было тяжко, хотя никаких конкретных причин для муки не находилось. Гоу Цюань открыл глаза, они налились слезами, он пару раз переместил свой взор, отчего слезы выкатились, и тут он неожиданно увидел в углу комнаты две паутины, он никак не мог взять в толк, как такое вообще могло появиться в спальне. Пока он размышлял, его нос снова учуял запах гари, на этот раз пахло еще хуже, похоже, горела резина. Задумавшись на секунду, Гоу Цюань ринулся на балкон, где загорелся резиновый сапог Лэ Го. Гоу Цюань тотчас бросился его затаптывать. Огонь потух, вверху сапога зияла дыра, края которой еще продолжали пузыриться. Запах все сильнее бил в нос, казалось, он накрыл весь дом, всю вечернюю мглу. Бессильно опустив руки, Гоу Цюань стоял на месте, вид у него был беспомощный и подавленный. Потом он поднял жаровню и отрешенно замер среди дождливых сумерек.
«Война» разгорелась вечером. При этом инициатором выступил не Гоу Цюань, а Лэ Го. Не было еще и девяти, когда Гоу Цюань отправился в постель, он расположился на диване в гостиной. Облокотившись на спинку, Гоу Цюань листал вечернюю газету. Едва он услышал шум, как Лэ Го уже стояла перед ним. В одной руке она держала сапог, а пальцем другой нацелилась на кончик носа Гоу Цюаня. Лэ Го так сильно старалась сдержать себя, что палец ее дрожал. Она швырнула сапог на стеклянный столик и, наклонив голову, строго спросила:
– Что это значит?
Гоу Цюань, который не успел принять боевую стойку и сфокусироваться, задал встречный вопрос:
– В каком смысле?
Такая реакция буквально разъярила Лэ Го. Она схватила его за шиворот и заорала:
– Ты, твою мать, будешь мне еще обувь портить! Да что ты за мужик вообще, если издеваешься над женой!
То, что Лэ Го распустила руки, до крайности возмутило Гоу Цюаня, но, когда он услышал ее обвинения, возмущение его притупилось. До него наконец дошло, что значило ее «что это значит». Внезапное озарение разом восстановило все ужасное, что с ним произошло. Это моментальное, скоротечное прозрение он ощутил на физическом уровне. Гоу Цюань отвернулся. Ему не хотелось смотреть на Лэ Го, на ее выцветшую, разъяренную городскую физиономию, от которой рьяно несло вульгарностью и мелочностью. Гоу Цюань крепко стиснул зубы, ему так хотелось ей врезать. Но он не посмел. Он не хотел развязывать войну, ведь женщины в подобных схватках проявляют недюжинную выносливость, талант и изобретательность. Они создают наимощнейший единый фронт, на пустом месте оперируя такими высокими понятиями, как «сочувствие», «любовь», «права», «обязанности», в результате чего мужчина уже сам готов признать, что он ни на что не годен. Гоу Цюань сдерживал себя, молчал и не двигался. При отсутствии оборонительных действий война перестает быть войной, поэтому, если нет сопротивления, война прекращается. Гоу Цюань закрыл глаза, он предпочел скрыться от нее в своем теле.
– Свинья. Мертвая свинья. Уходи. И не издевайся больше надо мной. Уходи.
Мысли Гоу Цюаня разлетались на все более мелкие кусочки, они витали где-то совсем внизу, в темноте. Только у героя могут быть величественные мысли. Закрыв глаза, Гоу Цюань весьма отчетливо представил, как он сейчас выглядит, и, не произнося слов вслух, про себя отчетливо повторил: «Свинья. Мертвая свинья».
Лэ Го прекратила военные действия. В ночи все снова успокоилось. Атмосфера по ту и эту сторону окна уравновешивалась, протягивая друг другу руки помощи. Дождь разошелся, по стеклам расплывались струи. Внешняя половина ночи была мокрой, а внутренняя – сухой. Слушая шум дождя, Гоу Цюань неожиданно вспомнил о дочери. Натянув шлепки, он отодвинул полог, отгораживающий ее кровать в гостиной. Дочь опустила москитную сетку, которая свисала густыми складками. Гоу Цюань приоткрыл отверстие в сетке, дочь лежала с закрытыми глазами, но спит она или нет, было непонятно. Чтобы определить наверняка, Гоу Цюань тихонько позвал ее, но ответа не последовало. Он повторил попытку, безрезультатно. Гоу Цюань понял, что дочь притворяется. Невозможно добудиться лишь тех, кто не спит, а делает вид. Гоу Цюань пристально уставился на дочку, немая боль готова была вырваться наружу. В несчастных семьях, как правило, растут понимающие дети, их понимание только усугубляет страдания. Надо уходить, чтобы больше никого не мучить и не тиранить, надо уходить.
В эту ночь Гоу Цюань не сомкнул глаз. Он непрестанно курил и задымил всю комнату, раз за разом обдумывая свой брак и городскую жизнь. Где он был, этот город? По сей день у Гоу Цюаня оставалось ощущение, что город его еще не принял, его не покидало чувство запасного игрока и искусственно созданных отношений. Их связь была далека от спонтанности, взаимообусловленности и естественности. Город – это своего рода судьба, которая складывается из полного уничтожения и постоянного риска, но ты не чувствуешь за это ответственности, не видишь в этом трагедии, не ощущаешь по этому поводу ничего судьбоносного. Здесь и речи не идет о криках или осуждении, сочувствии или помощи, ты просто пропитываешься сладкой тоской и изобретательным острословием, и, очутившись в окружении городской мозаики, с какой бы громкостью ты не портил воздух, только эхо ты и услышишь. Вот то особое роскошное и бескорыстное подношение, которое город преподносит горожанам.