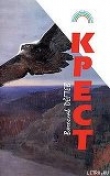Текст книги "Лунная опера (сборник)"
Автор книги: Би Фэйюй
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Лэ Го, оставшись в спальне одна, листала журналы. Ориентированные на совсем молодую аудиторию, ее они совершенно не цепляли. Скукотища. На улице и впрямь потеплело, в комнату залетел комар, его писк пленял слух, сразу вспомнились былые чувства, в памяти всплывали многочисленные печальные сюжеты, героинями которых были Ду Шинян [5] , Цуй Инъин [6] , Мэн Цзяннюй [7] . Лэ Го прислонилась к спинке кровати, взяла в рот кончики волос и начала их посасывать. В конце концов ей показалось, что у нее зачесалась голова. Этот зуд тут же перешел на остальные части тела, она очень отчетливо ощутила, как по кровеносным сосудам он дошел до самых пальцев, она чувствовала, как в них пробегают мурашки. Лэ Го показалось, что где-то в кончиках каждого из десяти пальцев спряталось по комару, которые то и дело начинали нежно трепетать своими крылышками. Находясь в некотором смятении, Лэ Го будто бы невзначай вспомнила ночной клуб «Флоренция». Эти воспоминания были ей приятны, они дарили чувство свободного падения и, совершенно бесплотные, неудержимо влекли за собой. Лэ Го даже испугалась, с чего это она вдруг снова вспомнила то проклятое место. Она встала с постели, решив себя чем-нибудь занять, но не могла придумать, чем именно. В несчастливых семьях обычно не так уж много дел. Однако голова ее у корней волос чесалась все нестерпимее, да и тело зудело так, что никакие подручные средства не помогали. Тогда Лэ Го решила ополоснуться. Она смоет эти ощущения, и ей непременно полегчает.
С точки зрения времени, в которое Лэ Го решила помыться, было явно поздновато, да и день недели не тот – пятница. Из всего этого у Гоу Цюаня имелись все основания заключить, что Лэ Го не просто выполняет гигиенические процедуры, в ее действиях он явно разглядел куда большие намерения. Звук падающей воды в ванной комнате казался каким-то сумбурным, подпрыгивающим и весьма легкомысленным. Когда Гоу Цюань услышал это хлюпанье, его тело в один миг предательски отреагировало, это случилось как гром среди ясного неба, без всякой подготовки. Гоу Цюань пытался утихомирить свой пыл и заснуть. Но, понимая лишь умом, как успокоиться, он физически был бессилен обуздать себя, тело Гоу Цюаня, невзирая ни на что, действовало по своим законам. Цяньцянь в это время сидела над уроками, было видно, что она очень старается. Гоу Цюань тихонечко ей шепнул:
– Цяньцянь, ложись-ка спать, уже поздно.
– Но у меня еще много уроков, – отозвалась она.
– Завтра сделаешь, давай слушай, что говорит папа, – ласково добавил Гоу Цюань.
Услышав свои же слова, Гоу Цюань понял, что лукавит перед дочерью, на самом деле у него имелись гораздо более низменные и рискованные желания. Цяньцянь послушно отправилась в кровать. В ее беспрекословном подчинении проглядывала смышленость. Гоу Цюань увидел, что дочь легла, в ванной его слова явно услышали, плеск воды вдруг прекратился. На какое-то мгновение Гоу Цюань даже засомневался: неужели это у них в семье случилось что-то ужасное? Лучше было ни о чем не думать, чтобы лишний раз не бередить душу. Про себя он ругнулся: «Твою мать».
Между тем Лэ Го, закончив мыться, вышла из ванной с зеленой расческой в руках. В тот самый момент ее взгляд и натолкнулся на Гоу Цюаня. Последнему не нужно было прибегать ни к каким уловкам, чтобы показать, как он ждал Лэ Го. Его глаза говорили сами за себя, словно в период пылкой любви им руководили силы свыше. За все время, которое Лэ Го знала Гоу Цюаня, она впервые видела у мужа такие глаза. Спустя долгое время после их медового периода супружества, когда ее переполняло возбуждение, сердце Лэ Го снова заколотилось. Из ослабевших рук выпала расческа, из которой тут же вылетело два зубчика. В смятении Лэ Го нагнулась за ними, в это время ее упругие груди оголились и, очутившись прямо перед носом Гоу Цюаня, беззвучно колыхнулись, словно колокольчики. И выглядело это столь же распущенно, как и непорочно. Когда Лэ Го распрямилась, то почувствовала, как у нее запылали щеки, чувство стыда совсем сбило ее с толку: она – и вдруг уподобилась нетронутой девушке. Она уже десять с лишним лет как не краснела и не смущалась до такой степени. Лэ Го прикусила нижнюю губу, что в глазах Гоу Цюаня только добавило ей исключительного кокетства. Лэ Го опустила голову, длинные волосы тут же потоком заслонили половину ее лица. Глядя на свою жену, у которой теперь видны были лишь половина лба, один глаз, полноса, половина открытого рта и полподбородка, Гоу Цюань стоял пораженный, не в силах вымолвить ни слова. Он наклонил голову, было видно, как вздымается его грудная клетка. Эта деталь не ускользнула от взгляда Лэ Го, ее обуяло страстное желание, и уже ее собственная грудь стала подниматься и опускаться в такт дыханию Гоу Цюаня. Совершенно не готовая к такому неожиданному столкновению, Лэ Го оказалась абсолютно обескуражена. В глазах заблестели слезы. Потеря контроля над собой и вынужденное замешательство сверх всякого ожидания прибавили ей миловидности и очарования. Лэ Го развернулась и проследовала в спальню. После ее резкого движения в комнате остался шлейф смешанного аромата мыла и шампуня. Гоу Цюань просто обожал этот запах, на него тут же нахлынули чувства, и он пришел в возбуждение. Однако Гоу Цюань сдержал себя, он определенно не мог позволить, чтобы эта сучка снова раздразнила его. Он ругнулся и погасил свет. Гоу Цюань услышал, что Лэ Го тоже погасила свет в спальне. Самодовольно и в то же время разочарованно он произнес: «Твою мать». В конце концов Гоу Цюань все-таки не смог удержать оборону в эту ключевую для него ночь, он как будто заболел, причем очень серьезно. Босоногий, он украдкой направился к собственной спальне. С его стороны это была полная капитуляция, вместе с тем его обуяло страшное волнение, свойственное внебрачным связям. Гоу Цюань, практически уже потеряв самообладание, толкнул дверь. Она оказалась наполовину приоткрытой, защелки не было. Это его порадовало и разочаровало, развеселило и разозлило одновременно. В кромешной тьме он пошел прямо к кровати. Полагаясь на знакомое ему пространство, он без труда дошел до нее. На постели не было заметно никакого движения, однако пылавшая страстью Лэ Го уже давно была там. Гоу Цюань вскарабкался на кровать, словно вор, пытавшийся похитить собственную жену. В момент, когда их тела соприкоснулись, оба замерли, это длилось каких-то несколько секунд. Но спустя мгновение их руки и ноги переплелись так, что было уже не разобрать, кто где. По ощущениям эта близость раз в пятьдесят превосходила их первую брачную ночь. После того как Гоу Цюань кончил, он стащил с подушки накидку и, вытершись насухо, упал рядом с Лэ Го, испустив глубокий вздох.
Оба лежали недвижимы каждый на своей половинке и переводили дух. Так прошло минут десять, после чего Лэ Го прикрыла Гоу Цюаня краешком одеяла и осторожно протянула к нему руку, желая привлечь его к себе. Она была сама нежность и всеми действиями показывала, что признает свою вину. Лэ Го тихонько всхлипнула. Одна слезинка, упав на плечо Гоу Цюаня, чувственно скатилась вниз. Прошло еще около десяти минут, Гоу Цюань сделал передышку, после чего начал готовиться ко второму заходу. Лэ Го в такой момент уж никак нельзя было включать лампу, но она, совершенно ошеломленная, хотела знать на сто процентов, что же за мужчина находится с ней сейчас. Она нажала на выключатель, пучок света резанул по глазам, словно мастерски запущенный дротик, яростно и жестоко, ей ничего не оставалось, как зажмуриться; приоткрыв один глаз, она увидела Гоу Цюаня. Гоу Цюань, щуря глаза, тоже косился на Лэ Го.
Так они и смотрели друг на друга. Это выглядело странно и ужасно, учитывая их перекошенные физиономии, ко всему прочему они находились практически вплотную. Отстранившись, оба почувствовали ужасное отвращение. Гоу Цюань схватился за выключатель и резким движением потушил свет. Ему не хотелось видеть ни этого лица, ни этого тела рядом с собой. Итак, они снова оказались в кромешной тьме. На этот раз Лэ Го практически всю инициативу взяла на себя, ее руки снова начали ласкать Гоу Цюаня. Ощущения волнами растекались по его телу, отзываясь на ее то мощные, то мягкие прикосновения. Гоу Цюань уже несколько раз был на грани, им управляло лишь страстное желание. Они приступили к повторному соитию. На этот раз Гоу Цюань действовал еще более неистово, вся его ненависть и желание отомстить сублимировались в сексуальную энергию. Лэ Го от такого реванша Гоу Цюаня была на седьмом небе от счастья, она плакала от радости и тихонько повторяла имя Гоу Цюаня, желая изо всех сил угодить ему. Лэ Го очень старалась ублажить Гоу Цюаня, и он это чувствовал. Ему было ненавистно и противно такое ее поведение, ему так хотелось взять и резко остановиться на полпути, но он не мог. В глубине души чем больше он злился, тем больше в нем пробуждалась любовь. Вместе с тем чем приятнее становилось Лэ Го, тем больше она впадала в сумасшествие. Гоу Цюань выругался сначала про себя, а затем уже на последнем издыхании резко матернулся вслух.
Чем жарче становилось, тем стремительнее летели дни, не успели и глазом моргнуть, как наступили летние каникулы. И буквально на следующий день в их семье произошло нечто из ряда вон выходящее. Проснувшись, Лэ Го обнаружила, что находится дома совершенно одна, Гоу Цюань и Цяньцянь исчезли в неизвестном направлении. Лэ Го быстро проверила платяной шкаф и книжный стеллаж дочери и предположила, что они уехали в деревню. Лэ Го уселась на кровать дочери, на какой-то момент она огорчилась, однако приятное чувство от того, что ее отпустили и освободили, взяло верх. С тех пор как в семье произошел разлад, их дом перестал напоминать семейное жилище, он превратился в крысиную нору, где трое жильцов с утра до вечера хмурились друг на друга. Лэ Го выдохнула всей грудью, сначала она включила телевизор, но, оглянувшись вокруг, решила провести генеральную уборку. Для начала она передвинула диван к стене, вернув его на прежнее место. Его подлокотники пропитались запахом мужского геля для волос. Под диваном скопился целый слой мусора, который расположился точно в его прямоугольном контуре. Среди этого хлама обнаружилось несколько окурков от сигарет, а также осколки от фарфоровой кружки. Лэ Го старалась прикинуть в уме, но никак не могла вспомнить, когда разбилась эта кружка. Передвинув диван, Лэ Го приступила к мытью полов. Пройдясь по ним шваброй два раза, она в нескольких местах заметила царапины, прочерченные осколками от разбитой кружки. Лэ Го взяла полотенце Гоу Цюаня и, приспособив его под тряпку, тщательно оттерла некоторые из следов. После этого она перемыла всю кухонную утварь от тарелок до кастрюль. Расправившись с посудой, перешла к обуви, она собрала и перечистила все туфли, что стояли за дверью. Немного подумав, она замочила в ванной простыни. Сделав это, Лэ Го мельком взглянула на телевизор, было двенадцать часов дня. Лэ Го не поверила своим глазам. Она столько всего переделала и при этом не чувствовала ни голода, ни усталости. Подбоченившись, Лэ Го огляделась по сторонам, наконец-то их дом снова приобрел должный вид. Вот решила навести порядок и разом все сделала. Довольная, она закрыла дверь и пошла к главным воротам колледжа, где взяла целую тарелку лапши с мясом. Отобедав, она вернулась домой, чтобы ополоснуться. Но, насытившись, она разленилась, ее потянуло в сон, поэтому она прилегла на дочкину кровать. Иногда бывает интересно сменить место сна. Ее дневной сон вышел довольно продолжительным, Лэ Го много чего приснилось, но ни одного из своих снов она не помнила. Хотя последний сон она еще смутно ощущала. Ее определенно целовал какой-то мужчина, потому что когда она проснулась, то все еще чувствовала отголоски своего возбуждения и разочарования. Сон был таким сладким и волнующим. Лэ Го проспала до вечера. Проснувшись, она снова взялась за уборку. Выстирав простыни, она помыла даже двери и окна. Убрав начисто всю квартиру, Лэ Го наконец-то решила привести в порядок себя. Она накипятила шесть кувшинов воды и позаботилась о каждой клеточке своего тела, начиная от кончиков волос и заканчивая каждым из пальцев. Особое внимание она уделила проблемным участкам, намыливая их снова и снова. После этого Лэ Го тщательно вытерлась, достала новую юбку и, натянув ее, плюхнулась на диван и вздохнула. Приближалась ночь, за окном стали сгущаться сумерки. Уставившись за окно, Лэ Го прикидывала, чем бы заняться еще, но она уже перемыла все, что можно. Только сейчас ее по-настоящему одолела печаль, она почувствовала пустоту, потеряв привязанность к чему-либо и опору. Она взяла зеркальце и с жалостью посмотрела на себя, не мешало бы снова прихорошиться. Лэ Го выгребла все, что лежало у нее в прикроватной тумбочке, она уже давно не пользовалась косметикой. Она снова воспряла духом и, взяв пудреницу, нанесла основу под макияж, подрисовала брови, нанесла на глаза тени для век, несколько раз прошлась щеточкой по ресницам, после чего очень тщательно вывела вокруг губ линию контурным карандашом, затем нанесла помаду алого цвета. Пару раз сомкнув и разомкнув губы, Лэ Го рассмотрела свое лицо со всех сторон, результат ее удовлетворил, выглядела она на все сто. И как ни крути, смотрелась она еще достаточно молодо. Как бы то ни было, ее вполне можно было назвать красивой зрелой женщиной. Лэ Го приподняла зеркальце повыше, она не отрываясь рассматривала себя и, любуясь, изучала свое отражение. Указательным пальцем правой руки она очень осторожно, еле касаясь кожи, заскользила вниз по подбородку. Дойдя до основания шеи, медленно проделала такой же путь обратно. Поняв, что с ее губ готов сорваться какой-то звук, она их разомкнула. Лэ Го выдохнула. Ее горячее сухое дыхание становилось все глубже, а взгляд – все рассеяннее. Словно лед под солнцем, он стал масляным и томным. Лэ Го отложила зеркальце и направилась к двери. Открывая ее, она сказала сама себе: «Никуда специально не пойду, просто прогуляюсь по улице, прогуляюсь, и все».
Братцы
1
По улице с запада на восток двигалась поливочная машина. Оснащенная динамиком, она ехала и периодически издавала звуки, монотонно повторяя одно и то же вместо нормальной мелодии. Три часа ночи. Ярчайшим светом горели высоковольтные неоновые лампы, обрамляющие дорогу. Из-за симметрично расположенных фонарей пустынная улица выглядела бесконечно длинной и просторной. Под плафонами в мандариново-оранжевом свете кружились несколько мотыльков: словно обезумевшие, они метались в ночной истерии. Пустоту и однообразие изредка нарушали пролетавшие по улице легковушки, которые со свистом проносились и тут же исчезали. В этот час глубокой ночи город спал, горевшие в едином порыве уличные фонари никак не могли соединиться, а потому просто стояли и хладнокровно вытягивали из глубины ночного пейзажа пестроту красок и путаность перспективных линий. Поливалка удалилась, дорога увлажнилась и теперь напоминала чистую зеркальную поверхность. Перевернутое отражение улицы создавало впечатление безграничности ночного пространства, в котором верхняя половина зданий оставалась на земле, а нижняя словно уходила под землю. Крапчатый отсвет неоновых ламп, просачиваясь в самую глубь, полностью там растворялся, волнообразно переливаясь и кружась. И снова промчалась машина, оставив на дороге яркие блики габаритных огней. Мокрый асфальт создавал впечатление, что она раздвоилась и одновременно улетела в небеса и куда-то под землю.
Тубэю снова приснилась Яньцзы. В его сновидениях она всегда выглядела блекло, словно на старом выцветшем фото. Кроме того, она никогда не разговаривала: плотно сомкнутые губы, блуждающий взгляд, но вместе с тем какой-то сосредоточенный вид. Ее сосредоточенность явно демонстрировала чувство неразделенной любви. И вот Тубэй подходит к Яньцзы и целует ее в губы. Дальнейшее развитие событий происходило уже в воде. Как только во сне ему начинала сниться река, ничего поделать было уже нельзя. Каждый раз одно и то же. Водная стихия в его снах выглядела абсолютно абстрактно, вплоть до того, что вообще теряла свою материальность, оставляя лишь ощущение покачивания и плавучести. Последнее приводило Тубэя в сумасшедшее состояние невесомости и полета. Потом Тубэй и Яньцзы, словно длиннющие широколистные водоросли, обвивали друг друга, постепенно распространяя свою дрожь на самые отдаленные участки. В этот момент сжатые губы Яньцзы всегда как-то неестественно размыкались, совершенно неожиданно обретая и тепло, и цвет, и даже мягкость. На этом месте Тубэй просыпался, хотя его тело по инерции продолжало развивать события сна. Каждый раз, уже очнувшись, Тубэй пытался усмирить свои бешеные порывы, но безнадежно. Тубэй стыдился этих сновидений. Он не позволял, чтобы его плоть таким постыдным образом реагировала на Яньцзы. Он не позволял, чтобы Яньцзы снилась ему снова. Но сны не выбирают, они рождаются из небытия. Точно так же, глядя в зеркало, мы видим в нем лишь свое отражение. И Тубэя это бесконечно удручало.
Тубэй встал с кровати и в расстроенных чувствах сменил трусы. Потом он закурил. За стеной храпел его старший брат Тунань. Его довольный усталый храп казался упругим и эластичным, словно ночная темень. Тубэй раскрыл окно. Квартира находилась на седьмом этаже, из окна открывался превосходный вид на улицу. Мимо дома проехала поливалка, она двигалась с запада на восток, похожая на страдающего павлина в период гона, который то раскрывал, то собирал свой хвост, как бы то преследуя, то отпуская объект своего вожделения. Тубэй услышал доносящуюся из поливалки мелодию. Это был Верди «Сердце красавиц склонно к измене». Три часа ночи. После своего семяизвержения Тубэй в полном опустошении долго стоял у окна. Комната приняла на себя волну свежего воздуха, Тубэй, зажав в зубах сигарету, глубоко вдохнул, после чего резко выдохнул. Дым закрутился в спираль и уплыл в никуда, а через какое-то мгновение ночной ветерок возвратил его назад. Тубэй сделал короткую затяжку и выплюнул сигарету. Окурок начертил в воздухе темно-красную дугу и, словно самоубийца, в безнадежной печали устремился вниз.
Осенью тысяча девятьсот девяносто четвертого года Инь Тубэй покинул свой родной поселок Дуаньцяочжэнь. Летом того года он окончил среднюю школу высшей ступени. По заведенному порядку после школы он должен был поступить в университет. Он всем сердцем мечтал изучать финансы и за время учебы намеревался получить городскую прописку. После этого он полагал, что выберет какую-нибудь серьезную торговую компанию и прославится. Кто бы мог подумать, что Инь Тубэй провалится на экзаменах. Что ни говори, а члены семейства Инь никогда не испытывали провала. В тот день, когда в школе заполнялись анкеты по выбору университета, туда пришел отец Тубэя. Его старческое лицо выглядело свирепо без всяких на то оснований. Директор средней школы Дуаньцяочжэня предложил почтенному Иню старый плетеный стул, предлагая присесть, и сказал:
– Если у вас имеется какое-то дело, то вы просто передайте через школьника, зачем же приходить лично?
Когда отец напустил на себя суровый вид, его морщинки прорисовались в мельчайших деталях, лицо его и без гнева выглядело внушительным. Отцу Тубэя было уже за семьдесят, младший сын родился у него в пятьдесят с лишним лет. У этого преподавателя-пенсионера уже не осталось зубов, болтался один только язык. Такой рот в самый раз подходил для прочувствованных речей или терпеливых уговоров. При этом принципиальные вещи он мог обсуждать с такой твердостью, которой бы и зубы позавидовали. Оставшись с глазу на глаз с директором школы, пожилой папаша громко заявил:
– Инь Тубэй может идти только в педагогический вуз, я не позволю ему размениваться на всякую ерунду. Я так сказал.
Поскольку своего собственного сына он официально назвал по фамилии и имени, то атмосфера тотчас стала торжественной, и на лице у директора вмиг отразилось понимание важности вопроса.
– Я понимаю, – тихо ответил он.
Проживающее в Дуаньцяочжэне семейство Инь знали во всем уезде как известный преподавательский род. Его блестящую историю можно было проследить вплоть до двадцать третьего года правления императора Даогуана. Именно в тот год один из предков семейства Инь получил статус гуншэна [8] . За весь этот период с тысяча восемьсот сорок четвертого года по тысяча девятьсот девяносто четвертый, то есть за полтора века, или попросту за сто пятьдесят лет, в семействе Инь насчитывалось сорок шесть (включая невесток и зятьев) преподавателей (их также называли наставниками и народными учителями). Если вести отсчет от почтенного гуншэна, открывшего в Дуаньцяочжэне первую частную школу, то отец Тубэя был представителем седьмого поколения в семье Инь. Старший брат Тубэя Инь Тунань в тысяча девятьсот семьдесят девятом году поступил в педагогический университет, что официально ознаменовало появление восьмого поколения учителей в их роду. После окончания вуза Инь Тунань возвратился в Дуаньцяо-чжэнь. В день свадьбы отец подарил старшему сыну свиток с семейным наказом: быть примером для людей, нести честь восьми поколений предков. Восемь больших иероглифов, вмещающих смысл этой надписи, были преисполнены доблести и достоинства. Однако зимой восемьдесят девятого года на Тунаня вдруг навалились несчастья: сначала он развелся, потом уволился, после чего один поехал на юг в провинциальный центр. Такое поведение Тунаня оказалось совершенно неожиданным и непредсказуемым. Как только старик узнал эту новость, у него случился сильнейший приступ, и когда он вернулся из больницы, его старые глаза совсем помутнели. После того случая почтенный Инь стал совсем другим. Он уподобился старому крестьянину, точь-в-точь как на известной картине Ло Личжуна «Отец»: с шариковой ручкой, заткнутой за ухо, с большой пиалой в руках, теперь он целыми днями сидел на порожке у каменных ворот переулка Циншисян. По поводу и без повода отец повторял: «Когда над [Фениксом] только синее небо, его ничто не может остановить, и он устремляется на юг» [9] . В этой фразе, взятой из Чжуан-цзы, содержалось имя его старшего сына Тунаня [10] . И вот сейчас Тунань действительно отправился на юг. Это судьба. В конце концов отец обратил свой помутневший взор на Тубэя, который стал единственной надеждой для восьмого поколения. Намерения отца пугали Тубэя, он увидел свой собственный удел: находиться под постоянным присмотром отца – под его помутневшим взором, поблескивающим слезами. И тогда Тубэй решил сопротивляться. Тубэй боялся только старшего брата, но не отца. Поэтому в присутствии директора и отца он шумно воспротивился:
– Я не согласен! Почему ты решаешь за меня!
Отец изо всех сил хлопнул по ручке плетеного кресла и хотел было встать. Это ему не удалось, но раздавшийся скрип красноречиво выразил его намерение. Своим поведением он демонстрировал несгибаемую твердость и непреклонность.
– Инь Тубэй! – громко сказал отец. – Представитель восьмого поколения рода Инь!
Этот его окрик, по сути, ничем не впечатлял. Однако каждый житель Дуаньцяочжэня осознавал, что среди учителей не было таких, которых бы эта проблема абсолютно не волновала и не трогала. Директор подошел к нему и тихо сказал:
– Почтенный господин, это от него не зависит. Это мы принимаем решение.
Староста группы, покосившись на Тубэя, повторил:
– Это от него не зависит, мы принимаем решение.
Инь Тубэй не признавал для себя преподавательской стези. Он пользовался простым и старым методом саботажа, выказывая тем самым свое пассивное сопротивление. Для него наступило время уединения и печали, единственным успокоением были безмолвные переглядывания с Яньцзы. Яньцзы считалась самой красивой девушкой с улицы Циншицзе, весь ее облик и выражение лица несли ощущение радости. Вплоть до второй ступени старшей школы Яньцзы и Тубэй учились вместе, а потом Яньцзы вдруг бросила школу и вместо матери стала торговать в бакалейной лавке. Целыми днями она просиживала в своем магазинчике, словно отраженный в воде нежный цветок, накрытая неосязаемым покрывалом печали. С каждым человеком Яньцзы соблюдала определенную дистанцию, как будто она жила внутри зеркала, к ней можно было прикоснуться, но не более. Первый раз Тубэй явно заявил о своих чувствах одним из вечеров, когда отключили электричество. Такие моменты как нельзя лучше подходят для проявления первой любви. Тубэй захватил деньги и отправился за свечами. Яньцзы в это время как раз стояла в отсвете пламени от двух свечей из белого воска. В этом освещении ее силуэт создавал противоречивое впечатление стремления и отказа. Тубэй зашел к ней в лавку, протянул новую сотенную купюру, на которой слева от изображения Чжу Дэ на чистом пространстве он вывел стихотворные строки:
Так просто не вернуться мне из переулка Циншисян назад,
Мечтаю издали увидеть я твой кинутый вдогонку взгляд.
Яньцзы, конечно же, увидела эти две строчки. Она наклонила голову и очень внимательно прочитала написанное. В этот волшебный миг ее руками и всем ее существом завладела эта вещица. Отсвет свечи на стене усиливал ощущение ее смятения. Яньцзы отступила назад и запихнула деньги в карман, два язычка пламени чутко откликнулись на ее движение, но тут же вернулись в исходное положение, изображая полное спокойствие. Попутно Яньцзы вытащила две свечи и поставила их на стеклянный прилавок. Тубэй взял их и вышел. Едва Тубэй вернулся домой, как тут же дали электричество. Переулок Циншисян вновь осветился огнями. Сжимая в руке свечи, Тубэй счастливо вопрошал себя: «Как она догадалась, что я пришел за свечами?» Он выключил лампу и зажег свечу, свет которой дарил невероятно прекрасные ощущения. Живя в городе, Тубэй пришел к главному заключению: любовь имела место быть лишь в доэлектрификационную эпоху. А с появлением электричества от любви не осталось и следа. Свет от свечи является ее последним нежным лучиком. Во время выключения электроэнергии ее пламя дарит яркий предсмертный отблеск этого чувства.
В июле того года Тубэй завалил вступительные экзамены в вуз. Свои результаты Тубэй объявил отцу в день окончания экзаменов. Тот плотно сжал губы и ничего не говорил. Отсутствие зубов придавало выражению его лица горькое ощущение абсолютной беспомощности. Это изменило его донельзя. Вид его представлял грустное зрелище. Отец заложил руки за спину. Полагая, что Тубэй очень расстроился, он хотел успокоить сына. В его словах утешения, как и во время преподавания, содержались всевозможные цитаты из канонических текстов, которые он приводил без единой запинки: «С горой Тай-шань под мышкой не перешагнуть Северное море. Это невозможно. Ну и пусть». Когда он произнес это свое «ну и пусть», в его исполнении это прозвучало как-то необычно, это напомнило преисполненный отчаяния выброс струящихся рукавов во время исполнения традиционной пекинской оперы, «ну-и-пусть».
Отец тем вечером изрядно выпил и наговорился, его изощренные примеры из древнекитайских текстов и поговорок лились потоком. Тубэй пил вместе с отцом, и в конце концов он понял, из-за чего тот убивался. Его «ну и пусть» относилось не к Тубэю, а к миссии и заветам семейства Инь. Подтекстом этого «ну и пусть» звучали горькие для восьми поколений предков слова о том, что клан семейства Инь прекращает свое существование! Под занавес отец вспомнил народную пословицу, на примере которой он сделал заключение о своих недостойных сыновьях: «Сын-тигр хуже, чем сын-семьянин». Это относилось к Тунаню. А о Тубэе он отозвался еще жестче: «Сын-баран хуже, чем сын-волк». Сказав это, отец замолчал и плотно сжал губы. Тубэю показалось, что именно такое твердое и одновременно уязвимое выражение лица присуще всем представителям их учительского рода. После этого старик закрыл глаза, откинулся назад и потерял сознание.
Отца отвезли в больницу. Сначала ему поставили диагноз «тепловой удар», однако не все было так просто. После того как они поменяли две больницы, состояние отца только ухудшилось. Его организм напоминал целые недра всяких болячек: чем глубже проводили обследование, тем больше недугов у него находили. Сначала ему сделали рентген с применением бариевой каши, потом сделали гастроскопию, потом провели гистологический анализ, в результате, к всеобщему ужасу семейства Инь, у него обнаружили рак желудка в последней стадии. Оказывается, он болел уже два или три года, но просто не замечал. Когда отца положили на операционный стол, то после разреза хирург тотчас зашил его снова. Вернувшись из больницы, отец обронил лишь одну фразу: «Перед предками позора не оберешься». В течение следующих двадцати с лишним дней отец отказывался от всякого лечения и проводил целые дни в ободранном плетеном кресле. Скрип, который издавало это старое кресло, казался еще более невыносимым, чем стон отца. Старик же, свесив голову, отупело взирал на снующих по улице Циншицзе детишек. Он никак не мог смириться с мыслью, что яркая полная луна в конце концов становится ущербной. День и ночь он повторял лишь одну и ту же фразу, которую произнес после возвращения домой: «Перед предками позора не оберешься». Эти слова и стали его предсмертным заявлением. Он повторил их раз сто.
Закончив с похоронами, Тунань возвратился в свой провинциальный центр, но через неделю неожиданно вернулся снова. Едва переступив порог, он воскурил в память отца свечи и отбил поклоны. Закончив обряд поклонения, он подозвал к себе Тубэя и сказал:
– Отбивай поклоны.
Тубэй послушался. Когда он уже вставал на ноги, старший брат вытащил плотный желтый конверт, это было извещение университета о зачислении. Без всякого выражения на лице он произнес:
– Это особое платное отделение, восемьдесят тысяч юаней.
Тубэй был застигнут врасплох, происходящее напоминало сон, ему с трудом верилось во все это. Он принял конверт, мельком взглянул на него и, подняв голову, спросил:
– Но почему в педагогический?
Старший брат, глядя на него, сделал шаг вперед:
– Повтори, что сказал.
Тубэй заткнулся. Когда брат произносил эту фразу, Тубэю надлежало замолчать. Как ни крути, а рок учительского ремесла его все же настиг. Судьба есть судьба, и если раньше Тубэю суждено было увязнуть под бдительным оком отца, то теперь он был погребен под молчаливым распоряжением старшего брата. Тубэй отвел взгляд, мысли его улетели вдруг совсем далеко. Словно в глаза ему дунул холодный ветер, донесшийся из глубины ста пятидесяти лет, из времен двадцать третьего года правления императора Даогуана.
Чтобы разбогатеть, Тунаню понадобилось пять лет, или, другими словами, одна тысяча восемьсот двадцать шесть дней. Сам Тунань говорил, что не относит себя к нуворишам. Ведь, по его словам, нувориши подсчитывают свои доходы, исходя из почасовой прибыли. Старший брат, вытянув палец вперед, несколько раз повторил, что он к нуворишам не относится. В его речи уже совершенно не чувствовалось деревенского акцента, присущего Дуаньцяочжэню, он уже давно четко разделял и верно употреблял звуки «цз, ц, с» и «чж, ч, ш».