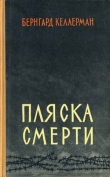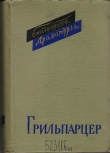Текст книги "Гауляйтер и еврейка"
Автор книги: Бернгард Келлерман
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
Казалось, гауляйтер никогда не был в лучшем настроении, чем в этот вечер. Марион пришлось выпить с ним вина, а на прощание он подарил ей кольцо с двумя большими брильянтами.
Время от времени он, добродушно посмеиваясь, возвращался к этой теме, что было пыткой для Марион.
Однажды, когда ротмистр Мен очутился возле нее, Румпф крикнул, ему смеясь:
– Осторожно, у этой дамы в платье спрятан кинжал!
Ротмистр Мен недоуменно посмотрел на Марион и пожал плечами. В другой раз Румпф не удержался от колких намеков в присутствии Фабиана.
О кольце с двумя брильянтами он никогда не спрашивал. И слава богу, так как правды Марион не могла бы ему сказать. Получив подарок, она немедленно показала его своей приемной матери, которая посмотрела на кольцо так, как смотрят разве что на ядовитое насекомое.
– Вымой руки содой, Марион, – распорядилась она. – Здесь в каждом камне по карату – посмотрим, хорошо ли они горят! – И старуха швырнула кольцо в топку плиты. Золото расплавилось, камни же, голубовато-черные, как сталь, почти не отличались от углей. Затем Мамушка совком вынула угли и бросила их в ящик с водой.
– Чтобы они ни на кого не накликали беды.
Гауляйтер по нескольку недель проводил в Польше, затем возвращался, утомленный и обессиленный попойками в тылу, и через несколько дней уезжал снова. Когда же он решил остаться там на более продолжительное время, то был срочно вызван телеграммой в Мюнхен. Он получил новое назначение, и его автомобили снова помчались на восток. К концу польского похода гауляйтер опять прибыл в Айнштеттен.
– На этот раз уже надолго, – заявил он.
Он пригласил Марион к чаю и очень тепло ее приветствовал. Приглашены были еще майорша Зильбершмид, которую Марион уже несколько раз видела в Айнштеттене, и адъютанты Румпфа Фогельсбергер и Мен, капитан Фрай погиб на фронте. Марион от души радовалась, что она здесь не единственная гостья. Майорша Зильбершмид всегда вела себя с ней изысканно вежливо. Она, как говорили, была помолвлена с Фогельсбергером, однако оставалась в большой дружбе с гауляйтером.
Как-то раз майорша сказала Марион:
– Гауляйтер очень высоко ставит вас. Он влюблен в ваш смех и сделает для вас все, что угодно.
Марион отвечала, что это ее очень радует, но ей от него ничего не нужно.
– Тогда вы просто дурочка, дитя мое, – неодобрительно заметила майорша. – Я была бы счастлива, если бы он хоть наполовину относился ко мне так, как относится к вам.
Гауляйтер, упоенный победами немецких войск, пребывал в превосходнейшем расположении духа. Чаепитие началось с того, что он предложил гостям всевозможные сорта водок.
– Польский поход останется одной из самых блестящих кампаний в истории! – воскликнул он. – Мы смели их в кучу, как опавшие листья. Польша исчезнет с лица земли. Сила – это все, вот вечная истина. Великий народ должен воевать! Англия и Франция воевали и стали великими! А если великий народ устает воевать, он гибнет. Мы, слава богу, завоевали жизненное пространство. Мы – великий народ и не можем довольствоваться трехкомнатной квартирой. Это недостойно нас.
И он стал рассказывать, что в Польше ему предложили имение в двадцать тысяч моргенов и замок во французском стиле. В замке посеребренная арматура и шесть ванных комнат, сверху донизу выложенных великолепным кафелем. Но вокруг этого замка болота, слякоть, грязь. Немецкое прилежание и немецкая настойчивость превратят запущенную Польшу в рай.
Ротмистр Мен позволил себе заметить, что война еще не кончена, Англия и Франция попытаются затянуть ее.
Гауляйтер расхохотался.
– Попытаются, попытаются, дорогой Мен, – крикнул он смеясь, – мы им доставим это удовольствие. Боюсь только, что оно им скоро надоест. Блестящая дипломатия фюрера, нейтрализовавшая Россию, вывела из мировой истории Англию и Францию, они теперь не играют никакой роли. Господа, – продолжал гауляйтер, – приглашаю вас отпраздновать нашу полную победу над Польшей. Сегодня вечером в десять часов!
Все обещали прийти, только Марион сказала, что, к сожалению, не может: отец болен и ждет ее. Гауляйтер заботливо проводил ее до двери.
– Я очень сожалею, что именно вы уходите, – сказал он.
Ротмистр Мен, как всегда, проводил ее до дому.
VII
Марион была в большой тревоге. Нет, ей не следовало решаться на тот первый шаг, не следовало! Мамушка держалась того же мнения.
– Подальше от этих нечестивцев, – говорила она. – Мы бросаем вызов богу, когда приближаемся к ним хотя бы на шаг.
Да, но она сделала этот шаг, и отступать теперь слишком поздно. Не надо было обращаться к гауляйтеру по поводу школьного помещения, даже если бы они все задохлись в грязи и пыли. А она-то еще наряжалась и прихорашивалась. О, конечно, не затем, чтобы влюбить в себя Румпфа! Нет, нет! Это ей и в голову не приходило. Но она хотела произвести на него впечатление, чтобы он не ответил отказом. «Кроме того, – думалось ей, – пусть он убедится, что еврейки бывают красивы и умеют одеваться».
Она была жестоко наказана за свое тщеславие. Улыбка сбегала с ее лица, когда в школе ей сообщали, что господин ротмистр Мен желает заниматься с ней сегодня в пять вечера. Отступления не было. Она не могла отказаться, не подвергая опасности жизнь отца, Мамушки и, быть может, свою собственную. Гауляйтер дважды доказал ей свое расположение: в первый раз, когда вернул отцу институт, и второй – когда открыл перед ним ворота Биркхольца, где много сотен евреев и поныне ждали освобождения.
К величайшей своей радости, после того как гауляйтер вернулся из Польши, она встречалась с ним очень редко. Пожалуй, не чаще, чем раз в месяц. По-видимому, он теперь действительно был «перегружен делами». «В последние недели урок с вами – мой единственный отдых», – часто повторял он.
Марион стала свободнее и увереннее в своем обращении с Румпфом и ежедневно благословляла того, кто выдумал бильярд: эта игра была ее спасением в часы, которые она проводила в «замке». Но и эти немногие часы требовали от нее огромного напряжения сил; нельзя было ни на секунду забыться. Гауляйтер желал видеть ее естественной и веселой; хорошо, она была естественна и весела… Он любил ее смех, и она часто смеялась, что ей было нетрудно. Надо было держаться с ним так, чтобы он не скучал с ней и, главное, чтобы он не находил ее менее привлекательной. В этом состояла самая большая трудность. Она вынуждена была всегда изысканно одеваться и порой даже слегка кокетничать с ним.
Марион уж давно перестала носить с собою кинжал, – это была просто романтическая выходка, порожденная страхом.
Румпф тотчас же это заметил.
– Что я вижу, – сказал он. – Вы больше не носите при себе кинжал? А что же вы сделаете, если на вас нападет бродяга?
– Я пущу в ход голос, ногти и зубы, – ответила Марион, показывая зубы.
Румпф смеялся до упаду.
– Вот так-так! – восклицал он. – Да тут, пожалуй, сбежит и самый лихой разбойник!
Марион хорошо изучила гауляйтера. Он был человеком настроения. Когда он пил красное вино и курил сигару, в разговоре с ним все шло гладко. Его отличительными чертами были тщеславие и эгоизм.
Впрочем, в Румпфе она находила много противоречивого и загадочного: он бывал добродушен и жесток, вежлив и варварски груб, чувствителен и циничен.
Она часто думала, что он просто избалованный ребенок, которому дали возможность своевольничать.
Любил ли он ее, если он вообще был способен любить, она не знала, хотя он часто уверял ее в этом. Но она ему, бесспорно, нравилась.
То, что она еврейка, его нисколько не смущало.
– Это мне совершенно безразлично, – сказал он. – Я моряк, десять лет я прожил в чужих краях и хорошо знаю свет. Повсюду я видел евреев, мирно живущих с другими народами; антисемитом может быть только человек, никогда не выходивший за околицу своей деревни; я в этом убежден. Не скажу, чтобы я был другом евреев, нет, не так уж я их люблю, но в травле евреев я участвовать не намерен. Конечно, я должен подчиняться определенным указаниям, как всякий, кто не совсем свободен. А ведь даже американский президент, и тот не совсем свободен: бесчисленные миллиарды долларов указывают ему путь, по которому он должен идти. Евреи со своим инициативным умом и деловитостью на протяжении сотен лет участвовали в созидании Германии, почему же теперь считать их людьми второго сорта? Это несправедливо. А если иной раз они слишком пробиваются вперед, надо просто наступить им на ногу и призвать их к скромности. Не так ли? Но кое-что я все-таки сделал бы, и знаете, что именно? Я отрезал бы одно ухо всем тем евреям, которые слишком далеко заходят в своей жажде наживы и обманывают людей; я сделал бы это хотя бы для того, чтобы предостеречь людей от обманщиков.
– Это было бы справедливо только тогда, – сказала Марион, – если бы вы отрезали ухо и всем прочим обманщикам, какой бы они ни были расы.
Румпф взглянул на Марион, прищурив один глаз.
– Да, правильно, надо быть справедливым, – ответил он. – Из любви к вам я отрежу уши обманщикам всех рас.
Вдруг он расхохотался. Ему пришло в голову что-то забавное.
– Нет, это не годится, – сказал он, – народы не одобрили бы такой закон. Что бы из этого получилось? В конце концов образовались бы одноухие нации! – И он снова захохотал.
Вскоре после небольшого приема, на котором была Марион, гауляйтер сказал ей:
– Знаете ли вы, фрейлейн Марион, что я подыскал для вас в Польше очаровательный маленький замок?
– Для меня? Маленький замок? – рассмеялась Марион.
– Да, для вас, – продолжал Румпф, – но подробный разговор об этом мы отложим. Мне кажется, он создан для вас и находится всего в каких-нибудь двух часах езды от большого имения, которое предназначено мне. Я заказал в Польше снимки с этого замка, вы сами сможете судить о нем.
Новые таинственные планы Румпфа встревожили Марион, но вскоре она забыла о польском замке. И вот однажды гауляйтер радостно сообщил ей, что из Польши наконец прибыли снимки. Он указал на бильярд, заваленный фотографиями.
– Подойдите поближе, фрейлейн Марион, и посмотрите сами, – сказал он весело, как ребенок, получивший желанный подарок. – Этот замок принадлежал польскому князю – ведь князей в Польше были сотни, – его имя мне, к сожалению, не выговорить. Мне хотели его подарить, но я приобрел этот замок на законном основании, за килограмм польских бумажных денег, – из нашей добычи, разумеется. Как он вам нравится?
Это был небольшой старинный замок в стиле пышного рококо, необычайно красивый.
Марион внимательно рассматривала фотографии, притворяясь заинтересованной. Она кивнула.
– Великолепно, – сказала она. – Я нахожу его просто очаровательным.
– А вот фонтан перед замком, – продолжал Румпф, указывая на другую фотографию. – Группа веселящихся наяд.
На бильярде лежало еще множество превосходных снимков: комнаты, порталы, лестницы, залы, будуары, аллеи, беседки, уголки парка.
– Вот это покои, салоны и будуары княгини, – объяснил Румпф и, смеясь, добавил: – Или, говоря точнее, той дамы, которая отныне будет жить в нем. Мне особенно нравятся снимки парка. Взгляните на эти кусты и заросшие беседки! Я все время думал о вас, когда жил там. Мне казалось, что все это придется по вкусу моей маленькой гордой еврейке, – закончил он.
Весь вечер он возвращался к разговору о замке, расположенном так близко от его имения.
– Я предоставлю этот замок в ваше распоряжение, Марион, – сказал он. – Вы будете жить среди крестьян, как княгиня. Разумеется, вы возьмете с собою вашу приемную мать и отца. Поймите меня правильно. Не исключено, что наступит время, когда евреям будет запрещено жить в Германии. Тогда я отдам этот замок вам и вашей семье, и вам, конечно, будет приятно иметь надежное убежище. – Увидев, что Марион побледнела, он успокоительно прикоснулся к ее руке. – Ведь этого еще нет, Марион, но все может случиться. Возьмите с собой фотографии, и, если у вас будут какие-нибудь пожелания, то скажите мне. В ближайшие дни я надолго уеду в Польшу, где буду управлять одной из завоеванных провинций. Когда я вернусь, сообщите мне ваше решение. Идет?
– Великолепно, – сказала седовласая курчавая Мамушка, когда Марион показала ей фотографии. – Великолепно, господин гауляйтер! Но нам ничего этого не нужно. Даже если вы выложите все лестницы брильянтами. Если уж дойдет до этого, то мы убежим в Швейцарию. В крайности пешком пойдем, хотя бы нам пришлось идти целый год!
VIII
Учитель Гляйхен, заведовавший деревенской школой в Амзельвизе, был занят до пяти часов. В шесть он ежедневно отправлялся на прогулку, даже зимой, когда в эти часы было уже совсем темно. Он всегда шел по прямой тополевой аллее, которая вела в город, и неизменно встречал на своем пути, худощавого седого человека в мягкой шляпе с двумя очаровательными золотисто-желтыми таксами. Оба останавливались и с четверть часа болтали друг с другом. Доктор, как называл этого человека Гляйхен, передавал ему пачку газет и сверток с какими-то заметками. Гляйхен же вынимал иэ кармана рукопись и вручал ему; потом они вместе отправлялись в город и исчезали в одном из доходных домов Ткацкого квартала. Но это бывало редко, не чаще, чем раз в две недели. Обычно Гляйхен тотчас же возвращался обратно в свой домик, где жил с больной женой, уже два года не встававшей с постели, и сыном – бойким четырнадцатилетним мальчиком.
Вечера он проводил за работой. Такую жизнь Гляйхен вел уже много лет. Это было нелегко, но что поделаешь!
Полночи он сидел над книгами и картами, заметками и газетами, полученными от доктора. Затем часами торопливо писал, всецело погруженный в свою работу, исписывая страницу за страницей. Отсюда, из своей маленькой мансарды, Гляйхен руководил всей подпольной контрпропагандой в округе. Письма, подписанные «Неизвестным солдатом», были только частью этой работы.
Случалось, что для сна ему оставался лишь какой-нибудь час. До утра он, как зверь в клетке, шагал по комнате. Мысли о страшном положении Германии, о злосчастной судьбе немецкого народа не давали ему ни мгновения покоя. На одной стороне – грозная Англия и могущественная Франция, пока еще не сказавшая своего слова Америка и загадочный сфинкс – Россия, на другой – пустобрех и авантюрист, невежественный и бессовестный, который вызывает на бой все силы мира! Катастрофа неминуема! Ужас охватывал его.
Ночи напролет раздумывал он над судьбою Вольфганга, все еще узника в Биркхольце, и без устали ломал себе голову над тем, как завязать с ним сношения. До сих пор это не удавалось, хотя они и сумели наладить систематическую связь с лагерем в Биркхольце.
Но случай помог ему. Доктор, с которым он встречался на шоссе, обратил его внимание на снимок, появившийся в одной, иногородней газете; снимок этот наводил на мысль о Вольфганге. В иллюстрированном приложении к этой газете появилась фотография с надписью: «Искусство в Биркхольце». Это звучало как насмешка. «Жена коменданта позирует скульптору». По-видимому, печальная слава Биркхольца повсюду вызывала слишком бурное негодование, и власти пытались успокоить народ.
Искусство в Биркхольце! Гляйхен громко рассмеялся, что редко случалось с ним. В сильнейшем волнении он разглядывал фотографию: полнотелая женщина с пышной, вызывающей прической, сидя в удобном кресле, позировала скульптору. Незаконченный бюст все же свидетельствовал о том, что его лепила рука большого мастера. Судя по фигуре скульптора, намеренно отодвинутого на задний план, так что изображение вышло неясным, им мог быть только Вольфганг Фабиан.
Гляйхен много лет писал в газетах и журналах по вопросам искусства. Он разыскал несколько своих наиболее удачных статей со множеством снимков и, внутренне смеясь, послал коменданту Биркхольца, сопроводив их потоком лестных уверений в преданности. Он, искусствовед Гляйхен, покорнейше просил предоставить ему возможность ознакомиться с бюстом комендантши, который, несомненно, привлечет к себе внимание широких кругов. Расчет Гляйхена на. женское тщеславие «модели» и на стремление коменданта к шумихе оправдался, и через несколько дней ему было дано разрешение явиться в Биркхольц.
Он увидел печально знаменитый лагерь, страшный своей оторванностью от мира, но его быстро провели в роскошную, комфортабельную виллу коменданта, расположенную на опушке леса. Дежурный проводил его на верхний этаж, и глазам его представилась «модель» с ее вызывающей прической и Вольфганг в белой рабочей блузе. Здороваясь с дородной, полногрудой дамой, Гляйхен высоко вскинул руку и громко произнес: «Хайль Гитлер!». Вольфганга он, якобы, просто не заметил. Комендант, к счастью, был занят служебными делами.
Вольфганг тотчас узнал его и чуть-чуть улыбнулся, чтобы скрыть свое удивление. Гляйхен же едва узнал Вольфганга. Его густые волосы были коротко острижены, лицо со впалыми щеками выглядело страшно, во рту у Вольфганга недоставало нескольких зубов, вдобавок он слегка прихрамывал. Руки его, так хорошо знакомые Гляйхену, казались руками скелета.
Как искусствовед Гляйхен должен был, конечно, со всех сторон осмотреть бюст, так что позировавшей даме пришлось встать.
– Вы сотрудничаете в «Беобахтер»? – спросила дама с вызывающей прической.
– Нет, – ответил Гляйхен, – я пишу для крупных художественных журналов и позволю себе прислать госпоже комендантше мои статьи.
Это была довольно красивая, добродушная женщина; до замужества она служила буфетчицей в баре. Вскоре ее голос донесся из соседней комнаты: она обстоятельно беседовала по телефону с портнихой. Почти десять минут друзья говорили вполголоса. Услышав, как стукнула положенная на место трубка, они пожали друг другу руки, и Гляйхен стал усердно записывать что-то в свою книжку. Через несколько минут он ушел.
На обратном пути он все время тихонько посмеивался, его глаза утратили мрачное выражение и весь день, казалось, излучали свет. Только теперь он понял, как дорог ему Вольфганг.
В тот же день он потратил два часа на то, чтобы добраться до Якобсбюля и передать Ретте поклон от Вольфганга, а также сообщить, что профессор надеется на скорое освобождение. Затем он позвонил дамам Лерхе-Шелльхаммер, которым сообщил, что дал слово Вольфгангу Фабиану лично передать им привет. Его попросили прийти на следующий день под вечер.
Назавтра, после окончания занятий в школе, Гляйхен отправился в путь.
– И вы в самом деле были в Биркхольце? – крикнула ему фрау Беата, едва только он переступил порог комнаты. – Как же вам, скажите на милость, удалось туда проникнуть? Нам это показалось невероятным.
– В каком состоянии вы нашли профессора? – перебила ее Криста.
Обе они были в страшном волнении.
– Вы должны нам все рассказать, господин Гляйхен. Слышите?
– Все, все до мельчайших подробностей.
Гляйхен подробно рассказал им о своей рискованной затее и счастливой случайности, позволившей ему говорить с Вольфгангом наедине.
– Он был счастлив, что вы решились побывать у него в Якобсбюле, – сообщил Гляйхен. – «Только мысль, что друзья меня не забывают, еще поддерживает во мне мужество», – сказал профессор.
Дамы прежде всего хотели знать, скоро ли его выпустят.
– Да, – ответил он, – эта добродушная дама из бара сказала Вольфгангу: «Постарайтесь, чтобы бюст был похож, тогда я попрошу начальника освободить вас». Бюст, между прочим, был бы давно готов, если бы она не изобретала все новые и новые прически. Но последняя, кажется, удовлетворяет ее.
– Да благословит бог даму из бара! – смеясь, воскликнула Криста.
– А война, господин Гляйхен? – спросила фрау Беата, когда они сели пить чай. – Что вы думаете об этой злополучной войне?
– Война? – Гляйхен посмотрел на дверь мрачными серыми глазами. – Можно здесь говорить без опаски?
Фрау Беата рассмеялась.
– Да, – отвечала она, – здесь вы смело можете говорить. За подслушивание мои горничные получают пощечины, что не так-то приятно.
– Хорошо, – сказал он и продолжал своим выразительным голосом, будто читая стихи: – Война? Война проиграна.
– Что? – крикнула Криста. – Что вы говорите?
Фрау Беата тоже воскликнула:
– Что вы говорите? Вы сошли с ума!
Улыбка мелькнула на губах Гляйхена. Покачав головой, он отвечал совершенно спокойно:
– Ничуть, война проиграна. Это так же верно, как то, что реки текут в моря. Война ведется с помощью нефти, стали, идей. Всего этого у наших противников больше, чем у нас!
Тут фрау Беата вскочила и, торжествуя, так стукнула ладонью по столу, что вся посуда зазвенела.
– Подождите минутку! – крикнула она. – Вот вы и попались в ловушку, господин Гляйхен! Криста, где письмо «Неизвестного солдата»? Это письмо рассылается многим в городе.
– Я тоже получил его, – заверил Гляйхен. – Оно мне знакомо.
Фрау Беата положила письмо на стол перед Гляйхеном.
– Как странно, – воскликнула она, – в нем сказано то же самое, в тех же выражениях!
– Что же тут странного? – улыбнулся Гляйхен. – Я цитирую слова «Неизвестного солдата» потому, что считаю кх правильными. А правда лучше всего выражается одними и теми же словами.
– Вы, значит, придерживаетесь того же мнения, что и «Неизвестный солдат»? – спросила Криста. – А наши успехи в Польше? А теперь и в Норвегии? Это, по-вашему, дела не меняет?
Гляйхен покачал головой.
– Нет, нисколько, – сказал он серьезно. – Война продлится еще годы. Англия и Франция – враги страшные и упорные. Совершенно бессмысленная оккупация Норвегии еще раз показала, что мы имеем дело с безмозглым дураком. Будь у генералов хоть капля разума, они должны были бы сегодня же заковать его в цепи. Но, к счастью, разума им не надо, они, видимо, полагают, что авантюра в Норвегии – это «великая идея», осенившая гения, тогда как на деле это дилетантская затея фантазера, который не успокоится, прежде чем не прольет последнюю каплю немецкой крови. Польша стоила нам гораздо больше крови, чем было сообщено немецкому народу, а знаете ли вы, сколько десятков тысяч наших матросов погибло из-за норвежской авантюры? Знаете ли вы, сколько наших отважных юношей ежедневно задыхается, тонет, гибнет в подводной войне? Сколько их разорвало на куски гранатами? Сколько день за днем и ночь за ночью гибнет в воздушных боях? Мы истечем кровью, капля за каплей!
Криста с напряженным вниманием прислушивалась к мрачным выводам Гляйхена, но фрау Беата рассердилась. Ей не понравился наставительный, непререкаемый тон Гляйхена, но больше всего ее раздосадовала слепая доверчивость Кристы.
– Только не вздумай принимать за чистую монету все, что говорит Гляйхен, – сердито сказала она Кристе. И заодно обернулась к Гляйхену. – Меня удивляют ваши рассуждения! – воскликнула она, насмешливо улыбаясь. – Вы, кажется, не допускаете и мысли, что люди, сидящие в правительстве, тоже о чем-то думают?
– Нет! – решительно ответил Гляйхен. В его голосе слышалось легкое недоумение. – Они ни о чем не думают. Только одному человеку в правительстве дано право думать, но этот один на ложном пути.
– Чем же это кончится?
Она была очень взволнована и налила всем коньяку.
Гляйхен немного подумал, его глаза стали суровыми и печальными.
– Никто не знает, чем это кончится. Ясно только одно: это кончится катастрофой! – сказал он спокойно и решительно.
Криста беспомощно покачала головой.
– Так неужели же не найдется никого, кто возьмет на себя великую ответственность?
– Никого, – так же спокойно и уверенно проговорил Гляйхен. – Сейчас власть захватили люди, которые никогда ничего не имели и которым нечего терять. Промышленники, давшие им эту власть, наживают миллионы и миллиарды, офицеры и генералы получают ордена, двойные и тройные оклады, поместья, никогда им не жилось лучше. Все они гребут деньги лопатой. О какой тут можно говорить ответственности? Какое им дело до того, погибает ли в день две тысячи или пять тысяч человек? А когда карточный домик наконец рухнет, азартные игроки пустят себе пулю в лоб. Это и будет финалом трагедии.
Гляйхен ушел, оставив обеих дам Лерхе-Шелльхаммер в смятении и раздумье.
Поздним вечером того же дня раздался пронзительный вой сирен. На этот раз дело, по-видимому, было серьезное. Десятки прожекторов ощупывали темное небо, и зенитные орудия били без передышки. Из темноты доносился шум далеких моторов, и сенбернар Нерон выл не переставая, так что Кристе пришлось забрать его в дом.
Подвал в доме старика Шелльхаммера был построен так надежно и крепко, что использовался как бомбоубежище обитателями всех соседних домов. Когда женщины, мужчины и дети наконец пробрались сквозь тьму и грязь к подвалу, был дан сигнал отбоя, и все снова разошлись по домам. Слабое зарево пожара над погруженным в темноту городом скоро исчезло.
На следующее утро стало известно, что небольшое соединение английских разведчиков совершило налет на город и сбросило две бомбы, не причинившие сколько-нибудь значительного ущерба. Одна упала в сад, от другой загорелась пустая конюшня. Говорили, что два самолета были сбиты зенитными орудиями.
Люди собирались у сгоревшей конюшни и посмеивались: «Они прилетели из Англии, чтобы уничтожить эту злополучную конюшню. Большая удача, что и говорить!»
Гляйхен тоже пришел в город посмотреть разрушения после налета. В толпе любопытных он увидел своего коллегу, пожилого учителя, который, как и все, находился в приподнятом, боевом настроении.
– Большого вреда они нам, откровенно говоря, не причинили, – заметил он смеясь. – Да и мыслимо ли тащить из Англии тяжелые бомбы и необходимое количество горючего?
На следующий день «Неизвестный солдат» в своем письме корил население за зубоскальство и заносчивость, за близорукость и, главное, за ребяческий оптимизм. «Опасность сильнее, опасность ближе, чем вы думаете, будьте начеку! – писал „Неизвестный солдат“. – Настанет время, когда тысячи самолетов среди бела дня появятся над нашим городом и от него не останется ничего, кроме груды мусора и развалин!»
IX
Это были волнующие дни. Вчера все поезда шли на восток, сегодня они все идут на запад, состав за составом, днем и ночью. Войска, войска, войска, пехота, артиллерия, танковые части, летные части, бесконечный поток солдат; на вокзале нередко стояли по три состава одновременно.
Как разъяренное море, захлестывала германская армия границы на западе; она шла по Голландии, Бельгии, Франции, сметая все, что попадалось ей на пути. У Дюнкерка немцы сбросили в море англичан, и Фабиан торжествовал. «Не надо спать, когда сторожишь свои богатства!» – издевался он. Немецкие танковые части наступали на Париж, и сердце Фабиана билось еще сильнее. Он злорадствовал. Какое унижение терпит высокомерная Франция, которая в Версале так безжалостно втоптала в грязь Германию!
Когда немецкие авангарды перешли Марну и в сводках стали появляться названия мест, где он воевал в свое время, им овладело почти праздничное настроение; он еще хорошо помнил, где тогда были расположены его орудия! Чтоб отметить эти дни, он позвал на обед в «Звезду» сыновей и разрешил мальчикам заказать их любимые блюда.
Гарри и Робби тщательно принарядились; оба были в синих костюмах. Робби, впервые надевший длинные брюки, был убежден, что все посетители ресторана «Звезда» заметили это, и чувствовал себя, не совсем уверенно; вдобавок мать так сильно напомадила ему волосы, что его все время преследовал запах помады.
Зато Гарри, одетый с иголочки и подтянутый, чувствовал себя, подобно своему отцу, превосходно. Он записался добровольцем в танковую часть и через три месяца ожидал зачисления в полк, но уже и теперь считал себя солдатом и при всяком удобном случае становился навытяжку.
Никто не мог бы осудить отцовскую гордость Фабиана, когда он привел своих сыновей в ресторан. В самом деле, у него были все основания считать себя счастливым отцом.
Как только подали суп, мальчики снова почувствовали себя непринужденно, и Фабиану часто приходилось напоминать им, чтоб они не говорили так громко и не перебивали друг друга. Оба они получили по бокалу вина и выпили за победу на западе.
Фабиан воспользовался случаем, чтобы рассказать сыновьям о роли битвы на Марне в мировой войне, когда одному-единственному военачальнику пришлось решать вопрос о наступлении или отступлении армии.
– Как это могло быть? – спросил Гарри.
– Да так вот, генералы растерялись, не зная, что лучше – прорваться вперед или же сосредоточиться в одном месте.
– Сегодня бы они не колебались! – воскликнул Гарри, сверкая глазами.
– Нет, сегодня бы они не колебались, – с улыбкой повторил Фабиан пылкие слова сына.
За обедом больше всех ораторствовал Гарри. Экзамены в школе – о них он вовсе не думает, этим экзаменам, слава богу, сейчас не придают значения; гораздо важнее, что ему удалось поступить в танковую часть, – и этим он прежде всего обязан полковнику фон Тюнену. Через три года он может стать офицером!
– И я стану им! – восторженно воскликнул Гарри. – А что ты скажешь о Вольфе фон Тюнене, папа? Он уже капитан! Вот ведь отчаянная голова.
Он вынул из кармана приложение к утренней газете и разложил его на столе. Там был помещен портрет «юного героя Вольфа фон Тюнена, капитана, награжденного Рыцарским крестом». Рядом с ним – портрет баронессы, которая называла себя «самой гордой и счастливой матерью в городе».
– Когда-нибудь и я добьюсь этого! – заявил Гарри. – Это не пустяки, – подстегивал он сам себя, – первый офицер в полку, получивший Рыцарский крест! Первый офицер во всем городе! Говорят, что Вольф вывел генерала и весь штаб из окруженной деревни. Вот ведь молодчина, правда? – Он продолжал мечтать вслух и замолчал, только когда на стол были поданы три румяных жареных голубя, вид которых остановил течение его мыслей.
– Твои голубки, Робби! – сказал он, обращаясь к брату, заказавшему свое любимое блюдо.
– Целая поэма! – воскликнул восхищенный Робби.
– Нельзя же все-таки называть поэмой жареных голубей, – подтрунивал над ним Гарри.
– Почему же нет? – засмеялся Робби. – Их можно назвать даже собранием поэм.
– Ты хочешь сказать, что каждому дано право быть безвкусным? – снова начал Гарри. Он положил себе на тарелку голубя и сразу принялся ловко разрезать его.
– А из моей летающей бомбы будет прок, папа, – сказал он самоуверенно. Гарри любил поговорить о себе.
– Ты значит, еще не расстался с этой идеей? – спросил отец.
В ответ Гарри рассмеялся, как бы желая сказать, что не так-то легко расстается со своими идеями.
– Конечно, нет, папа. Мне удалось заинтересовать ею полковника фон Тюнена.
Гарри уже довольно давно был занят изобретением, которое он называл летающей бомбой. Планер подымал бомбу и, находясь над целью, автоматически сбрасывал ее.
– Ты только нажимаешь кнопку, папа, и артиллерийский склад взлетает на воздух. Бум! – произнес Гарри и нажал на стол, словно там находилась кнопка.