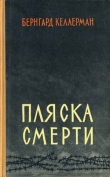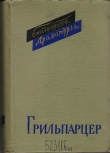Текст книги "Гауляйтер и еврейка"
Автор книги: Бернгард Келлерман
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Посидев немного, мальчики распрощались.
Фабиан смотрел, как они шли по коридору, – Гарри со своим почетным кинжалом и малыш Робби с забинтованной головой и флажком.
«Мои сыновья! – думал он. – Еще много лет они будут нуждаться в руководстве. Хорошо, что они пришли и напомнили мне об обязанностях отца».
XVI
Фабиан часто ужинал с Шарлоттой в гостинице. Время от времени она приглашала его на обед в свою маленькую прелестную квартирку; она сама придумывала и заказывала изысканные кушанья. Это был один из ее талантов. К обеду подавали только самые дорогие рейнские вина и неизменное шампанское, Шарлотта помнила о просьбе гауляйтера не скупиться.
Постепенно Фабиан привык к Шарлотте, но к красоте ее привыкнуть не мог, каждый день она наново поражала его. Образ Кристы все больше и больше бледнел, хотя тоска от этой потери улеглась не скоро. Свое прощальное письмо к Кристе он сжег. «Какое это было заблуждение! – с упреком сказал он себе. – Прежде всего надо было думать о сыновьях!»
Тоска по Кристе вновь пробудилась в нем, когда однажды из Баден-Бадена пришло письмо от фрау Беаты. К нему был приложен чек на большую сумму. Фрау Беата холодно, но очень вежливо благодарила его за хлопоты и сообщала, что пришла к соглашению с братьями. Ни привета, ни слова от Кристы.
Фабиан вздохнул, покачал головой и спустился в ресторан, чтобы поужинать с Шарлоттой и ротмистром Меном. Мен был назначен заместителем гауляйтера и в его отсутствие вел все дела.
Неудивительно, что Шарлотта, которая спала до двенадцати, а после обеда тратила долгие часы на свой туалет, по вечерам блистала свежестью. Она кокетничала с ротмистром Меном, вызывающая внешность которого нравилась ей.
– Господин ротмистр, – сказала она ему, смеясь, – у вас такой вид, будто вы не знаете страха. Вы в самом деле ничего не боитесь?
– Помилуйте, я боюсь вашей красоты, – возразил ростмистр.
– Значит, и красота может отпугивать? – Шарлотта сделала удивленное лицо. – А вы, мой друг, – обратилась она к Фабиану, – вы тоже страшитесь моей красоты?
Фабиан покачал головой.
– Нисколько.
– Слава богу! – воскликнула Шарлотта с облегчением и взглянула на Фабиана своими сияющими, прекрасными глазами. – Тогда у меня есть надежда. Я опасалась, что вас мучает несчастная любовь. Вы так часто бываете мрачно настроены.
Весь день Фабиан вспоминал ее взгляд и ее глаза. «Нет, – думал он, – с несчастной любовью покончено навсегда».
Иногда в сумерки он отправлялся погулять с ней, поглядеть на витрины. Ему было приятно показываться с такой красивой женщиной. Люди удивлялись Шарлотте, она казалась им человеком с другой планеты, населенной более красивыми существами.
– Это любовница гауляйтера, – донеслись до него однажды слова, которые муж шепнул на ухо своей жене.
Любовница? Это слово кольнуло его.
Он редко входил с ней в магазины, когда она делала покупки, так как у нее была дурная привычка намекать на свое интимное знакомство с гауляйтером.
С этих коротких прогулок они возвращались обратно в гостиницу, чтобы еще немного поболтать. Скоро он совершенно забыл Кристу и даже перестал видеть ее во сне.
Как-то вечером Шарлотта пригласила Фабиана к себе на ужин.
– У меня сегодня праздник! – таинственно сказала она. – А что за праздник, вы узнаете потом.
Он купил на редкость красивые цветы для этого вечера. «Должно быть, она празднует день рождения», – подумал Фабиан.
В небольшой, празднично освещенной столовой стол был накрыт наряднее, чем когда-либо. Серебро и хрусталь сверкали, в графинах мерцало белое и красное вино.
– Я здесь! – крикнула Шарлотта из маленькой гостиной. Разряженная, она полулежала в кресле к протягивала ему руку для поцелуя.
Фабиан подал ей цветы.
– Незнакомому богу этого праздника! – сказал он.
Шарлотта тихонько поблагодарила его. По-видимому, ей было не по себе, хотя она выглядела, как всегда, холеной и свежей. Устало и равнодушно взяла она цветы.
– Что с вами, сударыня? – спросил Фабиан, радостно ожидавший этого вечера.
– Сударыня? – переспросила Шарлотта, насупившись, с недружелюбной ноткой в голосе. – Зовите меня просто Шарлоттой.
Он нагнулся к её руке.
– Что с вами сегодня, Шарлотта?
Она устало улыбнулась. Эта апатичная улыбка встревожила его. Наверно, Шарлотта простужена.
– У меня болит голова, дорогой друг, – сказала она наконец. – Я уже испробовала все средства, но боль не проходит. – Вздохнув, она снова откинулась в кресле и замолчала. Затем стала медленно растирать виски своими нежными пальцами, утверждая, что это единственное средство, которое ей помогает. – Может быть, теперь вы попробуете?
– Боюсь, что у меня недостаточно ловкие руки, – ответил Фабиан.
– Напротив, я уверена, что ваша рука насыщена магнетизмом. Все равно, попытайтесь, – упрямо настаивала Шарлотта.
Фабиан послушно приблизился к ней и стал медленно, нежно, неустанно повторять одни и те же движения, водя пальцами ото лба к уху.
– Как хорошо, – прошептала Шарлотта, – чудесно. Я уже чувствую, как меня начинает клонить ко сну. Я ведь всю ночь не спала… – Потом она уже только бормотала: – Хорошо… Замечательно… – И наконец лишь приоткрывала губы, как бы силясь сказать: «Замечательно!» Скоро она перестала даже шевелить губами, а Фабиан продолжал делать те же магнетические движения. Лицо ее приняло спокойное выражение.
У него было достаточно времени, чтобы рассмотреть это сказочно красивое лицо, внушавшее ему какую-то робость. Лоб, нос, щеки, губы – как все это было совершенно! Особенно хорош был рот, нежный и вместе с тем сильный. Более красивого рта Фабиан никогда не видел. По форме ее рот напоминал слегка округленные лепестки роз. Фабиан даже отчетливо разглядел бесконечно нежный светлый пушок на верхней губе. Шарлотта наконец испустила чуть слышный вздох и больше не шевелилась. По-видимому, уснула.
Повременив немного, Фабиан осторожно отнял руки от ее висков, но, когда он хотел было бесшумно встать, ему почудилось, что в уголках рта спящей заиграла улыбка. Мгновение спустя улыбка обозначилась отчетливее, и Шарлотта раскрыла глаза; ее ясный взгляд ошеломил его.
– Я хорошая актриса, правда? – спросила она шепотом. – Как вы думаете, далеко я пойду? – продолжала она уже громче, разражаясь звонким, торжествующим смехом.
Фабиан не мог выговорить ни слова и только кивал – так он был поражен.
Шарлотта обхватила его шею своими нежными руками с силой, которой он не предполагал в ней, притянула его голову к своему лицу и решительно поцеловала в щеку. Затем она вскочила и громко расхохоталась.
– Вы все еще не боитесь моей красоты? – воскликнула она. – Нет? Ну, давайте начнем наш праздник.
И позвонила официанту.
Праздник длился до рассвета, и, расставаясь, они уже говорили друг другу «ты».
С того вечера они стала неразлучны. Их часто видели вдвоем в машине. Шарлотта заезжала за Фабианом в Бюро, по воскресеньям они отправлялись за город. Так, словно молодожены, провели они вместе прекрасное лето.
Однажды Фабиан даже взял ее с собой в Берлин, куда он на неделю отправился по делам службы. Красота Шарлотты очаровывала всех. Разговоры смолкали, когда она проходила мимо. Ее успех льстил Фабиану.
Впрочем, он замечал, что она не остается равнодушной ко взглядам восхищающихся ею мужчин. Она широко раскрывала глаза и улыбалась особенной улыбкой – более живой, даже одухотворенной, а иногда более нежной, чем обычно. И смех ее тоже менялся: он звучал громче, победнее, но зато часто казался и деланным, искусственным. Что же касается восхищенных взглядов, которые бросали на нее женщины, то она их просто не замечала. Женщины для нее не существовали.
И вдруг все кончилось.
Однажды долговязый Фогельсбергер с белокурой шевелюрой явился в «Звезду», где они обедали, я обратился к Шарлотте со словами:
– Сударыня, честь имею сообщить вам, что завтра утром в одиннадцать вас будет ждать самолет.
Шарлотта побледнела.
– Самолет? – едва выговорила она.
– Гауляйтер в свое время доставил вас сюда на самолете, – с такой же вежливой улыбкой продолжал Фогельсбергер, затянутый в черный мундир, – и теперь считает своим долгом тем же способом доставить вас домой. Мне дано почетное поручение сопровождать вас до Вены и высадить на венском аэродроме. Таков приказ.
Глаза Шарлотты сверкали. Она все еще была бледна.
– А если я откажусь от этого самолета? – спросила она.
От удивления Фогельсбергер лишился дара речи. Он с улыбкой взглянул на Шарлотту. Она бесконечно нравилась ему. Он был один из немногих, видевших ее в день рождения гауляйтера, когда она танцевала голая на столе красного дерева. На ней было лишь коротенькое трико, и это поразительное зрелище врезалось ему в память на всю жизнь. Все это он вспомнил сейчас.
Все еще с улыбкой глядя на Шарлотту, Фогельсбергер ответил:
– Как ваш друг и почитатель я не советую вам этого делать. Вы знаете, что я хочу вам добра. Итак, утром, точно в половине одиннадцатого, я приеду за вами. – Щелкнув каблуками, Фогельсбергер удалился.
XVII
Внезапный отъезд Шарлотты был для Фабиана крайне неприятной неожиданностью. Он привык к ней и не забывал, что она, сама того не зная, помогла ему пережить трудную пору.
Впрочем, к собственному удивлению, он не был огорчен тем, что она уехала, не ощущал тоски или боли. Наоборот, ему стало легче, привольнее. Шарлотта принадлежала к людям, о которых забывают, едва только за ними захлопнется дверь. После нее осталось лишь воспоминание о ее красоте.
«Одной красоты, значит, недостаточно, – думал он, одиноко сидя за бокалом вина в „Звезде“. – В человеке мы любим совсем другое». Вспоминая о Кристе, он почти стыдился, что отдал так много времени Шарлотте, женщине, которая стояла настолько ниже Кристы.
Временами трудно бывало не замечать за красотой Шарлотты ее пустоты и самомнения. Красота стала для нее проклятием: к людям она подходила с одной лишь эстетической меркой, не интересуясь их моральным и духовным обликом. «Говорят, что моя красота околдовывает мужчин»; «говорят, что мой смех возвращает к жизни даже мертвых». Ему вспоминалось много таких изречений Шарлотты.
Для нее самой ее красота стала центром мира, вокруг которого вертелось все. У нее было лишь одно желание – чтобы на нее молились, чтобы ее боготворили. Мужчина должен был стать ее рабом и слугой, замечать только ее и видеть цель своей жизни только в поклонении ей.
Ему вспомнилась также надменность, с которой она судила о женщинах, на ее взгляд недостойных внимания. Как часто он резко осуждал ее самомнение. Теперь он не мог без смеха вспомнить некоторые ее замечания. Когда, бывало, мимо проходила полногрудая дама, она говорила: «Будь у меня такая грудь, я покончила бы с собой». О женщине с большими ногами она сказала: «Лучше отрубить себе пальцы топором, чем ходить на таких ногах».
– Итак, прощай, Шарлотта, – сказал Фабиан и поднял бокал.
Уже прошло три дня, как она уехала, и нельзя было сказать, чтобы Фабиан очень горевал.
Впрочем, один вопрос не переставал занимать его. Почему гауляйтер так внезапно отослал Шарлотту в Вену? Тут должна быть какая-то причина. Но как Фабиан ни ломал себе голову, он не мог проникнуть в эту тайну. Наверное, просто каприз гауляйтера.
Теперь этот вопрос снова стал его беспокоить. Уже прошло несколько недель после отъезда Шарлотты, как вдруг гауляйтер без всяких объяснений приказал ему явиться в Айнштеттен. «Неужто он поставит мне в вину, что я так часто показывался с Шарлоттой на людях?» На душе у Фабиана было скверно.
Но Румпф и не вспомнил об этом, да и вообще словом не обмолвился о Шарлотте. В «замке» Фабиану сказали, что гауляйтер ждет его в бильярдной. Он очень удивился, когда оказалось, что Румпф – он был без пиджака и с кием в руке – не один. У бильярда стояла черноволосая молодая женщина с загорелым лицом.
– Эта дама утверждает, что знает вас, – сказал. Румпф, по-видимому, превосходно настроенный.
Фабиан поклонился молодой женщине. В эту минуту она обернулась к нему. Марион! Нет, видно, уж нечему удивляться на этом свете! Однажды он встретил у гауляйтера самую красивую женщину Австрии, а теперь вот – свою хорошую знакомую, еврейку.
– Марион! – радостно воскликнул удивленный Фабиан.
Румпф громко расхохотался. Такого рода сюрпризы были в его вкусе.
– Да, это я, – приветствовала Марион Фабиана. Она засмеялась своим звонким, задушевным смехом и вся залилась краской смущения. – Вы видите меня здесь в двойной роли, – сказала она, – учительница итальянского языка и ученицы, обучающейся игре в бильярд.
Румпф все еще раскатисто смеялся, намазывая мелом свой кий.
– Вы только посмотрите на эту девушку! – воскликнул он. – Ведь ее слова звучат как извинение. Можно подумать, что у меня с ней шашни завелись.
Марион покраснела еще сильнее. Она не удостоила Румпфа взглядом и снова занялась бильярдными шарами.
А Румпф, все еще продолжая смеяться, обратился к Фабиану:
– А ведь на самом деле я еще никогда не подходил к ней на более близкое расстояние, чем к вам, – сказал он. – Фрейлейн Марион действительно дает мне уроки итальянского языка. Но я совершенно не способен сидеть за столом как послушный школьник. Вот мне и пришла в голову мысль: нельзя ли соединить болтовню по-итальянски с игрой в бильярд? Представьте, это оказалось возможным. Или нет, professora [10]10
Учительница ( ит.).
[Закрыть]?
– Ессе Lentissimo commodore [11]11
Великолепно, начальник! ( ит.)
[Закрыть]! – откликнулась склонившаяся над бильярдом Марион.
– Professora и commodore, – пояснил Румпф, – так мы друг друга титулуем. Вы удивитесь, – продолжал он, – успехам, которые фрейлейн Марион сделала за такое короткое время. Просто невероятно! Скоро мне уже не придется давать ей фору.
Фабиан наблюдал Марион за игрой. Она в самом деле играла отлично. Прекрасная теннисистка, она, конечно, с легкостью научилась играть в бильярд, требовавшей быстроты глаза и физической ловкости.
В это мгновение Марион, низко склонившаяся над бильярдом, ударила мимо лузы, покачала головой и громко рассмеялась.
– А ведь это труднее, чем кажется! – воскликнула она.
– Вам не удалось срезать шар, вот и все, – заметил Румпф. – Ну, а теперь, professora, сделаем небольшой перерыв и. выпьем чаю. Прошу вас, пройдемте сюда.
В одном из углов бильярдной на возвышении была устроена ниша для зрителей и гостей; сейчас в этой нише был сервирован чай.
– Дорогой друг, – с улыбкой обратился гауляйтер к Фабиану, – вы сердцевед и уж, наверно, давно заметили, что Марион привлекла к себе все мои симпатии.
– Commodore, – сказала, смеясь, Марион, – по-видимому, я мешаю вам и гостю.
– Очень трудно не считать Марион крайне симпатичной, – убежденно сказал Фабиан.
– Трудно? Вы говорите – трудно? – подхватил Румпф. – Уверяю вас, это невозможно. И тем не менее, клянусь вам, что я ни разу не решался даже руку ей поцеловать, до того она чопорна и неприступна.
Марион что-то весело возразила ему.
А Румпф продолжал смеяться.
– Да, чопорна и неприступна! – повторил он. – А кроме того, к ней еще и опасно приближаться, – закончил он.
Марион нервно откинула черные локоны со лба и хотела было встать.
– Commodore! – снова воскликнула она и повторила свои возражения по-итальянски, так что Фабиан не все понял. Ему еще никогда не случалось видеть, чтобы гауляйтер так по-приятельски обходился с кем-нибудь.
А Румпф все смеялся.
– Простите, professora, – сказал он. – О кинжале я промолчу.
– Пожалуйста, не рассказывайте! – воскликнула Марион, краснея до корней волос.
Румпф обернулся к Фабиану.
– Дело в том, что Марион всегда носит при себе кинжал, – сказал он. – Этот кинжал, если понадобится, она пустит в ход против всякого, кто бы он ни был. Даже против меня.
Марион вдруг побледнела и вскочила.
– Разрешите мне удалиться, господин гауляйтер, – сказала она официально и строго.
Румпф сразу перестал смеяться. Он огорченно посмотрел на Марион.
– Но ради бога, Марион! – воскликнул он. – Неужели вы не понимаете шуток? Я был бы очень огорчен, если б вы ушли из-за моей глупой болтовни. Прошу вас, пейте чай и улыбнитесь в знак того, что вы уже не сердитесь.
«Он говорит с ней, как с ребенком, – подумал Фабиан. – А ведь Шарлотта, пожалуй, права, он не умеет обходиться с женщинами».
Марион снова села. Она улыбнулась, хотя глаза ее были полны слез.
– Простите, Марион, – сказал Румпф. – Я сегодня в задиристом настроении.
Встречи с Марион превратились в привычку для гауляйтера. Он пытался бороться с этой привычкой и несколько раз просто-напросто отменял свои приглашения.
«К черту! К черту! – ругался он, скрежеща зубами. – Спятил ты, что ли? Оставь в покое эту надменную еврейку, есть столько других женщин!»
Но из этих попыток ничего не выходило. Мучительное беспокойство терзало его, несколько дней он бывал до того не в духе, что даже напивался. Черт возьми, что же случилось с ним? Он сам себя не узнавал. На следующий день после этого он звонил Мариан и успокаивался лишь после того, как она опять приходила. Так вот до чего уже дошло!
«Хорошо, – сказал он себе, – тут ничего не поделаешь. Придет день, когда ей самой наскучит эта платоническая чепуха. В конце концов, она молодая женщина».
XVIII
Летом, когда Шарлотта еще была в городе, стало особенно неспокойно.
Однажды Шарлотта и Фабиан отправились за покупками на Вильгельмштрассе, но им преградили путь три больших грузовика. Машины были битком набиты ландскнехтами в коричневых мундирах, горланящими и улюлюкающими; их вызывающие физиономии и наглые жесты возбуждали негодование прохожих. По-видимому, они были пьяны. Грузовики останавливались у ресторанов, кондитерских, кафе, у еврейских магазинов. Наглые ландскнехты угрожали перепуганным прохожим на улицах и врывались в квартиры. Своими зычными, грубыми голосами они выкрикивали хором: «Штурмовик начеку – еврей, берегись! Штурмовик начеку – еврей, держись!» Затем машины с ревом трогались, чтобы вскоре снова остановиться; гнусные выкрики ландскнехтов разносились по городу.
Этот шум поверг каждую улицу и весь город в страх и смятение. Что это? Покой города, до сих пор чинного, благонравного, был внезапно нарушен; испуганные жители недоумевали, почему полиция потворствует этому безобразию – улюлюканью, гиканью. К тому же никто не знал этих коричневых ландскнехтов; они со своими грузовиками вынырнули неизвестно откуда и неизвестно когда.
Так это началось.
А глубокой осенью, вернее, в начале зимы, город вдруг огласился сигналами пожарной тревоги и дикими криками испуганных людей. Пожарные машины, тяжелые грузовики, грохочущие телеги неслись по улицам, пронзительные сирены пожарных прорезали воздух, испуганные жители распахивали окна. Небо было объято кроваво-красным заревом. Улицы наполнились топотом тревожных шагов, отчаянные вопли понеслись из мрака:
– Синагога горит!
Да, синагога, старинное добротное здание, полыхало огнем. Она загорелась внезапно, как и множество других синагог в Германии в ту же ночь, и выгорела до основания; к утру от нее осталась лишь куча тлеющих балок и дымящегося щебня. Пожарные команды не покладая рук отстаивали бензохранилище, расположенное по соседству.
Но пожар синагоги был не единственным ужасом этой страшной ночи. Земля разверзлась, и ад выпустил на город полчища дьяволов. По улицам снова мчались большие грузовики с горланившими коричневыми ландскнехтами. Звон, треск и грохот наполняли город. То тут, то там вдребезги разлетались окна. Витрины всех еврейских магазинов были разбиты, великолепные торговые помещения ювелира Николаи – разгромлены. Осколки зеркальных стекол, словно толстый слой льда, покрыли тротуары. Ну, а кто знал, что Николаи еврей? Разве не у него в витрине была выставлена брильянтовая свастика, собственность Цецилии Ш.? И шкаф в стиле барокко купца Модерзона? За одну ночь Николаи был разорен дотла. Все витрины и сейфы были взломаны и разграблены, сотни колец, золотых цепочек, часов украдены. Из пригородов валом валили всякие темные личности, подбиравшие то, что не успели захватить другие. То же самое произошло и со многими другими еврейскими магазинами. Цветочный магазин Розенталя был разнесен в щепы. Оголтелые банды наполовину разрушили и разграбили универсальный магазин братьев Френцель. Осколки стекол кучами лежали вокруг шестиэтажного здания. Огромные рулоны сукон и кипы бельевой ткани были облиты бензином и зажжены, мебельные гарнитуры разрублены и брошены в огонь. Пылающие занавески и гардины взлетали над крышами, обугленная кушетка еще несколько дней свисала из окна последнего этажа. Фарфор, стеклянные изделия и зеркала попросту сбрасывались в пролет лестницы, так что звон и грохот были слышны на мили кругом. Ковры и дорожки вышвырнули на улицу. Пальто и костюмы растащили.
Орды, потерявшие всякий человеческий облик, врывались в еврейские квартиры, топорами выламывали двери и озверело накидывались на мебель и посуду. Они вспарывали ножами перины, и перья носились в воздухе, как снежные хлопья. Служанку, которая пыталась отстаивать имущество своих хозяев, коричневые ландскнехты закололи, а больного старика вместе с кроватью вышвырнули из окна во двор, где он к утру и умер. Врача-еврея, поспешившего к нему на помощь, избили до полусмерти и потом арестовали.
Из узких улочек старого города – Гербергассе, Шпитальгассе и Гензевега – неслись пронзительные крики. Целый день раздавались душераздирающие вопли и громкий плач детей и женщин. Эти вопли наполняли темноту и вонзались в сердца людей, как лезвие ножа.
Ужас, ужас и ужас! Отчаяние объяло город.
Наутро после наваждения той страшной ночи горожане были точно парализованы. Даже некоторые нацисты стыдились того, что произошло, но другие только злобно радовались. Многие плакали; целый день по улицам громыхали подводы, доверху груженные осколками стекол; евреям же пришлось внести штраф в десять миллионов марок за убытки, которые причинили им нацисты.
Маленький Робби, страшно возбужденный, прибежал к отцу в Бюро поделиться с ним своими сомнениями.
– Ты слышал, отец, на Шпитальгассе выбросили с четвертого этажа двенадцатилетнюю девочку?
Фабиан, который и сам был очень огорчен, успокаивал его, как мог.
– Послушай, дорогой Робби, – сказал он сыну, гладя его по щеке, – не повторяй всего, что болтают люди. Ты и представления не имеешь, сколько сейчас лгут и выдумывают.
– Мама тоже говорит, что все это враки, выдуманные врагами партии! – воскликнул Робби.
– Мама хочет успокоить тебя, Робби, но, конечно, многое преувеличено. А что говорит Гарри?
– Гарри говорит, что евреям так и надо.
Фабиан густо покраснел.
– Передай Гарри, что он рассуждает как уличный мальчишка. А ты, Робби, живо сбегай на Шпитальгассе и узнай, что с той девочкой. Затем ты вернешься ко мне и расскажешь, как было дело. Идет?
Через час Робби вернулся сияющий.
– Про девочку все выдумали, – объявил он.
– Вот видишь, Робби, – обрадовался Фабиан. – Что я тебе говорил? Не надо верить всему, что болтают.
XIX
Состоятельные евреи объединились, купили убогий танцевальный зал в Ткацком квартале и быстро, без огласки перестроили его под молельню. Они не жалели расходов и платили немногочисленным рабочим, большей частью старикам, почасовую плату в пятикратном размере. Через две недели молельня была готова и освящена торжественным богослужением. Но уже вечером она сгорела.
В этот вечер Вольфганг приехал в город, чтобы встретиться с Гляйхеном в ресторане «Глобус». Уже смеркалось, когда он в наглухо застегнутом пальто обошел все переулки и улицы, где хозяйничали разбойники. Иначе он их не называл.
«Они преступники, – думал он. – Мы знали это давно. Но одураченный народ еще и по сей час этого не понимает. У него есть жратва и питье, а до остального ему дела нет. Да и что может народ, если Шелльхаммеры и прочие миллионеры, если промышленники и угольные магнаты поддерживают этих преступников и жертвуют им миллионы?»
Он чуть было не столкнулся нос к носу с одним из этих коричневых ландскнехтов, но тот вовремя отскочил.
– Поосторожней! – крикнул Вольфганг коричневорубашечнику. Сегодня задевать его было опасно.
«Честь Германии втоптана в грязь, – скорбно думал он, продолжая путь. – Мы докатились до того, что стыдно называться немцем! Позор и стыд, стыд и позор, как говорит Гляйхен. Прощайте, друзья мои в Париже, в Лондоне, во всем мире! У меня не хватит мужества снова показаться вам на глаза. Проклятие обрушилось на меня. Вам этого не понять! Проклятие обрушилось на меня и на весь немецкий народ! Немецкий народ доверился мошенникам и лжецам, потому что им доверились сильные и богатые. Вот в чем его вина! Судите сами, могут ли люди, у которых нет ничего, кроме рубашки на теле, не доверять тому, кому верят сильные и богатые, – ведь им-то есть что терять. Вот проклятие, которое обрушилось на меня. Друзья мои в Париже, в Лондоне, во всем мире, вы умны, проницательны и, должно быть, жалеете меня, но вам не понять моего героя! Прощайте, прощайте навсегда!»
Сумерки тяжело опускались на город, как печаль на сердце Вольфганга. От реки по улицам расползался туман, окутывая все вокруг легкой пеленой. Вольфганг очутился вблизи ратуши и вдруг увидел толпу людей на Рыночной площади; среди них было много молодчиков в коричневых рубашках. Они, казалось, любовались каким-то интересным зрелищем Лица у них были веселые, многие громко хохотали. Вольфганг, любопытный от природы, подошел ближе. Что это так потешает их?
Сначала он сам чуть было не расхохотался. На первый взгляд казалось, что на Рыночной площади толкутся и танцуют пьяные. Но это были не пьяные. Это были призрачные фигуры, расчищавшие метлами Рыночную площадь. В свете фар стоявшего на площади автомобиля они отбрасывали огромные тени на стены домов. Да, картина эта была фантастическая и причудливая, так что смех разбирал. Приблизившись, Вольфганг заметил, что некоторые метельщики в цилиндрах. Он вздрогнул и подошел еще ближе. Метельщики улиц в цилиндрах? Фантастическое и страшное зрелище. Вдруг он увидел, что это евреи. А прислушавшись к толкам возбужденных людей, быстро сообразил, что значит это позорное зрелище. Евреи, говорили в толпе, сегодня вечером освятили новую молельню. Когда они возвращались в город, их задержали коричневые орды. Им сунули в руки большие метлы и заставили подметать улицу. Смех, которым Вольфганг чуть было не разразился, замер на его губах. Он побледнел от негодования. Почтенные люди, большей частью пожилые, иные в черных сюртуках и цилиндрах, разыгрывали странную комедию на потеху гогочущей и горланящей толпы.
В это мгновение неподалеку от фонтана его работы он заметил старика в черном сюртуке с белой бородой и с цилиндром на голове; лицо старика показалось ему знакомым. Как и другие несчастные, он силился справиться с длинной метлой, но от непривычных движений шатался из стороны в сторону, бледный и изнеможенный. Длинная палка, на которую была насажена метла, стукаясь о поля цилиндра, сбила его с головы старика низко на лоб; казалось, что старик пьян. Боже мой, да ведь это его старый друг, медицинский советник Фале.
В мгновение ока Вольфганг оттолкнул гогочущих молодчиков и ринулся к советнику.
Вырвав у него из рук метлу, он крикнул:
– Это занятие не для вас, мой друг!
Медицинский советник Фале испуганно отпрянул и хотел снова схватить метлу.
– Но и не для вас, дорогой профессор! – воскликнул он.
Но Вольфганг, не выпуская метлы из рук, уже принялся мести, как и все прочие. Внезапно он почувствовал, что его схватили за руку.
– Что вы делаете? – крикнул кто-то над его ухом. – Убирайтесь к черту!
Тут же подскочил второй верзила. Он крикнул что-то об аресте.
Вольфганга силой загнали в ближайшую улицу, которую он тотчас же узнал. Это была Хайлигенгайстгассе. Узнал он также и помещение, куда его втащили, – комнату, где его однажды допрашивало гестапо. Она была битком набита людьми, кричавшими и плакавшими.
Вольфганг не успел еще отыскать местечко, чтобы присесть, как всех арестованных выгнали на улицу и втиснули в какую-то машину. При этом один из молодчиков сильно ударил его в правое ухо.
Машина эта была одним из тех небольших автобусов, которые теперь курсировали по асфальтированным улицам города с промежутками в десять минут. Таубенхауз в свое время пустил на линию тридцать таких машин, изготовленных на заводе Шелльхаммеров. Почти оглушенный ударом в ухо, Вольфганг, покорившись своей участи, забился в угол. Машина тронулась. «Вот они и схватили тебя, – думал он. – И понемногу выловят всех, кто отказывается выть по-волчьи, всех, всех, одного за другим. И тебя они в конце концов тоже поймают, Гляйхен». Ни о чем другом он думать не мог.
Как ни был он растерян, он заметил, что большинство находившихся в машине – евреи, женщины и мужчины; среди них было несколько ремесленников, каменщиков, плотников. И все они, по-видимому, были так живо заинтересованы каким-то происшествием, что забыли о собственном несчастье.
Отблеск пожара полыхал в окнах автобуса.
– Да, да, это горит новая молельня в Ткацком квартале! – сказал невысокий кривоногий старик каменщик в замазанных известкой рабочих штанах.
– Боже праведный! Они подожгли новую молельню! – запричитал какой-то старый еврей и стал рвать на себе волосы. – На Шиллергассе они вчера выбросили женщину из окна, – продолжал он, пристально вглядываясь в лица своих спутников. – Она сломала себе обе ноги. Они выбросили и ребенка, он тут же умер! Что за времена! Боже праведный!
Молодчик, стоявший на подножке автобуса, открыл дверцу и крикнул:
– Заткните глотки или я вас всех перестреляю!
Мучительная гримаса исказила лицо Вольфганга.
«Хотел бы я, чтобы Гляйхен очутился здесь или, еще лучше, мой братец! Пусть бы посмотрел, как они обходятся с людьми». И он стал испуганно ощупывать свой бумажник. Не потому, что беспокоился за его сохранность, а чтобы убедиться, что там еще лежит «Виргиния».
Да, «Виргиния», еще лежала в бумажнике, он вздохнул с облегчением, бесконечно счастливый тем, что сигара цела, заранее предвкушая удовольствие курения. Как ни странно, но в мыслях у него не было ничего, кроме такого вот вздора.
Теперь, когда автобус шел полем, видно было, что далеко в городе пылает пожар. Старик еврей снова громко запричитал.
– Боже праведный! – восклицал он. – Какие времена! Боже праведный!
Машина остановилась. Они прибыли.
Коричневорубашечник, подгоняя арестантов, стал бить их прикладом по ногам; все быстро высыпали из машины. Вольфганг с распухшим ухом – ему казалось, что оно стало величиной с голову, – вылез последним; мысли его все еще были прикованы к сигаре. Арестованные стояли в кромешной тьме перед оплетенными блестящей проволокой воротами, которые вдруг широко распахнулись перед ними. Теперь он понял, где находится.