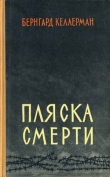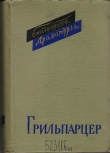Текст книги "Гауляйтер и еврейка"
Автор книги: Бернгард Келлерман
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
Находились они в Биркхольце, который Вольфганг знал по фотографиям.
Ворота закрылись за ним, и он зашагал к выбеленной башне, над дверьми которой черными жирными буквами было написано: «Равенство! Свобода! Братство!». Часовой крикнул, чтобы он поторапливался, и Вольфганг быстро пошел по пустому длинному проходу, в котором исчезла толпа арестованных евреев. В конце прохода он увидел человека, за одну руку подвязанного к потолку. У него был вид висельника, но он еще жил; лицо у него было красное, мокрое от пота, из перекошенного рта сочилась слюна. Он смотрел на Вольфганга невидящими, налитыми кровью глазами и непрестанно шевелил голыми грязными ногами, пытаясь пальцами коснуться пола.
– Эге, да ты все еще болтаешься здесь! – закричал часовой и нагло расхохотался. – Что, небось, к ночи-то стало попрохладней? – С этими словами он пинком ноги открыл дверь и втолкнул Вольфганга в маленькую комнатку, где за столом сидел человек с черной курчавой бородой и карандашом в руках.
– Хайль Гитлер! – крикнул человек с черной курчавой бородой; череп у него побагровел от злости. – Не знаешь, что ли, как вести себя, негодяй?
Вольфгангу показалось, что ухо его превратилось в баллон, привешенный к голове. Кровь бросилась ему в лицо.
– Арестовали меня и еще требуете вежливости? – отвечал он коротко и резко.
– Что? – зарычал человек, приблизив к Вольфгангу свой ярко-красный череп. – Вилли, поди сюда!
В комнату вошел приземистый человек в арестантском халате, сером в белую полоску. У него было бледное лицо и острый кривой нос.
– Этого мерзавца надо обучить хорошим манерам, Вилли! – крикнул человек с черной курчавой бородой.
Толстяк в арестантском халате подошел к Вольфгангу и снизу вверх посмотрел на него косыми глазами. В ту же секунду он поднял руку и со страшной силой ударил Вольфганга под подбородок.
Вольфганг упал как подкошенный.
XX
В вечер, когда сгорела еврейская молельня, свыше сотни евреев было арестовано; многие бежали или скрылись куда-то. Среди задержанных на Рыночной площади находился и медицинский советник Фале. Арестованы были все ремесленники, каменщики, плотники, столяры, работавшие на постройке новой молельни, – гауляйтер квалифицировал это как провокацию, – а также все поставщики материалов, не принадлежавшие к нацистской партии… Гестапо знало все, вплоть до самых – ничтожных подробностей, и уже это было просто страшно.
Горожане обезумели от страха. Они не решались перемолвиться словом даже с лучшими друзьями:, а вдруг те состоят на службе в гестапо? С этого дня все ушли в себя, и грозная тишина водворилась в некогда столь веселом городе. Подозрение внушали слуги, мастеровые, поставщики, весь мир. Единственный, кто еще отважился говорить откровенно, был «Неизвестный солдат», продолжавший рассылать свои анонимные письма.
«Остерегайтесь шпионов! – писал он. – Остерегайтесь ротмистра Мена, выброшенного из армии за грязные истории с женщинами. Он руководил погромом в день пожара синагоги! Остерегайтесь долговязого Шиллинга, ставшего начальником местного отделения гестапо! Он организовал поджог молельни в Ткацком квартале. Остерегайтесь „протирателя очков“ Орловского – он начальник шпионов». «Неизвестный солдат» называл еще много других имен.
Кто был этот «протиратель очков» Орловский? Бывший судебный исполнитель, выгнанный со службы за пьянство. Теперь, элегантно одетый, он каждый вечер сидел в ресторане, протирал свои очки и пил до потери сознания. Когда он входил, все умолкали. Он вращался в лучшем обществе, дружил с баронессой фон Тюнен, к которой часто являлся на «чашку чаю», был чуть ли не постоянным гостем в салоне Клотильды.
Когда на следующий день гауляйтер Румпф увидел в списке задержанных имя Фале, он пришел в бешенство, и ротмистр Мен, вручивший ему этот список, даже испугался, как бы гауляйтер не прибил его.
– Нельзя же ученого с мировым именем арестовать, как простого еврейского мальчишку! – орал Румпф. – Где были ваши глаза? Я поставлю к стенке этого идиота Шиллинга, я прикажу запороть до смерти всех этих идиотов, Мен! Слышите, до смерти!
Ротмистр Мен, бледный, как полотно, щелкнул каблуками. Он стоял неподвижно, как труп, не шевеля ни единым мускулом. «Терпение, – говорил он себе, – это пройдет. Поди отгадай все его мысли! Какое мне дело, в конце концов, до этой еврейской девчонки, в которую он втюрился! Стоит мне доложить кому следует, и он полетит ко всем чертям!»
– Я тотчас же позвоню коменданту Биркхольца, – смиренно отвечал он. – Я скажу ему, что в случае с Фале произошла роковая ошибка. Я сам поеду в Биркхольц.
– Да, и сию же минуту, если вы не хотите, чтобы я уложил вас на месте! – заорал багрово-синий Румпф и швырнул вслед Мену тяжелую бронзовую чернильницу.
Медицинский советник Фале в это время был с другими арестованными на «заутрене». Так называли в лагере утренние упражнения, состоявшие в том, что арестанты-евреи бегом, один за другим, носились вокруг внутреннего лагерного двора, с грузом от шести до восьми кирпичей на груди. Несчастному, который уронит кирпич или не поспеет за другими, угрожало тяжелое наказание: двадцать пять палочных ударов по голому заду. Об этом только что грозным голосом возвестил широкоплечий, одетый с иголочки офицер-эсэсовец. Сверкая лаковыми сапогами, с двумя огромными бульдогами на привязи, он стоял у решетки внутреннего двора.
Фале ковылял на своих слабых ногах вслед за плотным евреем с короткой шеей, стараясь соблюдать дистанцию в колонне, которая бежала по кругу, словно подгоняемая бичом. Через несколько минут силы Фале иссякли, в ушах у него, казалось, работал мотор. Это было его собственное свистящее дыхание. То у одного, то у другого скатывались кирпичи – один, два, вся ноша, – несчастные падали в поросший травою песок, к ним тотчас же подбегали люди в черных мундирах и били их палками из орехового дерева. Если же человек был не в состоянии подняться, его оттаскивали в сторону, и тогда появлялся арестант в сером полосатом халате, по имени Вилли, который стремительно, как коршун, набрасывался на упавшего и начинал наносить медленные, страшные удары потерявшему сознание арестанту, громко отсчитывая каждый удар.
Фале, уже почти без сознания, продолжал бежать. Вдруг короткая шея перед ним исчезла: бежавший впереди толстый человек упал со всеми своими кирпичами, и Фале пришлось сделать большой крюк, чтобы не споткнулся об него. В этот момент, хотя он был уже близок к обмороку, до него донесся громкий голос с неба, звавший: «Фале, Фале!» Да, да, ему почудилось, что этот голос раздается из дыры в небе, и он взглянул вверх. В то же мгновение все кирпичи один за другим соскользнули с его груди. Это была катастрофа! Остатками сознания он понимал, что это гибель, но, как ни странно, отнесся к этому безучастно. Вдруг вся колонна остановилась, он услышал звук падавших кирпичей и увидел, что многие, обессилев, бросились на землю.
«Фале, Фале! Медицинский советник Фале, профессор Фале!»
Сомнений не было, это относилось к нему. Медленно, без единой мысли в голове поплелся он через двор.
Рядом с высоким, широкоплечим офицером, державшим на привязи бульдогов, стоял коренастый человек в черной форме, с наголо остриженной круглой головой, и приветливо улыбался. Он даже сделал несколько шагов ему навстречу и чуть-чуть приподнял руку.
К его большому сожалению, сказал он, произошла досадная ошибка, он просит медицинского советника Фале извинить его.
Фале понял только, что он свободен и что высокий офицер выведет его отсюда, но воспринял все это равнодушно; он еще с трудом переводил дыхание.
Арестант в полосатом халате, по имени Вилли, стремительно, как коршун, подлетел к нему с сюртуком и цилиндром. Этот Вилли был преступник, приговоренный к смерти. Комендант с недели на неделю отсрочивал ему исполнение казни за хорошее поведение.
Наголо остриженный офицер снова подошел и поднял руку в знак приветствия. Фале приподнял цилиндр.
Все еще задыхаясь, Фале апатично поплелся за высоким офицером. Проходя рядом с ним через белую башню, он даже не обратил внимания на мертвеца, привязанного за руку к вбитому в потолок костылю и неподвижно висевшего в проходе.
Часовой открыл большие решетчатые ворота, и Фале очутился на свободе. Через несколько минут он дошел до большой дороги и присел передохнуть у канавы.
Он сидел довольно долго, пока сердце его не стало биться ровнее. Человек в черном сюртуке и цилиндре, с редкой седой бородой и черными глазами привлекал любопытство прохожих крестьян. Они понимали, что это отпущенный на свободу арестант из Биркхольца, скорей всего, один из евреев, арестованных накануне. Многие приветливо здоровались с ним, а один даже рассказал, как, минуя город, кратчайшим путем добраться до Амзельвиза.
Но Фале еще долго сидел и слушал жаворонка, заливавшегося высоко в небе. Эти трели растрогали его до слез; он видел, как жаворонок – серенькая, неприглядная птичка – спустился на землю и просеменил по траве. Песня жаворонка оживила его, и он стал собираться с мыслями. Потом встал и пошел домой.
«Душа, человека необъяснима, – думал он. – Никто не станет этого отрицать. И какие миазмы поднимаются со дна человеческой души, этого не знает никто».
Тщетно пытался он отогнать воспоминания о том, что видел в Биркхольце; эти картины неотступно, упорно преследовали его, стояли перед ним с полной отчетливостью.
Крестьяне, работавшие на полях, удивленно смотрели на человека в черном сюртуке и цилиндре, который шел и что-то бормотал про себя. Сначала они думали, что он возвращается с похорон. Но потом решили, что этого человека выпустили из Биркхольца и он слегка тронулся умом.
«Как это трагично, – продолжал думать Фале, – как несказанно трагично, что таинственные миазмы поднялись со дна немецкой души». С цилиндром в руках он пересек молодую березовую рощу, радуясь светлой зелени и солнечным бликам на траве между белых стволов… «Как я скорблю о немецком народе, ведь то, что мне пришлось пережить, – это болезнь народной души». Он думал о том, что истории известны примеры непостижимых душевных заболеваний целых народов, детские крестовые походы, например, или инквизиция, или французская революция. Все это случаи, загадочного массового психоза. Душа человека еще далеко не исследована и задает все новые и новые загадки. Но душа немецкого народа тяжко больна, и если чудо не спасет немецкий народ, то он обречен на гибель.
Березовая роща мало-помалу перешла в высокий буковый лес. И если в березах звенел щебет птиц, то среди высоких буков царила полная тишина. Только однажды Фале услышал тихий шелест и увидел одинокую сойку, семенившую по краю широкого солнечного пятна; ее крылья отливали стальной синевой. Он остановился, чтобы не вспугнуть ее. Но она вдруг поднялась и улетела, а с высокого бука вниз головою ринулась на соседнее дерево рыжая белочка.
Медицинский советник Фале не спешил. Это была удивительная прогулка, насыщенная созерцанием и философскими размышлениями. Лишь под вечер добрался он до дома и удивился, когда Марион в слезах бросилась ему на грудь.
Страшную, мучительную ночь провела Марион. Ночь ужаса и отчаяния. Утром она уже совсем было решила пойти к гауляйтеру, который не раз просил ее немедленно обращаться к нему в случае каких-либо неприятностей, как вдруг ее всполошил телефонный звонок. Дрожа всем телом, она подошла к аппарату, но дружелюбный тон ротмистра Мена успокоил ее. Произошла досадная ошибка, сказал Мен, через час он лично привезет медицинского советника домой.
Ротмистр Мен в самом деле был в Биркхольце, но разминулся с медицинским советником, так как тот пошел лесом. Теперь Марион была вне себя от радости.
– Где ты был, папа, что они сделали с тобой? – допытывалась она сквозь слезы.
– Все это не так страшно, – ответил Фале и улыбнулся, – ничего плохого со мной не случилось. Ошибка, которая очень скоро разъяснилась. Потом я все расскажу. Я чудесно прогулялся по буковому лесу. Но теперь я страшно голоден.
Фале с трудом поднялся в свою библиотеку.
Но когда Марион пришла, чтобы позвать его обедать, он сидел в библиотеке на кушетке и плакал. Внезапно этот плач перешел в истерические рыдания.
– Присядь ко мне, Марион, – таинственно сказал он ей, тихо плача, – но только, смотри, будь осторожна и никому не передавай того, что я тебе скажу. Это трагедия! Немецкий народ гибнет! Он попал в руки преступников. Но молчи, Марион, слышишь? Молчи!
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I
Политический салон Клотильды, недавно окрещенный «Союзом друзей», процветал. О докладах, устраивавшихся каждую неделю, сообщалось в «Беобахтер»; они всегда собирали большое количество слушателей. С тех пор как баронесса фон Тюнен привела с собой дам из руководимого ею женского союза, салон был почти всегда переполнен. Клотильда уже не нуждалась в визитах обер-лейтенанта фон Тюнена и его приятелей. Господа офицеры утратили воодушевление, необходимое для столь большого дела. Они еще приходили выпить рюмку-другую кюммеля или шартреза, но, с тех пор как Клотильда распорядилась подавать после докладов только чай, вообще перестали появляться. Их интересовали лишь военные доклады, и Клотильда принуждена была признать, что доклад полковника фон Тюнена «О героях Дуомона» имел большой успех. Чисто политические темы, по-видимому, нисколько не занимали молодых офицеров, Клотильда же заботилась именно о политическом просвещении членов Союза друзей.
Когда дошла очередь до доклада Менниха, известного профессора Кенингсбергского университета, Клотильда решила, наконец, отбросить «свою смехотворную скромность», как она выражалась, и пойти «напролом». Что подразумевалось под этим «напролом», она не пояснила. Но доклад профессора Менниха давал ей достойный повод показать себя. Профессор Менних, научное светило национал-социалистской партии, прочел доклад о «тревожных сигналах в Польше». Этот доклад, читавшийся во многих крупных городах, всюду вызывал огромный интерес. Да, прочь бессмысленную скромность!
– Чем мы были до сих пор? Кружком, который собирался за чашкой кофе, моя дорогая! – сказала она баронессе фон Тюнен. – Отныне мы будем своего рода парламентом, значение которого оценит вся страна.
Она заказала пригласительные билеты на доклад профессора, отправилась вместе с баронессой фон Тюнен в редакцию газеты «Беобахтер» и потребовала особого оповещения о дне доклада. Такое светило, как Менних, этого стоил.
Разумеется, секретариат Союза друзей послал особые приглашения гауляйтеру, Таубенхаузу и советнику юстиции Швабаху, игравшему теперь первую скрипку в местных национал-социалистских кругах. На видных людях мир стоит.
По счастью, кафедра для оратора, заказанная столяру по собственноручному эскизу Клотильды, поспела вовремя. На светлом фоне – инкрустированный знак свастики из красного дерева. Это выглядело строго и достойно. Но гвоздем программы являлся новый портрет фюрера работы знаменитого художника! Клотильда приобрела его в Мюнхене за триста марок. Фюрер на портрете выглядел «гениально», «каждая жилка в нем – гений и герой», – изрекла Клотильда. В широком пальто, с прядью волос, смело спущенной на лоб, «обнимающий все тайны мира», он имел довольно романтический вид. Во всяком случае, портрет нравился всем и, заодно с широкой роскошной рамой, составлял лучшее украшение салона.
Нет, на этот раз Клотильда решила не жалеть трудов и «идти напролом».
Не получив от именитых людей никакого ответа на свое приглашение, она побывала у каждого из них, хотя вообще была тяжела на подъем.
Советник юстиции Швабах, с которым она говорила десятки раз, просто-напросто не узнал ее. Он мотнул лохматой головой, вскинул пенсне, чтобы лучше рассмотреть ее, снова дернул его и снова покатал головой. Наконец он обещал прийти, если ему позволит время.
У Таубенхауза, обремененного, как всегда, многочисленными делами, нашлось для нее всего две минуты, но он тотчас же выразил готовность прийти; конечно, это приглашение – высокая честь. Он учтиво проводил Клотильду до прихожей и поцеловал ей руку.
В прихожей Клотильда обратила внимание на молодую девицу с пухлыми, румяными, как яблоки, щечками; это была одна из дочерей Крига, Термина или Гедвиг – Клотильда не знала, она так и не научилась различать сестер-близнецов.
– Ах, фрейлейн Криг? – заговорила она с краснощекой девушкой, которая поднялась со стула, очень польщенная. – Вы теперь работаете у господина бургомистра?
– Да, уже три месяца, сударыня.
– И вам здесь нравится?
– О, даже очень, – с сияющим лицом отвечала фрейлейн Криг. – Господин бургомистр так предупредителен ко мне!
Ну, теперь скорее к гауляйтеру! Ее тотчас же приняли; сегодня Клотильде везло – по-видимому, гауляйтер был не очень перегружен работой. Он сидел за письменным столом и принял ее, не вынимая сигары изо рта.
Конечно, он знал о салоне. Да, до него даже дошли очень лестные слухи о Союзе друзей. Полковник фон Тюнен, штандартенфюрер фон Тюнен – отличный солдат – читал там доклад, не правда ли? Да, да о сражении под Верденом, припоминаю. Старик сам побывал в форте Дуомон. Кто бы мог поверить?
Клотильда, видимо, пришлась Румпфу по вкусу. Он был неравнодушен к голубым, незабудковым глазам, а пышные белокурые волосы приводили его в восхищение. Он попросил ее рассказать о своем салоне, придвинул ей коробку сигарет и даже встал, чтобы подать спичку.
– Очень хорошо! Очень хорошо! – время от времени прерывал он ее, расхаживая взад и вперед по большому залу, населенному святыми и ангелами. – Фридрих Великий, говорите вы? Превосходно! Вот пример для тех, кто хочет жить вечно… Великолепная фигура! И, конечно, его гений, его смелость были вознаграждены. Вы думаете, это случайность, что, как ее там… Екатерина умерла как раз в тот момент, когда у Фридриха было такое паршивое положение? Отнюдь нет! Это награда за смелость, отвагу, за железную волю. В наши дни мы видим нечто подобное! Что? Абиссиния? Правильно! Удивительно, как вы быстро схватываете! Да, дуче я тоже весьма уважаю. И даже из уважения к нему изучаю теперь итальянский язык. Ха-ха-ха! Что вы на это скажете? Очень хорошо, весьма похвально.
Гауляйтер остановился перед Клотильдой.
– Очень хорошо, очень похвально! Да сохранит вам небо эту способность воодушевляться. Конечно, я всегда по мере сил буду поддерживать ваше начинание. Я стремлюсь во всех городах моего округа создать подобные же очаги воодушевления, фанатизма и безусловной преданности. И я пошлю вас, мой уважаемый друг, в эти города, чтобы заложить там фундаменты крепостей такой же слепой веры и нерушимой верности…
Клотильда покраснела от счастья и с благодарностью поклонилась.
Румпф снова придвинул ей сигареты.
– Прошу вас, выкурите со мной еще одну, – сказал он, бесцеремонно разглядывая Клотильду. – Вы великолепная собеседница.
II
Клотильда охотно исполнила эту лестную для нее просьбу и стала с наслаждением пускать в потолок кольца голубого дыма.
– Вы слишком добры, господин гауляйтер, – сказала она.
«Она недурна, – подумал Румпф и снова зашагал по залу. – И кокетничает довольно искусно. Если пригласить ее на чашку чаю в Айнштеттен, то остальное, безусловно, не составит труда. Но она уже отцветает, это и слепому видно. Складки на шее очень заметны, и пудра тебе уже не поможет, моя дорогая. А ведь у маленькой майорши Зильбершмид нет еще ни единой морщинки, не говоря уж о Шарлотте или восхитительной Марион, которая вся – юность и свежесть! Нет, не стану я ее приглашать в Айнштеттен».
– Сколько у вас детей от правительственного советника? – неожиданно спросил он, остановившись перед нею.
– К сожалению, только двое, – смущенно отвечала Клотильда. – Два мальчика, – прибавила она, чтобы не чувствовать себя совсем уж пристыженной.
– Двое? – Румпф презрительно засмеялся. – Свежая, цветущая женщина, чистой расы – и всего два мальчика? У вас могло быть теперь шестеро сыновей, я вы носили бы орден материнства.
Клотильда покраснела.
– Я носила бы его с гордостью! – воскликнула она, повернув к Румпфу покрасневшее лицо.
Румпф кивнул головой и засмеялся.
– Клянусь честью, этот орден был бы вам очень к лицу, – продолжал он. – Жаль, что я не могу представить вас. Двое детей – это, вы сами понимаете, маловато. Разрешите еще один вопрос? – Гауляйтер хитро прищурился. – Оба мальчика от правительственного советника?
Клотильда испугалась и отвела взгляд. Она побагровела, дым сигареты ударил ей в нос. В устах другого этот наглый вопрос возмутил бы Клотильду, но заданный столь высокопоставленной особой, он показался ей лишь проявлением благосклонности и разве что грубовато выраженного интереса к ней. Тем не менее она промолчала.
Вдруг Румпф громко расхохотался; плохо скрытое смущение Клотильды забавляло его.
– Простите, – сказал он и взял со стола новую сигару, – вы, я вижу, слишком чопорны для такого вопроса. Но, знаете, you never can tell [12]12
Никогда нельзя быть уверенным ( англ.).
[Закрыть]. He решаюсь уж спросить, почему вы развелись, хотя мне это очень интересно. – Он рассмеялся и снова зашагал по залу; следом за ним тянулись большие клубы голубого сигарного дыма. – Может быть, с правительственным советником не так-то легко ужиться, кто знает? – продолжал он, остановившись. – Некоторые мужчины резко меняются, едва переступив порог своего дома. Верно я говорю?
На лице Клотильды заиграла понимающая улыбка.
– Я высоко ценю Фабиана, – прибавил Румпф, – он очень умный человек, идеи, так легко его осеняющие, уже не раз сослужили нам большую службу. Но, может быть, он слишком нерешителен, неуверен; может быть, ему не хватает твердости, которая так необходима мужчине? Так ли это? Или не так? Он идет с партией, но меня он, видите ли, не обманет! Он идет с нами, но, сдается мне, всей душой он нам не принадлежит. Он может увлечься тем или иным делом, но отдаться ему до конца, как я и вы, он не способен.
Вдруг он подошел вплотную к Клотильде.
– Ему бы частицу вашего фанатизма! – воскликнул он. – И он бы стал идеальным членом партии. Разве я не прав?
Клотильда кивнула.
– Да, вы правы, господин гауляйтер, – убежденно ответила она.
– Ваше дело, уважаемая, – продолжал гауляйтер, указывая на грудь Клотильды, – заразить своим фанатизмом Фабиана. Вы слышите, что я говорю? По способностям он достоин занимать самые высокие посты в государстве. А с этой точки зрения личные раздоры тускнеют, это же смешные мелочи. Но в наше время смешные мелочи неуместны! Вы меня понимаете? – Он смолк, спохватившись, что говорит слишком громко.
Клотильда несколько раз кивнула.
– Понимаю, – сказала она, устрашенная повелительным тоном Румпфа. Да, вот сейчас в нем заговорил гауляйтер.
– Этот ваш развод, извините меня, смешон, – продолжал Румпф уже своим обычным тоном. – Какое такое преступление совершил наш правительственный советник? Мне, во всяком случае, это дело не кажется непоправимым! – засмеялся он. – Право же, если за ним и числилась какая-то любовная интрижка, то это большого значения не имеет; да и непохоже, чтобы советник стал противиться примирению. В наши дни найдутся дела посерьезнее любовных раздоров. Он нам нужен, у нас на него определенные виды! А бессмысленного распыления сил мы не допускаем. Ведь вы-то не будете против примирения, уважаемая?
– Отнюдь нет, – не задумываясь, сказала Клотильда, и сказала правду.
– Я очень рад, что мы так хорошо понимаем друг друга, – отвечал Румпф, протягивая Клотильде свою мясистую руку.
Клотильда поблагодарила за аудиенцию и поклонилась. На секунду ею даже овладело искушение поцеловать руку гауляйтера, но она воздержалась, опасаясь совершить нечто неподобающее. В ту же секунду она увидела красные волосы на его запястье. «Точно рыжая шуба», – подумалось ей.
Румпф засмеялся.
– Я чуть не позабыл о цели вашего прихода, – снова начал он. – На доклад этого профессора я, конечно, приду. – Клотильда поблагодарила. – И Таубенхауз тоже будет? Тем лучше. По четвергам у меня обычно играют в карты, но мы это устроим. Можете твердо на меня рассчитывать.
Когда Клотильда, прощаясь, скользнула взглядом по плафону, Румпф воспользовался случаем и еще раз повторил свою старую шутку о святых и ангелах.
Восхищенная Клотильда рассмеялась. Шутка гауляйтера показалась ей верхом остроумия, блистательным изречением великого ума.
Клотильда вернулась домой с лихорадочно пылающим лицом. Вот это была аудиенция! Боже ты мой!
Битых полчаса простояла она у телефона, излагая баронессе фон Тюнен все события этого утра. Каким большим, каким незабываемым переживанием была ее аудиенция у гауляйтера! Ах, а сам гауляйтер! Такой человечный и простой! Она чуть было не влюбилась в него. Да, да! Одно слово – и он мог бы сделать с ней все, что угодно. Еще немного – и она поцеловала бы ему руку. О красных, как ржавчина, волосах на запястье, об этой рыжей шубе, испугавшей ее, она не обмолвилась ни словом. Но о самом важном и секретном, сказала Клотильда, она, конечно, не может рассказать по телефону, баронесса обязательно должна прийти к ней сегодня, и не позднее пяти часов!
Клотильда весь день пребывала в чрезвычайном возбуждении. Поручение гауляйтера – примириться с Фабианом и заразить его своим фанатизмом – не шло у нее из головы. Она уже сама сожалела о своем разрыве с Фабианом, особенно теперь, когда он стал подниматься в гору все выше и выше. Фабиан занимал одно из влиятельнейших мест в городе, – значит, деньги можно будет грести лопатой; его адвокатская практика тоже процветала. Возможность какой-то небывалой карьеры, на которую сегодня намекал гауляйтер, конечно, могла хоть кому вскружить голову. Да, может быть, она скоро будет так же богата, как многие другие! Может быть, у нее будут автомобили, богатейший гардероб, слуги, может быть, она будет разъезжать по всему миру в поездах особого назначения. Кто знает! А ее мальчики! Какое житье настанет для ее мальчиков!
Фабиан, насколько ей известно, не был связан в настоящее время ни с какой другой женщиной. Та красивая танцовщица, слава богу, исчезла из города. Она дважды видела его с ней на улице и, как это ни странно, с того времени снова почувствовала к нему влечение.
Да, но нечего терять время на мечтания, надо действовать, действовать! Пусть весь мир увидит, что это значит, когда Клотильда говорит: «Я иду напролом!»
В тот же день Гарри лично отнес отцу в «Звезду» приглашение на доклад профессора Менниха, написанное в самом дружеском тоне. Гарри поручено было намекнуть, что гауляйтер, Таубенхауз и Швабах уже дали свое согласие и папа во что бы то ни стало должен прийти на доклад, если не хочет огорчить маму. Гарри, вернувшись, сообщил, что папа, по-видимому, был очень тронут и обещал прийти, если позволят дела.
Фабиан не пришел, но все же прислал письмо, что болен и лежит в постели.
Несколько почетных гостей тоже не пришли на доклад. Отсутствовал Таубенхауз, на которого рассчитывала Клотильда, да и гауляйтера задержали срочные дела. Только Швабах сдержал обещание, но с ним она больших надежд не связывала. Гауляйтер прислал своего заместителя, ротмистра Мена, который преподнес Клотильде фотографию Румпфа с его собственноручной любезной надписью. Да, вот у кого можно было поучиться светскому обхождению.
А гауляйтер и в самом деле не мог прийти. Он до трех часов ночи сидел в «Звезде» с Таубенхаузом, прокурором и ректором высшей школы, играя в двадцать одно.
Наемный лакей в черной паре и белых перчатках, бесшумно открывал двери гостям, и Клотильда торжественно произнесла «приветствие фюреру», которое она недавно ввела в обиход, чтобы придать своим вечерам строгость и торжественность. Оно состояло в том, что, рекомендуя оратора, она от имени всех собравшихся обращалась с клятвой верности к фюреру. Сегодня ей впервые удалось простереть руку к портрету фюрера.
Профессор Менних, знаменитый кенигсбергский оратор, был уже немолодой человек; волосы на его голове торчали во все стороны. Он кротко и добродушно улыбался, видимо, нимало не волнуясь. В своем докладе профессор битый час говорил о Польше, где прожил много лет; особенно подробно останавливался он на ее населении. «Что же представляют собою теперь поляки? – улыбаясь, спрашивал он. – Прежде они были приятными соседями, а теперь? Теперь они бесцеремонно переходят через границу, сгоняют крестьян с их полей и, случается, – тут он выразительно улыбнулся, – убивают одного-двух немцев». Весь доклад был проникнут кротостью и миролюбием.
В прениях прозвучали более резкие ноты. Почтенный господин, пять лет прослуживший таможенным чиновником в Данциге, сообщил, что драки и убийства в Польском коридоре давно стали бытовым явлением, это всем известно. В последнее время немцы толпами бегут в рейх, ища защиты. В Данциге эта знает каждый ребенок, и можно только порадоваться, что на родине этими плачевными обстоятельствами заинтересовались наконец более широкие круги.
Баронесса фон Тюнен, блестящий оратор, вызвала гром рукоплесканий, упомянув о миролюбии и терпении фюрера, которому немецкий народ обязав беспрекословно повиноваться. «Но настанет день, – воскликнула она, – когда его долготерпению придет конец! Фюрер насупит брови, и тогда горе всем врагам рейха!»
При этих словах баронессы юный Гарри явственно крикнул: «Браво!» – и громко захлопал в ладоши. В форме Союза гитлеровской молодежи, с почетным кинжалом на боку, он, как всегда, занимал место у самой кафедры. Гарри был рослый пятнадцатилетний мальчик, со светлыми, тщательно расчесанными на пробор волосами; он напряженно слушал, сохраняя при этом бесстрастное выражение лица. Но, когда профессор Менних сказал, что поляки, случается, убивают немцев, он выпрямился во весь рост и грозно наморщил лоб. Мимо портрета фюрера он проходил только с поднятой рукой.
Гарри казалось, что он уже солдат. Он мечтал стать офицером, и дома его называли Генералом.
Робби, который был на два года моложе брата, забился в угол. На лбу у него была шишка зеленого цвета. До начала доклада он торчал в передней вместе с лакеем, прислушиваясь к шагам гостей на лестнице. Когда шаги приближались, он тихо шептал: «Теперь открывайте», – и убегал в кухню.
Робби и слышать не хотел об армии, так как не любил рано вставать. Мечтательный и задумчивый от природы, он теперь начал сочинять небольшие рассказы. Клотильда называла его Поэтом в противоположность Генералу. Она любила звучные, многозначительные слова.
После прений гости еще немного поболтали, прежде чем разъехаться. Наемный лакей в черной паре и белых перчатках и служанка в новомодной прическе разносили чай. И тут снова вынырнул маленький Робби с зеленой шишкой на лбу. Он следовал за лакеем и служанкой с сахарницей в руках.