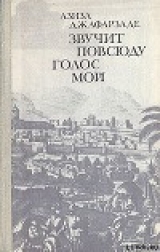
Текст книги "Звучит повсюду голос мой"
Автор книги: Азиза Джафарзаде
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН
Десяти – и тридцатилинейные керосиновые лампы, только войдя в моду в Шемахе, загорелись и в доме Махмуда-аги. На высоких и низких подставках, сделанных из розового, салатного, голубого фарфора и фаянса, сверкали начищенные стекла. Широкие фитили, ровно подрезанные, горели ярким пламенем. Похожие на вазы лампы украшали гостиную Махмуда-аги. Сегодня здесь ждали гостей.
У стен просторной комнаты стояли шкафы, украшенные ажурной резьбой. На полках теснились большие и маленькие фарфоровые пиалы, сосуды из молочного стекла, вазы, графины, сахарницы из цветного стекла, вставленные в серебряные подставки. Горкой высились английские фаянсовые плоские тарелки, специально для плова купленные хозяином в Баку. Полы гостиной устланы пушистыми коврами, вокруг ковров направо и налево от входной двери специально для гостей приготовлены мутаки, подушки, тюфячки в расшитых бархатных чехлах. В одной из ниш стенного шкафа высятся стопкой сложенные одеяла, стеганные по пестрому муару и атласу. На мраморной надкаминной полке – кальян ширазской работы. Перед камином в ожидании гостей расположилась группа музыкантов и танцовщиц. Музыканты – тарист, зурнач, кеманчист, барабанщик, – усевшись на низкой тахте, тихонько настрАйвали инструменты, слева от них присели на ковер восемь девушек-танцовщиц, совсем рядом с ними устроилась на тюфячке певица с бубном в руках.
Хозяин дома Махмуд-ага приветствовал каждого входящего гостя и любезно показывал место, куда приглашенный усаживался. Согласно обычаю, хозяин собственноручно передавал вновь пришедшему стакан чаю, принесенного слугой, как только гость переступал порог гостиной. Гость выпивал чай, и Махмуд-ага любезно беседовал с ним.
Когда Сеид Азим впервые переступил порог гостиной Махмуда-аги, он тотчас отыскал взглядом своего приятеля Рза-бека, пригласившего его на торжество к Махмуду-аге. Молодой человек пришел сюда втайне от матери только по настоянию Рза-бека и своего друга Тарлана – сына купца Гаджи Асада.
Рза-бек, наклонившись к Махмуду-аге, что-то ему сказал, тогда хозяин с доброжелательной и сердечной улыбкой обратился к Сеиду Азиму и предложил ему сесть рядом с Тарланом. Передавая молодому человеку стакан чаю, Махмуд-ага внимательно всмотрелся в нового гостя. По его лицу угадывались и волнение, и смущение. Молодой мусульманин из достойной, принадлежащей к потомкам пророка семьи, на что указывает обращение "Сеид", никогда не видел чужих женщин, сидящих рядом с мужчинами с открытыми лицами. От стыда Азим покраснел, он чувствовал какое-то странное волнение. Не знал, куда девать руки. Все, что Сеид Азим увидел в гостиной Махмуда-аги, никак не вязалось с теми наставлениями, которые он выслушивал постоянно от своей матери. Ей определенно придется не по душе его сегодняшний визит. Он украдкой оглядел молодых мужчин, сидевших рядом с ним, по их возбужденным лицам угадывалось нетерпение. Гости пили чай, вполголоса беседовали, но музыка и танцы пока не начинались. Видимо, кого-то ждали.
У дверей возник какой-то шум, Махмуд-ага поднялся с мутаки, за ним и другие гости поднялись на ноги, кто-то прошептал на ухо Сеиду Азиму:
– Сегодня настоящий меджлис! У Махмуда-аги заграничный гость, то ли француз, то ли русский. Наверно, это его ждали!
Махмуд-ага пошел навстречу человеку, стремительными шагами вошедшему в комнату. Он отличался от всех присутствующих одеждой, внешним обликом, манерой держаться. Хозяин встретил гостя посреди комнаты, пожал протянутую ему руку и заговорил с ним на непонятном Сеиду Азиму языке. Продолжая держать гостя за руку, Махмуд-ага подвел его к широкому низкому табурету, покрытому ковровой тканью, и усадил.
– Господа, мой гость – князь Григорий Григорьевич Гагарин. – И тут же обратился к князю по-русски: Извините, князь, я вас хочу представить нашей публике. – И продолжил на своем языке: – Наш гость очень уважаемый человек, объездил всю Европу, жил в Париже, Риме, Стамбуле. Он – представитель профессии, которой у нас нет, которая недоступна нам, мусульманам. Князь Гагарин – художник, портретист. Я сейчас попытаюсь объяснить, что это такое. Наша религия запрещает воспроизводить человеческие лица, поэтому наши художники свое мастерство вкладывают в оформление коранов, книг. Кто был в лавке у Мешади Гулама, тот видел красочно орнаментированные сборники стихов. Наш гость приехал к нам на Кавказ не впервые. Еще в годы войны с горцами он сам отважно сражался с мятежниками и, как художник, сохранил потомкам лица героев и сцены боев. Сейчас князь – гость царского наместника на Кавказе, князя Воронцова. Мы рады, что он приехал к нам, чтобы нарисовать нас, шемахинцев, запечатлеть на картинах наши лица, приметы нашего быта и жизни. У христиан это разрешено.
Новопришедший приковал к себе взгляды всех присутствующих. Он понимал, что хозяин дома Махмуд-ага рассказывает о нем, и прислушивался к звучанию незнакомого языка. Будто чувствуя вину за то, что внес сумятицу, князь смущенно улыбался. Светлоглазый и светловолосый, с тонким нервным лицом, он с интересом разглядывал комнату и гостей. Задержал взгляд на высоком молодом человеке с добродушной улыбкой и горящими щеками.
Костюм князя резко контрастировал с одеждой шемахинцев. На госте был светло-серый сюртук, застегнутый на все пуговицы. Лишь он один сидел с непокрытой головой, в отличие от остальных, не снявших папахи. Видимо, знакомый с местными обычаями, туфли он снял у входа. Цепкий взгляд его перебегал с одного лица на другое, с одного предмета на другой. Он внимательно осматривал все, каждую вещь, красочные одежды женщин и музыкантов. Присутствующие видели гостя впервые, но его пытливый взгляд не смущал их, казалось, что он каждому предлагает свою дружбу.
Сеид Азим понял, что меджлис-торжество началось, слуги собрали пустые стаканы на подносы и унесли. Махмуд-ага дал знак, и музыканты зАйграли. Одна из девушек поднялась и вышла на середину комнаты. Танцевальная мелодия повела ее за собой. Сеид Азим услышал громкий шепот: "Сона! Сона!" Тарлан тихо сказал на ухо Сеиду Азиму: "Сона – лучшая из чанги".
"Чанги". Сеид Азим не раз слышал это ругательное слово. "Чанги развратница, чанги – бесстыжая, чанги – злодейка". Так вот она какая "чанги".
Тонкое красивое лицо девушки, казалось, светилось изнутри. Нежная, как лепесток чайной розы, кожа, чуть розовые губы. Наряд девушки только подчеркивал удивительную грациозность ее походки и движений. Поверх светлой шелковой блузы с широкими разлетающимися рукавами был надет из кармазина, красной тонкой шерсти, архалук – туго стягивающий стан жилет с короткими рукавами. Из-под длинной темно-вишневой атласной юбки выглядывали маленькие ступни в пестрых шерстяных носочках. Узкий серебряный поясок подчеркивал тонкую талию. Прозрачная бенаресская шаль, подхваченная изящной золотой диадемой, ниспадала на плечи вместе с длинными черными косами. Лоб обрамляли мелкие кудри. Наряд Соны дополняли золотые ожерелья, висящие подобно тычинкам цветка, серьги прекрасной работы.
Разговоры прекратились, все взгляды были устремлены на Сону. Убедившись в том, что привлекла внимание всех участников меджлиса, Сона, приложив правую руку к груди, низко поклонилась и начала свой танец. Сначала, слегка покачивая бедрами, она сделала первый круг, потом, все убыстряя темп, поплыла по комнате. Легкий шелк юбки не скрывал очертаний высоких стройных ног, взлетели над головой тонкие руки, соединились изящные кисти, и вот они уже под подбородком, блестящие миндалевидные глаза только следят за движениями рук, горделивая голова не шевельнется.
Девушки-танцовщицы, не скрывая интереса, следили за каждым движением Соны. Их красочные наряды заметно уступали наряду Соны, только на двух чанги – Ганди и Бадам – было так же много золотых украшений, но красотой с танцующей чанги могла сравниться лишь самая молодая – Ниса. Девушки покачивались в такт движениям Соны, тихонько подпевали.
Гости с восхищением следили за танцем красавицы. В такт мелодии прищелкивали языками и ударяли в ладони, то и дело слышались возгласы: "Ай, молодец!", "Прекрасно!", "Великолепно!"
Гость Махмуда-аги князь Гагарин неотрывно следил за всем происходящим. Он незаметно открыл альбом и зарисовал в него все, что привлекало его внимание: позы танцующей Соны, непринужденно сидящих девушек, одежду слуг и гостей. Лицо его раскраснелось, он стремительно делал зарисовки, переворачивая страницу за страницей. Все надо сохранить в памяти, впитать как губка на будущее. Его покорили и музыка, и танец, необычная, яркая красота женщин, степенность в поведении молодых мужчин, таких свирепых с первого взгляда. Он непременно создаст галерею восточных красавиц.
А Сона будто не слышала голосов, не видела следящих за ней глаз. Музыка, набирая силу, от плавной, текучей мелодии перешла к буре. И Сона, чувствуя ее переходы, всем существом передавала их в танце. Бедра ее описывали быстрые ритмичные круги, теперь ноги ее не бежали куда-то, а помогали телу вибрировать. Показалось, что нежная истома сменилась бурной страстью, теперь танцевала каждая клеточка женского тела. Пара извивающихся вокруг нее как змеи кос, завитки волос на лбу взлетали в такт движениям бедер. Щеки пылали, глаза были полуприкрыты, тело источало возбуждающий запах мускуса – восточных благовоний. На висках и у насурьмленных бровей появились мелкие капельки пота, но усталости не чувствовалось в танце.
Молодой Сеид Азим был покорен чарующим танцем красавицы. Он понимал, что видит совершенство и тела, и танца. Именно так должна выглядеть пери из сказок, принцесса из снов, гурия, которую суждено увидеть правоверному мусульманину в миру ином. А тут гурия во плоти. Меджлис в доме Махмуда-аги показался уголком воображаемого рая.
Сеид Азим ощущал двойственность, разлад с самим собой. В мозгу жили догмы, считающие грешным этот танец, грешной женщину, танцующую перед другими людьми. Но разве может такая красота и гармония быть грешной? Сеида Азима потрясло увиденное и услышанное им впервые. Сомнения смущали его душу: "Если ты приносишь человеку радость, на время заставляешь его забыть о заботах повседневной жизни, почему, почему твое искусство, твой дар – это грех? Сона! Почему ты считаешься низшим существом? Почему "чанги развратница"? Почему "чанги – бесстыжая"? Почему грешно смотреть на тебя, наслаждаться твоим волшебным танцем? Чем райские гурии отличаются от тебя? Только тем, что они обещаны на том свете, а ты, Сона, здесь, рядом... Сеид Азим понимал, что мысли его богохульство, но не мог не сомневаться. В нем будто спорили два различных человека, противоречивших один другому, то, что один утверждал, другой отбрасывал.
Вопросы... Вопросы без ответов. Он не мог найти правильный ответ. Это вопрос не из тех, о котором можно посоветоваться с кази – мусульманским судьей. И у ахунда ответа не получишь. Разве мало Азим наслушался советов, когда к его деду – ахунду приходили религиозные люди за нравоучительной беседой. Особенно запомнился Мешади Имамгулу, старик, чья память с возрастом ослабела, и он ошибался при сотворении намаза. Мешади Имамгулу часто приходил в комнату деда. Скинув в дверях шлепанцы, переступал порог, держась рукой за стену, с трудом, кряхтя, как старый верблюд, переваливаясь, опускался на колени. Подпихнув другой рукой под свои тощие ноги тюфячок, он долгое время приходил в себя, успокАйвал учащенное дыхание, потом, не сразу, проводил узловатой рукой по белой как снег бороде, привычно осенял лицо ритуальным молитвенным прикосновением перед началом беседы с высоким по положению и знаниям мусульманским священнослужителем:
– Ахунд-ага, да будет аллах милостив к тебе, сомнение у меня между второй и третьей молитвой...
Дед долго и терпеливо объяснял. Мешади Имамгулу, не надеясь, что запомнит на будущее объяснения ахунда, начинал подряд повторять всю фразу, произнесенную дедом:
– Если сомневаешься между второй и третьей молитвой, нужно... – Но что нужно, он уже запомнить не мог.
И ахунд терпеливо повторял все сначала. А маленький Азим, сидящий в углу и учивший до того с дедом азы мусульманской премудрости, еле сдерживался, чтобы не сказать гостю: "Эй, сын покойного, лучше лишний раз помолись, чем столько раз переспрашивать!"
Однажды Мешади Имамгулу пришел выяснить очень странный вопрос. Едва переступив порог, он начал причитать:
– Ахунд-ага, да поместит аллах твоего высокочтимого отца в рай, со мной несчастье приключилось, несчастье приключилось...
– Снова сомнения одолели? – чуть слышно спросил ахунд...
– Нет, нет, ахунд-ага, с тех тор, как, по совету дочери Кербалаи Расула, подавая хлеб нищему, я от этого хлеба отломил кусочек, разделил на две части, один тут же съел, а другую половину положил под подушку, память у меня улучшилась, я больше в намазе не ошибаюсь, и сомнения покинули меня.
– Так что же привело тебя, почтенный, ко мне?
– Ох, несчастье случилось, ох, несчастье случилось! Господин ахунд! Сейчас я поведаю тебе все. От ночного дождя дорогу развезло, ни пройти, ни проехать. Вышел я поутру из дому вниз к площади весов. Впереди меня шел молоканин, ну тот, что на мельнице мастером, молоканин Василь, он шел, с трудом выдирая ноги из месива, в которое превратилась дорога, а я старался не наступать на его след. Но вдруг из-под ноги этого неверного брызнула фонтаном грязь и попала на мою чистошерстяную длиннополую абу, а эту абу я купил и освятил в святых местах, в Мешхеде, у могилы имама Рза. Теперь не знаю, как быть: вычистить, когда грязь высохнет, или постирать? Если вычистить грязь, вдруг останется частичка, незаметная глазу, и тогда аба будет все равно осквернена, а это мне не по сердцу, вот я и пришел к тебе за советом, ахунд-ага. Ведь и стирать верхнюю одежду трудно! А без абы мне в холодное время не обойтись...
Чтобы успокоить Мешади Имамгулу, ахунд сказал:
– Абу следует почистить так, чтобы ничего не осталось. От сухого сухому ничего не будет, слава аллаху...
Но Мешади Имамгулу не мог успокоиться.
– Но ведь грязь попала вместе с водой, а вода промочила ткань! А ткань чистошерстяная, ручной выделки, из Мешхеда!
Тут уж раздражение овладело не только маленьким Азимом, но и самим ахундом. С сожалением взглянув на жалкого, невежественного собеседника, ахунд терпеливо сказал:
– Конечно, вода была, но она испарилась, ее больше нет.
... Сеид Азим на мгновенье увидел давних собеседников, услышал их голоса, увидел в углу той комнаты маленького Азима. Где та комната и где сегодняшний меджлис?
Пока Сеид Азим возвращался в прошлое, Сона закончила свой танец и села к девушкам. Музыканты отдыхали, настрАйвали инструменты.
Стихли разговоры, полилась мелодия мугама. Печальная прекрасная мелодия потрясла русского гостя. Наклонившись к хозяину дома, он тихо спросил:
– Что это за чудесная симфония? Я слышал народных музыкантов и на Северном Кавказе, и в Тифлисе, еще в свой первый приезд на Кавказ в действующую армию, но подобной музыки мне слышать не доводилось.
– Да, вы правы, наши народные мугамы – это симфонии со своими музыкальными темами. Иногда это целый рассказ о подвиге, иногда лирическая поэма о любви. Случается, что в мугаме одна тема сменяет другую и тогда мугам особенно близок к симфонии. Вот сейчас музыканты исполняют лирический мугам под названьем "Кабили".
Теперь запел Наджафгулу, о котором мы говорили как о прекрасном каллиграфе и поэте. Но исполнявшийся певцом мугам был переложением на музыку известного фарсидского стиха:
И снова Сеидом Азимом овладели мысли о Соне. Слова фарсидской газели натолкнули на новую для него рифму, незаметно для него самого начала рождаться газель с новым редифом[2]2
2 Редиф – повторяющиеся после рифмы слова или фраза.
[Закрыть] и размером. Слова звучали все яснее и яснее, и он не заметил, как музыканты и девушки-танцовщицы покинули комнату. Мысли теснились в его голове: «До каких пор человек должен будет скрывать свои чувства? Разве сокровенные желания обязательно греховны? Почему воспрещается говорить о любви и прекрасных женщинах? Даже восторженное признание „да буду я твоей жертвой“ можно сказать во всеуслышанье только на таких вот меджлисах, о посещении которых не расскажешь даже у себя дома! Когда мусульманину будут дозволены любовные мечты? Почему стольких вещей следует стесняться? Почему страх перед старшим останавливает его в признании истины? До каких пор летучие мыши будут затмевать яркие лучи солнца своими черными крыльями? До каких пор, да буду я твоей жертвой?»
Новая газель, воспевающая земные радости, отдавалась ударами сердца, он обращался к символу красоты, который с этого дня, по его убеждению, мог связываться лишь с красотой только что увиденной танцующей чанги.
Махмуд-ага незаметно руководил меджлисом. Слуги принесли и унесли воду в кувшинах и тазы для споласкивания рук. Расстелили на коврах скатерти.
На больших фарфоровых блюдах исходит душистым паром шафранный плов с тмином. На скатерти теснятся большие пиалы с гарнирами и приправами к плову, разноцветные кувшины с прохладительными напитками.
Махмуд-ага особенное внимание уделял князю Гагарину, не знакомому, как казалось хозяину, с обычаями Востока, но не упускал из поля зрения ни одного из гостей. Особенно его занимал молодой Сеид Азим. Казалось, что молодой человек не замечает, что ест, что делает; видно было, что мысли его далеко. Рза-бек рекомендовал его как тонкого поэта. "Надо получше с ним познакомиться", – подумал Махмуд-ага.
Уже убрали посуду, принесли кувшины и тазы для споласкивания рук, когда Махмуд-ага обратился к Сеиду Азиму:
– Говорят, вы пишете стихи, Ага, нам будет приятно, если вы прочтете что-нибудь, соответствующее нашему сегодняшнему, меджлису любителей поэзии и музыки.
Сеид Азим понял, что общество устраивает ему нечто вроде экзамена... Тут неуместны ни смущение, ни излишняя скромность. Не он ли сам минуту назад задавался вопросом: "До каких пор мы будем опасаться произнести собственное суждение, выразить собственное желание?" Ему представился случай вслух произнести то, что родилось только что на этом меджлисе. Пусть родившаяся здесь газель прозвучит впервые тоже здесь. Жаль, Сона не услышит этих строк, не узнает, что Сеид Азим сочинил их, вдохновленный ее танцем...
Если господа позволят... – начал он, заливаясь краской.
Со всех сторон отозвались голоса:
– Просим!
– Пожалуйста!
– Начинай!
Он приподнялся на коленях и постепенно нарастающим, усиливающимся голосом начал газель.
Князь Гагарин с интересом прислушивался к мелодии незнакомой речи. Это не было похоже на чтение русских или французских стихов. В том, что читал молодой человек с умными, внимательными глазами, не чувствовалось ритмики, знакомой князю, скорее всего это напоминало морской прибой: волна то ударяет, то откатывается и затихает... Что-то в этом стихосложении напоминало мугам, который давеча исполняли музыканты. Он улавливал в конце каждого периода повторяющиеся слова:
Зашатался, упал, потерял я сознанье и речь, как Муса,
Потому что божественный свет, как и он, пред собой увидал.
Был рожден мусульманином я, стал красавицы нежной рабом,
Потому что сиянье Мухаммеда в ней лишь одной увидал.
Не увижу я больше ее, вот и плачу теперь день и ночь,
Словно только вчера, как во сне, все, что было со мной, увидал.
Как только затих голос Сеид Азима, раздались восторженные отклики:
– Какой талант!
– Молодец, хорошим поэтом будет!
– Не "будет", а уже есть поэт!
– Ах, земля Ширвана! Кто выпил глоток ее воды – уже поэт...
– Ты из каждого родника по целому озеру выпиваешь, что ж поэтом не становишься?
– Откуда знаешь, что не становлюсь?..
– Да, и в самом деле красоту меджлиса Махмуда-аги можно сравнить разве что с прекрасным сном!
Но были и другие голоса:
– Детка, как скоро ты отрекся от мусульманства и решил стать шейхом Сананом, полюбившим христианку? Может быть, тоже собираешься пасти свиней своей возлюбленной?
Шутки и смех усилились. Махмуд-ага торопливо переводил князю сначала содержание газели, а потом и разговоры по поводу нее. О шейхе Санане, влюбленном в христианку и согласившемся ради нее пасти стадо свиней, он тоже рассказал... Во время перевода губы художника мягко подрагивали в улыбке. Как только Махмуд-ага кончил, князь поднялся, подошел к поэту и крепко пожал ему руку.
Сеид Азим, ожидавший слов одобрения от Махмуда-аги, растерялся от рукопожатия князя, сердце его колотилось, ему казалось, что все это слышат. Но он понял, что экзамен при госте сдал успешно.
Махмуд-ага, молча наблюдавший эту сцену, медленно и не без довольства проговорил:
– Браво, Сеид, если бы я услышал эту газель от другого, если бы не увидел в ней примет нашего меджлиса, то подумал бы, что она принадлежит перу великого Физули. Молодец, клянусь памятью покойного отца, ты прославил наше сегодняшнее торжество, возвысил нас перед князем. Вот и он восхищен гармонией ее звучания. Его, как и всех нас, восхитило то, что газель эта сочинена экспромтом, у нас на глазах. Прошу тебя, Ага, запиши ее, и пусть Наджафгулу ее перепишет и заучит для наших будущих меджлисов!
Гости расходились под впечатлением прекрасного вечера: великолепный танец красавицы Соны, неожиданные стихи Сеида Азима, такие мелодичные и смелые...
Сеид Азим и Тарлан вышли вместе. Оба были взволнованы... Для поэта это был особенный день. Впервые он вынес на публичный суд свои стихи, да еще такие неожиданные для него самого; впервые он присутствовал на подобном собрании ценителей муз. Музыка звучала еще в его ушах, перед глазами все еще танцевала Сона... Его сравнили с великим Физули, перед чьей поэзией он преклонялся. Только от одного этого сравнения может закружиться голова. В душе его зрели новые надежды... Его произведения будут нравиться, их будут заучивать нАйзусть, подобно тому как он заучивал полюбившиеся строки Низами и Физули...
Дед Сеида Азима – Ахунд Гусейн часто говорил внуку: "В Ширване под каждым могильным камнем лежит поэт... Я заметил, сын мой, что ремесел ты сторонишься. Увлекаясь науками, изучая серьезно богословие, ты и моллой не хочешь стать. По своему характеру ты не сможешь стать слугой этого пути. Но быть слугой пера значит быть слугой правды. Чем правдивее ты будешь писать, тем больше будешь нуждаться. Если не будешь клонить голову перед владетельными беками, жизнь твоя пройдет в мучениях и бедности, как у великого Хагани, похороненного на чужбине, как у царственного шейха Низами Гянджеви, как у служителя в мавзолее имама Гусейна в Кербеле могучего Физули. Ты будешь вечно виноват перед своей семьей, которую не сможешь накормить. Берясь за перо, ты прежде должен подумать о грядущих днях, заранее быть готовым на страдания, унижения, попреки. А мало ли хулителей-невежд? Ты будешь живым распят на кресте, как Иисус, тебе отрубят голову, как имаму Гусейну в Кербеле! Жизнь истинного поэта всегда кончается трагически. Выдержишь ли ты все это? Пути поэта устланы не цветами, они заросли колючками... Ради одного пуда пшеницы, одного мельничного помола муки нельзя сочинять незаслуженные оды-восхваления, это недостойно настоящего поэта. Это к лицу только грамотным бакалейщикам, которые, выдумав себе пышный псевдоним, принимаются между делом за стихотворство... В Ширване есть поговорка, что каждый бакалейщик мнит себя поэтом. Но поэт не должен думать, что он бакалейщик, он не должен свою поэзию взвешивать на весах и продавать! Поэзия, поэтический дар – великое сокровище. Коран сочинен в стихах, поэтому быстро овладевает умами. Пророк благословенный хорошо постиг эту прекрасную особенность поэзии... Но не все рифмованное есть поэзия... Если, сын мой, у тебя талант большого поэта, не делай его товаром для продажи!" Сеид Азим и сейчас, спустя годы, не осмелился бы прервать деда... Губы его шептали:
В день, когда мне четырнадцать минуло лет,
Не о роскоши, блеске стал думать я, нет.
Светом знания жизнь озарилась моя.
С тех пор поэт замкнулся в своем мире, мире воображения и поэзии. Не знал и не предвидел тогда юный поэт, что сбудутся пророчества деда: жизнь его пройдет в постоянной нужде и лишениях. Не только о красоте, о прекрасном будет петь его муза – напишет он и такие едкие сатиры, как «Поминки по псу», «Проповедь духовника», «Эпиграмма на шемахинских беков», и наживет своим творчеством сотни врагов, что вынудит его бедность писать стихотворные письма-подношения, полные похвал приятелям бекам... Но в эту минуту ни о чем подобном Сеид Азим не помышлял, будущее он видел в розовом свете.
Идущий с ним рядом Тарлан был погружен в свои собственные думы, жил в своем мире. Перед его глазами танцевала Сона, Тарлану казалось, что он читал каждый жест ее, каждое движение прекрасных рук, чувствовал, что взгляд ее выражает боль и страдание. Он был полон любви, но кто согласится признать эту любовь?! Как заявить о ней? Не говоря о фанатично религиозных родителях, он не может признаться в своей любви к Соне даже такому редкому человеку, как его друг Сеид Азим... Тарлан готов был скитаться ради любимой по пустыне подобно Муджнуну, как Фархад киркой пробить туннель в скале... Но имя назвать ее он не смел. На чанги лежал позор, запрет. Никому на всем белом свете он не мог признаться, что хочет жениться на Соне, что ради нее готов на смерть... "Я горю на медленном огне, но никто не знает о моем горе... И хорошо, что не знает, иначе начнут смеяться, издеваться надо мной".
Внезапно Тарлан прервал затянувшееся молчание:
– Ага, прошу тебя, напиши для меня газель!
– Как это "для меня"?
– Я ее... – он замялся.
– Ты хочешь, чтобы я посвятил ее тебе или кому-нибудь другому?
– Я пошлю ее одному человеку...
– Кому, если не секрет? – Сеид Азим внимательно взглянул в глаза Тарлана. Из-под густых сросшихся бровей на поэта смотрели ясные светлые глаза, наполненные невысказанной мукой. "Э, да парень, видно, влюблен и скрывает это..." – Не волнуйся, брат, я разве не знаю, что наши мужчины тщательно скрывают имя своей любимой... Но если сердце твое полнится любовью, это прекрасно... Очень добрая весть, да поможет аллах, и свадьба не заставит себя долго ждать. А от меня подарком будет газель, не осуди за малость, как говорится, подарок дервиша – лишь зеленый листок.
Тарлан лишний раз оценил деликатность друга. Он не мог сказать, для кого просит сочинить газель. Даже во сне не дай аллах произнести имя своей любимой, чтобы об этом не узнали мать и отец.
Друзья вышли к берегу реки. Оба умыли прохладной водой раскрасневшиеся лица, сели на камни. У самых ног бились о валуны журчащие воды Зогалавай.
Сеид Азим задумчиво смотрел на бегущую пенящуюся реку.
– Если сам любишь и знаешь, что тебе отвечают тем же, – это великое счастье! А как быть тем, кто должен беспрекословно исполнять родительскую волю, надеясь только на россказии и домыслы свахи, советы близких и дальних родственников, которые не знают, что творится в сердце того, кто женится или выходит замуж! Меня оторопь берет, когда подумаю о своей будущей женитьбе... Кого для меня сосватают? Уродину или красавицу – не столь важно... Каким она будет человеком, добрым или злым, покладистым или упрямым? Как много тяжелых последствий тянется за такими женитьбами вслепую! Ах, что я тебе голову морочу, ты и сам все прекрасно знаешь, надеюсь, у тебя так не произойдет... Не хмурься понапрасну, напишу для тебя газель.
Они помолчали.
– Эх, друг мой, наступит ли такое время, когда каждый молодой человек сам сможет решить свою судьбу? Увидит девушку, полюбит, женится. Выберет по своему вкусу, и если не повезет, то никого винить за свои неудачи не станет. И мед его, и горечь его. Не будет посредников-сватов. Человек сам построит семью, сообразуясь со своими желаниями и вкусами, а не представлениями о счастье своих родственников. Я так им завидую, молодым людям будущего, которые будут свободны от плена обычаев и невежества, и посылаю им через годы свой привет!
Тарлан восхищенно выслушал эту пламенную речь и, поддавшись возвышенному состоянию духа молодого поэта, воскликнул непроизвольно:
– Привет!
Оба внезапно рассмеялись и встали с облегчением, на минуту им показалось, что будущее почти рядом.
... Во время вечернего азана они вошли в район Галабазара. Звонкий голос Кебле Мурвата сзывал правоверных к вечернему намазу: "Идите к лучшему из дел!"
Подходя к дому Сеида Азима, молодые люди встретили ближайшего соседа его по кварталу Мешади Ганбара. Держа в руке узелок из домотканой разрисованной материи, он возвращался из бани после вечернего омовения.
Пять ежедневных молитв обязательны для всякого мусульманина, но прежде чем приблизиться к богу, правоверный должен непременно очиститься от скверны. Омовение должно всегда предшествовать молитве: чистой, не оскверненной водой нужно омыть лицо, руки до локтей, голову, ноги, иначе молитва считается недействительной. А уж затем можно и помолиться. Не обязательно совершать это в мечети, можно молиться и дома или даже под открытым небом на специальном ритуальном коврике. Мешади Ганбар никогда в жизни не пропустил ни ритуального омовения, ни молитвы. Неодобрительным взглядом одарил он своего соседа и сына Гаджи Асада: только больные и потерявшие здравый ум могут пренебречь намазом! Чистое, свежее после бани лицо старика от негодования покраснело. Не сказав молодым людям ни словечка, он закрыл за собою свои ворота. Пройдя в угол двора, он привычным движением расстелил джанамаз – ритуальный коврик – и замер на миг, подняв руки до уровня плеч. Мешади проникновенно произнес: "Аллах превелик!" Вложив левую ладонь в правую, он начал читать первую суру корана, потом склонился так, что его ладони коснулись колен, снова выпрямился и с надеждой произнес: "Аллах слушает того, кто воздает ему хвалу!" Старик стал коленями на свой коврик, приложил ладони к земле и наконец распростерся плашмя на ковре, снова приподнялся на колени и снова распростерся. Когда он сел, поджав под себя ноги, лицо его было умиротворено, а губы шептали: "Да будет на вас милосердие аллаха..." Он посмотрел сначала направо, потом налево и снова произнес последние слова.
... Алое утро вставало над Шемахой. Природа окрасила близлежащие окрестности всеми оттенками красного – от бледно-розового до густо-малинового. Но вот небо засветлело, засинело, яркое солнце поднялось над зелеными лугами.
Сеид Азим спустился к зарослям ивняка на берегу Зогалавай. Здесь он часто договаривался о встрече с Тарланом, они часами беседовали под неумолчный шум реки. Когда же он приходил сюда один, то не тяготился безлюдьем: тотчас безудержное воображение занимало его ум... Печальный ритм, отбиваемый волнами реки, незаметно настрАйвал его на ритм газели. Он ощущал ритмику и в контрастном чередовании кипарисов и длинноволосых ив на берегу Зогалавай, ему грезился танец стройных высоких кипарисов с печальными ивами – танец дочерей и сыновей его родного Ширвана.








