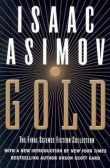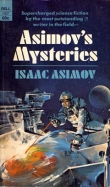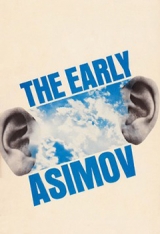
Текст книги "Ранний Азимов (Сборник рассказов)"
Автор книги: Айзек Азимов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 37 страниц)
– И я надеюсь, – с чувством поддержал Тэйлор. – Пойдем-ка назад. Они, наверно, уже нашли способ отделаться от этой ложки.
Устремление
(Маятник)
Trends (1939)
Перевод: Б. Миловидов
«Маятник» – не первый мой рассказ, который был опубликован; он был третьим. Другие два, однако, не попали в «Astounding Science Fiction», так что они как бы и не считаются. Этот же рассказ – первый, который у меня купил Джон Кэмпбелл, и с тех пор я стал самым молодым членом «стаи», которую он к тому времени вокруг себя собрал.
Хотя потом Джону Кэмпбеллу и случалось иметь дело с еще более молодыми авторами, не думаю, что за всю свою карьеру он встречал новичка столь не от мира сего и столь наивного, как я. Похоже, это его забавляло: приятно иметь такую прекрасную возможность придать форму сырому материку. Как бы то ни было, я всегда считал себя его любимчиком – на меня он тратил больше времени и сил, чем на кого-нибудь еще. Хочется думать, что это до сих пор заметно.
Я всегда гордился тем, что мой первый рассказ в «Astounding» появился в первом выпуске серии «Золотой век», хотя и ясно, что никакой связи тут нет. Если уж на то пошло, в блеске «Черного разрушителя» Ван Вогта, открывавшего выпуск, едва ли кто разглядел мою собственную слабенькую звездочку.
Пер. изд-ва «Полярис»
Когда в тот день я появился в офисе, Джон Харман сидел за своим столом, погруженный в размышления. Видеть его в такой позе – голова охвачена руками, на лице хмурая гримаса, взгляд устремлен на Гудзон – становилось уже привычным. Казалось несправедливым, что маленький задира вот так изо дня в день надрывает себе сердце, тогда как по всем законам ему следовало бы купаться в лести и преклонении всего мира.
Я шлепнулся в кресло.
– Видели редакционную статью в сегодняшнем "Кларионе", босс? Харман поднял на меня покрасневшие от усталости глаза.
– Нет, не удосужился. И что на этот раз? Опять призывают на мою голову гнев господень? – саркастически поинтересовался он.
– На этот раз они зашли немного дальше, босс, – ответил я. – Послушайте-ка: "День грядущий ассоциируется у нас с намерением Джона Хармана осквернить небеса. Завтра, бросая вызов общественному мнению и совести всего человечества, этот человек намерен одновременно бросить вызов и самому Господу.
Человеку непозволительно добиваться своих целей любой ценой, – к каким бы вершинам ни влекла его мечта. Существуют понятия, навеки запретные для него, и одно из них – стремление достигнуть звезд. Подобно Еве, Джон Харман намерен вкусить от запретного плода, и, как Еве, муки будут ему наказанием.
Но тем дело не ограничится. Если мы допустим, чтобы этот человек испытывал терпение Господне, то грех сей падет на все человечество, а не на одного Хармана. Позволив ему довести до конца свое дьявольское намерение, мы все станем соучастниками преступления, и гнев Господень изольется на нас в той же мере.
Таким образом, становится настоятельной необходимостью принять должные меры, дабы помешать Харману сделать завтра попытку подняться к небесам на так называемом "ракетном корабле". Отказавшись предпринять такие шаги, правительство лишь усилит возмущение граждан. Если не будут приняты мерь по конфискации "ракетного корабля" или же по задержанию Хармана, то оскорбленным честным гражданам придется взять это дело в свои руки…"
Харман в ярости сорвался с места и, выхватив у меня из рук газету, гневно отшвырнул ее в угол.
– Да это же открытый призыв к линчеванию, – проревел он. – Вот, полюбопытствуй! Он бросил мне пять-шесть конвертов. С первого взгляда было ясно, что это такое.
– Опять угрозы? – спросил я.
– И ничего другого. Я договорился, чтобы возле здания усилили полицейские патрули, а завтра, когда я пересеку реку, – осмотрели стартовую площадку. В пути меня будет сопровождать эскорт мотоциклистов, – Он взволнованно заметался по комнате. – Просто не знаю, что делать, Клиффорд. Вкалывал, как каторжник, ухлопал уйму денег, позабыл обо всех радостях жизни – и чего ради? Чтобы банда недоумков-возрожденцев натравливала на меня общественное мнение, да так, что даже жизни моей угрожает опасность.
– Вы опередили время, босс, – я смиренно пожал плечами, и этот жест заставил его яростно закружиться вокруг меня.
– "Определил время?" О чем это ты? На дворе тысяча девятьсот семьдесят третий год. Вот уже полвека мир готов к космическим путешествиям. Во все времена люди мечтали о том дне, когда человек оторвется от Земли и углубится в космические бездны. Веками наука шаг за шагом двигались к этой цели, и теперь… теперь, когда я, наконец-то, ее достиг – надо же! – ты заявляешь, что мир не готов принять меня.
– Двадцатые и тридцатые годы были годами анархии, упадка и беззакония, если вы еще не забыли уроки истории, – доброжелательно напомнил я. – Не стоит принимать их за эталон.
– Да знаю я, знаю. Теперь ты пустишься рассуждать о Первой Мировой четырнадцатого года и о Второй сороковых. Для меня все это – прошлое; мой отец принимал участие в одной, а дед сражался на фронтах другой. Но что ни говори, это были дни расцвета науки. Люди тогда не боялись; они были способны и мечтать, и рисковать. Не было такого понятия, как консерватизм; не было теорий, слишком радикальных для проверки; не было открытий, слишком революционных для обнародования. А теперь бледная немочь овладела миром, даже такие великие начинания, как космические путешествия, воспринимаются "вызовом Богу".
Голова его медленно поникла, он отвернулся, стараясь скрыть подрагивавшие губы и слезы на глазах. Но тут же вновь стремительно повернулся ко мне.
– Но я им покажу! – глаза его засверкали. – Я готов на все – назло Земле, аду, небесам! Слишком многое я в это вложил, чтобы теперь смириться.
– Успокойтесь, босс, – посоветовал я. – Вам это ничуть не пойдет на пользу, когда вы завтра подниметесь в ракету. И без того ваши шансы на удачное возвращение не слишком велики, так стоит ли показывать толпе, что вас раздирают сомнения и тревоги?
– Ты прав. Хватит об этом. Где Шелтон?
– Отправился в Институт выбивать заказанные нами специальные фотопластинки.
– Но ведь он уже давненько уехал, верно?
– Не так уж давно. Знаете, босс, с ним что-то не в порядке. Мне он не нравится.
– Чепуха! Мы проработали вместе уже два года, и мне не на что пожаловаться.
– Ну отлично! – я смиренно сложил руки. – Не хотите меня слушать – не надо. Но как-то я застал его за чтением одного из дьявольских памфлетов Отиса Элдреджа. Из этих, сами знаете: "Вострепещи, о, человечество, ибо грядет Страшный Суд! Каждому будет воздано по грехам его. Раскайтесь – и спасение придет". И прочая освещенная веками белиберда.
Харман неприязненно фыркнул:
– Ораторствующий возрожденец, скверный и напыщенный! Думаю, миру никогда не избавиться от людей такого типа – дебилов всегда хватает. Но не следует осуждать Шелтона лишь потому, что он читает эту дрянь. При случае я переговорю с ним.
– По его словам, он подобрал листовку на улице, но я-то почти уверен, что видел, как он доставал ее из сумки. Зачем тогда уверять, что он почитывает исключительно из любопытства? К тому же, он каждое воскресенье ходит в церковь.
– Разве это преступление? Да и кто в наши дни туда не ходит!
– Верно, но не в Евангелическое Общество Двадцатого Века. Это уже Элдредж. Хармана новость потрясла. Несомненно, раньше он об этом не слышал.
– Ладно, это уже кое-что. Надо бы приглядывать за ним повнимательнее.
Однако после этого разговора все так закрутилось, что мы начисто позабыли о Шелто-не – пока не оказалось слишком поздно.
В тот день – накануне испытаний – особой работы не предвиделось, поэтому я прошел в соседнюю комнату, намереваясь поработать над заключительным отчетом Хармана для института. В мои обязанности входило вычитывание ошибок и опечаток, но, боюсь, тогда я не слишком преуспел. Честно говоря, я не мог сосредоточиться. Каждые пять минут я погружался в невеселые размышления.
Вся эта суета вокруг космических полетов выглядела подозрительно. Когда Харман впервые сообщил о готовности "Прометея" – месяцев шесть назад – научные круги ликовали. Конечно, они сохраняли осторожность в заявлениях, но энтузиазм был подлинным.
Массы, однако, восприняли все по-иному. Вам, живущим в двадцать первой веке, это, возможно, покажется странным, но нам уже тогда, в семьдесят третьем, этого следовало опасаться. В те дни люди недолюбливали прогресс. Из года в год они все сильнее склонялись к религии, и когда церкви единодушно выступили против проекта Хармана… Что ж, предугадать последствия было несложно.
Сперва оппозиция ограничивалась самими церквями, и мы надеялись, что тем дело и кончится. Но не тут-то было. Знамя борьбы подхватили газеты, дословно перепечатывавшие проповеди. В рекордно короткий срок бедняга Харман сделался чуть ли не злым гением всего мира, и вот тогда только и начались его неприятности.
Каждый день он получал послания с угрозами, изо дня в день на его голову призывался гнев божий. Он не мог спокойно появиться на улице. Множество сект, ни к одной из которых он не принадлежал – он отличался крайне редкостным для тех дней свободомыслием, и это служило дополнительной причиной для гонений – отлучило его, провозгласив по этому поводу специальные интердикты. Но, что хуже всего, Отис Элдредж начал мутить простой народ.
Элдредж был странной личностью – своего рода гением, одним из тех, что нередко возникают ниоткуда. Наделенный пламенным красноречием и великолепно подвешенным языком, он буквально гипнотизировал толпу. Двадцать тысяч человек, стоило им услышать Элдреджа, становились глиной в его руках. И вот уже четыре месяца он метал громы в Хармана, вот уже четыре месяца неудержимым потоком, разжигая ярость толпы, изливались проклятия. И все это время в мире рос гнев.
Но Хармана это не запугало. В его крохотном – пять футов два дюйма – тельце хватило бы духа на пяток шестифутовых атлетов.
Чем громче выли волки, тем крепче он стоял на земле. Почти с божественным – его враги заявляли: "с дьявольским" – упорством он отказывался отступить хоть на дюйм. Однако внешняя непоколебимость была для меня, знавшего его, всего лишь ненадежной маской, скрывавшей великую скорбь и горькие разочарования.
В это мгновение мысли мои прервал дверной звонок. Я даже вскочил от удивления: теперь посетители стали у нас редкостью.
Выглянув в окно, я увидел высокого, дородного человека, разговаривающего с сержантом полиции Кэссиди, и сразу же признал в нем Говарда Уинстэда, директора Института. Харман поспешил приветствовать его; обменявшись словами, они поднялись в офис. Я недоуменно наблюдал за ними, не в силах понять, что могло привести директора к нам.
Поначалу Уинстэд чувствовал себя не в своей тарелке – куда только подевалась вся его обычная обходительность! Он смущенно избегал взгляда Хармана, бормоча какие-то светские благоглупости касательно погоды. Потом с прямой, недипломатичной грубоватостью перешел прямо к делу.
– Джон, не отложить ли на время испытания?
– А на самом деле вы намерены отказаться от них навсегда, верно? Что ж, я против, и это мое последнее слово.
Уинстэд приподнял руку.
– Да погодите же, Джон, не волнуйтесь раньше времени. Дайте мне сказать. Я знаю, Институт предпочел бы умыть руки; знаю, что чуть ли не половину средств вы вложили из собственного кармана, но… вам не следует упорствовать.
– Значит, не следует? – насмешливо фыркнул Харман.
– Да послушайте же, Джон! Вы специалист в своей области, зато ничего не понимаете в человеческой природе, а я понимаю. Мир сейчас уже не тот, что был в Безумные Десятилетия, нравится вам это или нет. После сороковых годов произошли глубочайшие изменения.
И он наконец-то перешел к речи, вне всяких сомнений, старательно подготовленной заранее:
– После Первой Мировой войны, как вы знаете, человечество отвернулось от религии, устремясь к освобождению от условностей. Люди озлобились и разочаровались. Элдредж назвал те годы "временами распущенности и греха". Но зато наука процветала – иные утверждают даже, что для нее всегда больше пищи в подобные переходные периоды. С такой точки зрения – это был Золотой Век.
Но вы, разумеется, знакомы с политической и экономической историей тех лет – времен политического хаоса и международной анархии. Самоубийственный, безумный и бездумный период – и он достиг кульминации в годы Второй Мировой войны. И так же, как Первая Мировая предшествовала периоду загнивания, так и Вторая способствовала возврату к религии.
Безумные Десятилетия вспоминаются с отвращением. Человечество больше не могло выносить такого положения и пуще всего боялось возврата к прошлому. Предотвращая такую возможность, люди избрали на грядущие десятилетия иной путь. Побуждения их, как видите, были понятны и похвальны. Все свободы, вся безнравственность, все неприятие условностей были сметены стремлением к нравственной чистоте. Теперь мы живем в Неовикторианскую эпоху и это вполне естественно, ибо человеческая история подобна качанию маятника, и сейчас он движется в сторону религиозности и традиций. Лишь одно уцелело от той поры полувековой давности. Это естественное почтение человеческого разума к науке. Наше общество знает запреты: женщинам возбраняется курить и пользоваться косметикой, позабыты открытые платья и короткие юбки, отношение к разводам неодобрительно. Но на науку ограничения не распространялись – до сих пор.
Тем не менее, науке следует быть поосторожнее, избегая раздражать общественное мнение. Народ очень легко обратить в какую-то веру – и Отис Элдредж в своих выступлениях опасно близко подошел к этому, утверждая, что именно науке мир обязан всеми ужасами Второй Мировой. Он мог бы добавить, что наука опережает культуру, а технология обгоняет социологию, и такой дисбаланс способен привести мир к гибели. Даже я склонен порой думать, что это не так уж далеко от истины.
Да знаете ли вы, что может произойти, если такая точка зрения победит? Научные исследования могут оказаться под запретом; даже если дело не зайдет так далеко, то уж несомненно попадут под такой строгий контроль, что все наши усилия пропадут даром. От этого бедствия человечество оправится разве что через миллионы лет.
И все это может обрушиться на нас именно благодаря вашему испытательному полету. Вы вызвали такой гнев общественности, что теперь людей будет трудно успокоить. Я вас предупредил, Джон. А выбор оставляю на ваше усмотрение.
На мгновение установилось полнейшее молчание, потом Харман заставил себя улыбнуться.
– Ну и ну, Говард, вы позволили теням на стене победить себя. Зачем вы пытаетесь мне доказать, будто в самом деле верите, что весь мир готов погрузиться во мрак нового Средневековья? Ведь все разумные люди, что бы там ни было, всегда стояли на стороне науки, разве не так?
– Может, такие и есть, но много ли их останется, если все пойдет так, как я предвижу? – Уинстэд достал из кармана трубку, неторопливо набил ее и только тогда продолжил. – Два месяца назад Элдредж сформировал Лигу Праведников ЛП, как они сокращенно ее называют, – и с тех пор она невероятно разрослась. Только в Соединенных Штатах она насчитывает около двадцати миллионов членов. Элдредж похваляется, что после ближайших выборов Конгресс окажется в его руках, и это похоже на правду. Уже наблюдается активный нажим в поддержку билля, ставящего все ракетные эксперименты вне закона. Постановления такого рода уже приняты в Польше, Португалии и Румынии. Да, Джон, мы чертовски близки к началу гонений на науку.
Только теперь он закурил, делая быстрые, нервные затяжки.
– Но если мне удастся, Говард, если мне удастся! Что тогда?
– Ха! Вы сами знаете свои шансы на успех – один из десяти.
– Какое это имеет значение? Следующий учтет мои ошибки, его шансы возрастут. Таков научный метод.
– Толпу не интересует научная методология, она ее и знать не желает. Ну, так что вы ответите? Согласны отложить старт?
Харман резко вскочил на ноги, кресло с грохотом отлетело в сторону.
– Да вы понимаете, о чем просите? Вы хотите, чтобы из-за какой-то чепухи я отказался от мечты? Или вы думаете, я соглашусь отойти в сторону и подождать, пока ваша ненаглядная общественность соизволит высказать одобрение? Неужели вы считаете, что они способны измениться еще на моем веку?
Вот мой ответ: я обладаю неотъемлемым правом преумножать знания. Наука обладает неотъемлемым правом развиваться и совершенствоваться без помех. Мир, стремящийся мне помешать, заблуждается; истина на моей стороне. И пусть путь вперед нелегок, но от своих прав я не откажусь.
Уинстэд печально покачал головой.
– Вы заблуждаетесь, Джон, когда говорите о неотъемлемом праве. То, что вы называете правом – всего-навсего привилегия, одобренная большинством. Лишь то, что устраивает общество, становится правом; а то, что не устраивает, оказывается заблуждением
– И ваш дружок Элдредж согласен с подобным обоснованием его, с позволения сказать, праведности? – горько поинтересовался Харман.
– Он, может быть, и нет, но к делу это не относится. Возьмем, к примеру, те африканские племена, что были склонны к людоедству. Воспитанные на каннибализме, они обладали древними традициями каннибализма и их общественное мнение с одобрением относилось к подобной практике. Для них людоедство было неотъемлемым правом. Так что сами можете убедиться, сколь относительны все понятия и сколь несостоятельна ваша концепция неотъемлемых прав на проведение эксперимента.
– Знаете, Говард, вы предали свое призвание, не став юристом, – Харман не на шутку разозлился. – Вы готовы витийствовать, используя любые побитые молью аргументы. Господи, вы пытаетесь доказать, что отказаться бежать вместе с толпой – преступление? Вы что же, за полное единообразие, посредственность, ортодоксальность, банальность? Да наука зачахнет от начертанной вами программы скорее, чем от запретов правительства!
Харман поднялся, обвиняюще указуя перстом на собеседника.
– Вы предаете и науку, и традиции ее прославленных бунтовщиков – Галилея, Дарвина, Эйнштейна и многих-многих других. Моя ракета стартует завтра, как и было намечено – назло вам, назло всем прочим напыщенным ничтожествам Соединенных Штатов. Я сказал все, и более выслушивать вас не намерен. Я вас не задерживаю.
Директор Института побагровел и повернулся ко мне.
– Вы свидетель, молодой человек, что я предупреждал этого упрямого дурака, этого… этого безрассудного фанатика.
Он пробормотал еще что-то невразумительное и удалился размашистыми шагами, с видом нескрываемого возмущения.
Когда он исчез, Харман повернулся ко мне.
– Ну, что ты об этом думаешь? Полагаю, согласен с ним? Существовал лишь один возможный ответ, которым я и воспользовался:
– Вы платите мне за работу, босс, а не за что-то другое. Я остаюсь с вами. Тут-то и появился Шелтон, и Харман немедленно засадил нас за очередную сверку расчетов полетной орбиты, а сам решил вздремнуть.
Следующий день, пятнадцатое июля, начинался и незапятнанном великолепии. И Харман, и Шелтон, и я пребывали чуть ли не в веселом расположении духа, когда, сопровождаемые внушительным полицейским эскортом, пересекли Гудзон, направляясь к "Прометею", сверкающей громадой выраставшему перед нами.
Вокруг него, остановленная на безопасном расстоянии шнурами, шевелилась гигантская толпа. Большая часть ее была настроена неприязненно, если не сказать враждебно. Честно говоря, выкрики и проклятия, донесшиеся в те минуты, пока полицейский эскорт расчищал нам дорогу, почти заставил меня увериться в правоте слов Уинстэда.
Но Харман был спокоен, разве что однажды высокомерно усмехнулся в ответ на возглас: "Вот он, Джон Харман, Сын Сатаны!" Он спокойно распределил между нами предстартовую работу. Я занялся осмотром корпуса. Шелтона отправили проверять топливные системы. Сам Харман тем временем облачился в неуклюжий скафандр, проверил его исправность и объявил, что готов.
Толпа заволновалась. На помост, поспешно сооруженный из досок, быстро подаваемых откуда-то из толпы, поднялась впечатляющая фигура – высокий, худощавый человек с тонким аскетическим лицом, глубоко посаженными, полыхающими глазами, увенчанный густой седой гривой. Это был сам Отис Элдредж. Он сразу же привлек к себе внимание. Многие приветственно закричали. Энтузиазм нарастал, вскоре вся человеческая масса хрипло горланила в его честь.
Он поднял руку, призывая к тишине, повернулся к Харману, удивленно и неприязненно наблюдавшему за ним, нацелил на него длинный, костлявый палец.
– Джон Харман, сын Дьявола, сатанинское отродье, для мерзких целей ты явился сюда. Ты уже изготовился к богохульной попытке проникнуть сквозь завесу, по ту сторону коей запрещено находиться человеку. Ты вкусил от запретного плода из Сада Эдемского, но бойся, как бы не оказались деяния твои плодами греха! – Толпа эхом повторяла его слова. – Длань Господня простерта над тобой, Джон Харман. Не допустит Он осквернения дел своих. Придет к тебе ныне смерть, Джон Харман! – Голос Элдреджа набирал силу, и последние слова прозвучали с подлинно пророческой страстью.
Харман презрительно отвернулся. Громким, чистым голосом он обратился к полицейскому сержанту:
– Офицер, попытайтесь каким-то образом отодвинуть публику. При испытательном полете все возможно, а народ стоит слишком близко.
Полисмен ответил резко и недружелюбно:
– Если вы боитесь нападения толпы, то так и скажите, мистер Харман. Тут вы можете не волноваться, мы их остановим. Что же до опасности… от этой штуковины…
Он презрительно фыркнул, покосившись на "Прометея", чем вызвал очередной поток насмешек и издевок.
Харман, ничего не ответив, молча поднялся на корабль. И стоило ему сделать это, как толпу охватило поразительное оцепенение, прямо-таки ощутимое напряжение. Попыток броситься на корабль, представлявшихся мне неминуемыми, не последовало. Стоя на возвышении, Отис Элдредж сам приказал толпе отойти.
– Оставим грешника наедине с его грехами, – провозгласил он. – Ибо сказал Господь: "И гнев Мой падет на него".
На мгновение придвинувшись, Шелтон подтолкнул меня.
– Пошли отсюда, – прошептал он. – Ракетные выхлопы ядовиты. И бросился бежать, увлекая меня за собой.
Мы не успели добежать до зрителей, когда позади послышался оглушительный рев. Поверху прокатилась волна раскаленного воздуха. Что-то со свистом пронеслось мимо моего уха. Мощный толчок вздыбил землю. Ошеломленный падением, я некоторое время лежал, в ушах звенело, голова кружилась.
Когда, покачиваясь словно пьяный, я поднялся на ноги, зрелище открылось ужасное. Несомненно, все топливные баки "Прометея" взорвались одновременно, и там, где он только что стоял, теперь зияла воронка. Все вокруг было усеяно обломками. Душераздирующие крики раненых, покалеченные тела… я просто не способен описать это.
Слабый стон раздался у самых моих ног. Я взглянул вниз – и в ужасе отшатнулся. Это был Шелтон; затылок его превратился в кровавое месиво.
– Это я, – голос Шелтона был хриплым и почти неслышным, но все равно в нем звучало торжество. – Это я сделал… Я нарушил подачу топливно-окислительного компонента… и когда искра… дошла до ацетилидной смеси… все это проклятое устройство взорвалось. – Он помолчал, отдыхая, но потом заговорил снова, слабея на глазах: – Какой-то обломок, должно быть, зацепил меня… Но я не сожалею о содеянном. Я умираю, зная…
Слова сменились невнятным бормотанием, на лице застыло выражение мученического экстаза. С тем он и умер, и в сердце у меня не нашлось для него осуждения.
И тут я впервые вспомнил о Хармане. На поле появились машины "Скорой помощи" из Манхаттана и Нью-Джерси, одна из них пробиралась сквозь груды деревянных обломков туда, где в ярдах пятидесяти от меня застрял в ветвях деревьев оторвавшийся носовой отсек "Прометея". Как мог, быстро я захромал в ту сторону, но они извлекли Хармана наружу и увезли задолго до того, как я успел туда добраться.
Больше мне здесь делать нечего. Занятая своими смертями и ранами, толпа не способна мыслить, но стоит ей опомниться, стоит загореться жаждой мщения – и я недорого дал бы за собственную жизнь. Я последовал велению своей доблести и спокойно исчез.
Следующая неделя прошла для меня как в лихорадке. Все это время я прятался у знакомого. А Харман отлеживался в госпитале Темпль, хотя отделался лишь синяками и неглубокими порезами – благодаря спасительной группе деревьев, которые смягчили падение кабины "Прометея". Его решили не выпускать оттуда, пока не спадет волна всеобщего негодования.
Нью-Джерси, да и весь остальной мир, пребывали на грани безумия. Самая жалкая газетенка в заштатном городишке и та выходила с гигантским заголовком: "28 УБИТЫХ, 73 РАНЕНЫХ – ТАКОВА ЦЕНА ГРЕХА", набранным кроваво-красными буквами. Все требовали головы Хармана, настаивали, чтобы его судили за массовое убийство.
Отчаянный вопль "Линчевать его!" поднялся во всем мире. И вот тысячные толпы пересекли реку, нацеливаясь на Джерси-Сити. Во главе стоял Отис Элдредж. Не покидая открытой машины – обе ноги были в гипсе – он приветствовал марширующее стадо. Оно представлялось ему настоящей армией.
Карсон, мэр Джерси-Сити, собрал всю имеющуюся в наличии полицию, извел отчаянными звонками Тронтон, требуя присылки территориальной полиции штата. В Нью-Йорке перекрыли мосты и туннели, ведущие в город, но к тому времени уже многие успели из него выбраться.
К стычкам на побережье Нью-Джерси все было готово. И шестнадцатого июля они начались. Полицейские лупили дубинками направо и налево, но постепенно их вынуждали отступать все дальше и дальше. Конная полиция врезалась в толпу, но была рассеяна и отброшена сплошной человеческой массой. Лишь слезоточивый газ смог остановить напор толпы, но и он оказался бессилен рассеять это людское скопище и вынудить его отступить.
На следующий день было объявлено военное положение, в Джерси-Сити вошла национальная гвардия. Только это остановило, наконец, линчевания. Элдредж был приглашен на совещание к мэру, после чего предложил своим последователям разойтись по домам.
В сообщении для газет мэр Карсон: "Джон Харман должен понести наказание за свое преступление, но необходимо, чтобы ему был вынесен законный приговор. Органам юстиции следует придерживаться этого курса, и штат Нью-Джерси примет к тому все необходимые меры".
Через неделю более или менее установилось спокойствие. Харман понемногу перестал быть центром внимания общественности. Две недели спустя газеты уже не упоминали о нем ни словом, если не считать отдельных ссылок на его деятельность во время обсуждения антиракетного закона Зиттмана, который и был единогласно принят обеими палатами Конгресса.
Однако Хармана все еще держали в госпитале. Применять к нему каких-либо репрессивных мер, похоже, не собирались; но складывалось впечатление, что ему угрожает пожизненное больничное заключение – разумеется, "для его же собственного блага". Поэтому я поспешил приступить к действиям.
Госпиталь Темпль располагался в одном из отдельных и уединенных уголков Джерси-Сити, и я рассчитывал, что в темную, безлунную ночь не составит труда проникнуть на его территорию незамеченным. С ловкостью, удивившей меня самого, я проскользнул в подвальное окно, сильным ударом погрузил спящего врача в бессознательное состояние и направился в палату 15-Е, где, если верить записям, держали Хармана.
– Кто там?
Удивленное восклицание Хармана музыкой прозвучало в моих ушах.
– Тс-с-с! Тихо! Это я, Клифф Мак-Кенни.
– Ты? Что ты здесь делаешь?
– Собираюсь забрать вас отсюда. Если мне не удастся, то вам, вероятно, придется провести здесь всю оставшуюся жизнь. Идемте. Скорее.
Произнося это, я помогал ему одеваться, и вскоре мы уже выскользнули в коридор. Мы благополучно покинули территорию госпиталя и успели добраться до поджидавшей нас машины, прежде чем Харман достаточно собрался с мыслями, чтобы приняться за расспросы.
– Что с тех пор произошло? – первым делом поинтересовался он. – Я ничего не помню. Включил ракетные двигатели и очнулся уже в госпитале.
– Они вам ничего не говорили?
– Ни черта, – выругался он. – Я спрашивал, пока не охрип. Пришлось пересказать всю историю, начиная с момента взрыва.
Глаза его расширились от боли и удивления, когда я рассказал о мертвых и раненых, но засверкали от неистовой ярости, стоило ему узнать о предательстве Шелтона. Рассказ о мятеже и разгоне линчевателей вырвал у Хармана лишь сдавленное проклятие.
– Газеты, конечно, вопили об "убийстве", – продолжал я, – но они не смогли навесить на вас этот ярлык. Тогда они заговорили об убийстве непреднамеренном, однако уцелело слишком много очевидцев, слышавших, как вы просили отвести публику подальше, но сержант не придал вашим словам никакого значения. Это, разумеется, освобождало вас от всех обвинений. Сержант и сам погиб при взрыве, так что из него тоже не удалось сделать козла отпущения. Однако пока Элдредж требует вашего скальпа, вы не можете считать себя в безопасности. Лучше скрыться, пока это возможно.
В знак согласия Харман кивнул головой.
– Значит, Элдредж при взрыве уцелел, так?
– Да, к сожалению. Переломал обе ноги, но, чтобы он заткнулся, требуется более сильная встряска.
Прошла неделя, прежде чем мы добрались до нашего будущего прибежища – фермы моего дяди в Миннесоте. Там, в уединении, скрываясь от глаз вездесущей деревенской общественности, мы переждали, пока шум из-за исчезновения Хармана понемногу не стих, а вяло проводимые розыски не прекратились. Поиски и в самом деле велись недолго; похоже, высокое начальство восприняло внезапный побег Хармана скорее с облегчением, чем с беспокойством.
Мир и покой сотворили с Харманом чудо. Полгода спустя он выглядел уже совсем другим человеком – полностью готовым к осуществлению следующей попытки достичь неба. Казалось, если он что-то задумал, даже все мыслимые неудачи, вместе взятые, не смогут его остановить.
– Моя ошибка была в том, – заявил он однажды, – что я заранее сообщил об эксперименте. В ответ разразилось народное возмущение, как и предупреждал Уинстэд. Но теперь, на этот раз… – он потер руки, задумчиво глядя куда-то вдаль, – мы никого не будем ставить в известность. Эксперимент состоится в полной тайне.
– А как же иначе? – ехидно улыбнулся я. – Вы знаете, что все испытания ракетной техники и даже теоретические исследования в этой области признаны преступными и караются смертью.
– Испугался, да?
– Конечно, нет, босс. Просто констатирую факты. И вот еще один, немаловажный. Вдвоем мы при всем желании построить ракетоплан не сможем. И вы это знаете.
– Я уже думал об этом, Клифф, и решил, что действовать придется окольными путями. Более того, придется быть поосторожней и с деньгами. Так что тебе предстоит немного попутешествовать. Сперва ты отправишься в Чикаго, навестишь фирму "Робертс и Скрэнтон" и снимешь со счета все, что осталось от отцовского наследства, – он грустно опустил глаза, – правда, из него больше половины ушло на первый корабль. Потом отыщешь всех, кого сможешь, из старой команды – Гарри Дженкинса, Джо О'Брайена, Нейла Стэнтона… словом, всех. Я устал от безделья.