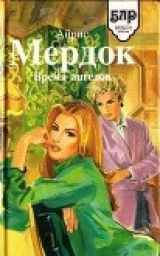
Текст книги "Время ангелов"
Автор книги: Айрис Мердок
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Пока Пэтти смотрела вниз на оживленное, энергичное лицо Антеи Барлоу, она думала о предложении Юджина показать ей море. Станет ли возражать Карел? Было необычайно странно, что вообще такой вопрос мог возникнуть. И все же мысль о том, что однажды она сможет поехать с Юджином и увидеть море, наполняла ее особой чистой радостью.
– Извините, миссис Барлоу, – повторила она и стала закрывать дверь.
– Я рискнула послать ему записку по почте.
– Боюсь, он ее не прочел.
– Можно мне зайти на секунду? Я хочу кое-что оставить. Миссис Барлоу каким-то образом прошмыгнула мимо Пэтти в холл. Обеспокоенная, Пэтти поколебалась, а затем закрыла дверь. Она бросила быстрый взгляд назад на лестницу. В холле было мрачно и довольно темно, его освещала единственная голая электрическая лампа, висевшая посередине, распространяя вокруг тусклый свет, делавший все вокруг переменчивым и нереальным. Казалось, даже мебели неуютно при холодных жидких бликах. Плетеные стулья, стол с ножками из бамбука, современный сундук под дуб бесцельно громоздились вокруг. Пэтти стояла на месте и смотрела на Антею Барлоу. Она знала, что Антея – ее враг.
– Вы не возражаете, если я сниму пальто? Только для того, чтобы не замерзнуть, когда снова выйду на улицу. Мне кажется, сегодня холоднее, чем всегда. Начинает идти снег. Меня так волнует снег, а вас?
Пэтти теперь увидела, что волнистый черный мех пальто миссис Барлоу весь усеян мельчайшими белыми кристалликами, как будто покрыт каким-то тончайшим кружевом. Тяжелое пальто шлепнулось на спинку одного из стульев и оттуда соскользнуло на пол. Пэтти не подняла его.
– Что вы хотите оставить? К сожалению, я очень занята.
– Всего лишь эти подснежники. Маленький подарок священнику. Я осмелилась написать крошечную записку, чтобы передать вместе с цветами. Не правда ли, они прелестны?
– М-м-м, – промычала Пэтти.
Миссис Барлоу, плотная, в черном шерстяном платье с брошью в форме корзины цветов, похожей на бриллиантовую, достала небольшой бумажный пакет из какого-то тайника. Снежинки на ее меховой шляпе теперь растаяли и напоминали маленькие стеклянные бусинки. Она передала пакет Пэтти. Письмо было приколото к шуршащей бумаге. Взглядом, каким обычно смотрят на младенца, Пэтти разглядывала цветы, блестящие, как белая глазурь или мята. Они издавали легкий аромат.
– Такие милые, правда. Февральские красавицы, как называет их фольклор. Считается, что они расцветают второго февраля, это праздник Сретения в честь очищения Богоматери.
– Они хорошенькие, – неохотно признала Пэтти.
– Эти расцвели рано и не могут ждать! Я думаю, они с островов Силли. Как и большинство ранних цветов. Маленькие глупышки, как я всегда их называю!
– Хорошо, спасибо, миссис Барлоу, а теперь…
– О, пожалуйста, позвольте мне остаться еще на минуту. Я не задержу вас, но я так много хочу спросить. Вы знаете этот призыв реставрировать церковь…
– Я не знаю.
– О, понимаю. Я думала, отец Карел рассказал вам об этом.
– Священник ничего не говорил об этом. – Пэтти возмутила ее фамильярность.
– Что ж, возможно, он не рассказывает вам о таких вещах. Во всяком случае, существует план – отреставрировать церковь, и в связи с этим есть предложение, что отцу Карелу следует поехать в Америку для ходатайства о получении денежных средств.
– Боюсь, я ничего не знаю об этом, миссис Барлоу. А сейчас должна попросить вас… – Пэтти боялась, что Карел очень рассердится на нее за то, что она впустила эту беспокойную женщину в дом. Она испытывала почти суеверный ужас при мысли, что он может выйти на площадку и незваная гостья увидит его.
– Но это очень важно. Завтра состоится собрание комитета, вот почему я очень хочу перемолвиться словечком с отцом Карелом. Как вы думаете?..
– Извините.
– Он болен?
– Нет, не болен, – сказала Пэтти. Ей не понравилась перемена тона. Миссис Барлоу была решительной женщиной и отнюдь не такой глупой, какой выглядела.
– Но я хотела сказать, может, он чувствует себя несколько перегруженным? Всем нам жизнь иногда начинает казаться не по силам, не правда ли? Мы становимся немного неуравновешенными, немного подавленными, немного…
– Священник совершенно здоров, – сказала Пэтти.
– Я была бы так рада побеседовать с ним. Полный сочувствия посторонний, не имеющий большого опыта… может, мне даже удастся помочь. И в действительности я…
– Извините, нет, – отозвалась Пэтти.
– Мне бы так хотелось что-нибудь, хоть что-нибудь сделать.
– Я очень занята, – сказала Пэтти.
– Да, мы все заняты, особенно мы, женщины. Мне очень жаль, что вы не позволяете мне помочь. Помогать людям – вот моя цель. Например, я была бы ужасно рада покатать Элизабет в моей машине, когда погода немного улучшится.
– Элизабет? – переспросила Пэтти. Она с изумлением всматривалась в широкое, до безумия восторженное лицо, влажное и покрасневшее, как вареный рак. – Элизабет? Откуда вы знаете о мисс Элизабет? – говоря так, она подумала о девушке привычным образом, как будто та была преступной тайной. Часто люди и не подозревали о существовании Элизабет. Карел считал, что так будет лучше. Даже Юджин пока не знал, что в доме есть еще одна девушка. Пэтти все не решалась рассказать ему, отчасти потому, что так же звали его пропавшую сестру.
– Ну, знаете ли, приходские сплетни. В этом приходе ничего невозможно удержать в тайне. Боюсь, все мы – толпа настоящих старых пустомель.
– Но это не настоящий приход. Здесь нет людей. Не могу понять, как…
– Элизабет, должно быть, иногда немного скучает. Так тяжело для молодой девушки! Я была бы так рада прийти и поговорить с ней.
– Думаю, вам лучше уйти, миссис Барлоу.
– Конечно, у нее есть вы и Мюриель. Почти семья. Наверное, вы все очень преданы отцу Карелу. Я знаю, вы преданы, Пэтти. Можно мне называть вас Пэтти? В конце концов, мы встречались уже много раз. Вы уже давно служите у отца Карела, не правда ли?
– Вот ваше пальто, – сказала Пэтти. Она бросила влажный меховой узел на обтянутую черной шерстью грудь миссис Барлоу и широко распахнула дверь. В холл проникла холодная темнота полудня, несколько снежинок влетели, крутясь и вращаясь, и опустились на половик.
Антея Барлоу вздохнула и надела пальто.
– Ну хорошо, боюсь, я немного сумасбродна. Вы привыкнете ко мне. Люди со временем привыкают.
Она посмотрела на Пэтти, затем улыбнулась призывно и протянула руку, приглашая ее не к формальному рукопожатию, а к теплому непосредственному прикосновению пальцев двух друзей. Пэтти проигнорировала протянутую руку.
– Я приду еще, – пробормотала Антея Барлоу.
Она вышла во тьму, и едва заметное движение снежинок скрыло ее удаляющуюся фигуру. Пэтти закрыла дверь и заперла на засов. Затем она прислушалась и с облегчением услышала наверху отдаленные звуки «Щелкунчика».
Она развернула подснежники и выбросила бумагу вместе с запиской миссис Барлоу в корзину для бумаг. Она не собиралась беспокоить Карела настойчивыми просьбами миссис Барлоу, а подснежники решила отдать Юджину. Она смотрела на них. Четкая бледно-зеленая линия очерчивала зубчатый ободок каждой склоненной белой чашечки. Цветы внезапно повлияли на ее настроение. Пэтти смотрела на них с удивлением. Она увидела в них не только цветы. В нескончаемом потоке темных дней они как бы дали передышку, создали некую брешь, сквозь которую она увидела нечто большее, чем просто весну.
Окликая заблудшую душу и плача при вечерней росе, можно удержать звездный свод и возродить павший свет.
Бережно прижав подснежники к своему рабочему халату, она подошла к окну. Сложный морозный узор покрывал внутреннюю сторону окна. Она поскребла его пальцем, проделала круглое отверстие в сахарно-белой изморози и выглянула на улицу. Снег, едва видимый в желтоватом сумраке, теперь падал обильно, снежинки, кружась, опускались, составляя огромный сменяющийся узор, слишком сложный для глаза, бесконечный и проникающий в тело тоскливой гипнотической лаской. И весь мир тихо кружился и колебался. Пэтти долго стояла в оцепенении и смотрела на снег.
Внезапно позади себя в доме она услышала громкий крик, звук открывающихся дверей и бегущих ног, кто-то настойчиво выкрикивал ее имя.
Она быстро повернулась и увидела вбегающего в холл Юджина, огромного и расстроенного, размахивающего руками.
– О, Пэтти, она пропала!
– Что пропало?
– Моя икона. Кто-то украл ее. Я оставил дверь открытой, и ее украли!
– О, Боже, Боже, – пробормотала Пэтти. Она раскрыла перед ним свои объятия. Он приблизился к ней, и она так крепко обняла его, что цветы между ними смялись. Где-то наверху над ее головой расстилалась тьма. Она вдыхала запах подснежников, раздавленных грудью Юджина, и продолжала обнимать его, приговаривая:
– О, Боже, Боже, Боже.
Глава 9
Подали намазанный патокой торт, с темным и хрустящим верхом, сочный и зернистый изнутри, когда в него погружалась ложка. Епископ намазал свою порцию ровным слоем крема и деликатно облизнул палец.
– Не стоит преувеличивать, – сказал он.
Маркус мрачно смотрел на торт. Вообще-то это его любимое блюдо. Но сегодня у него не было аппетита.
После посещения Карела он пребывал в крайне расстроенном состоянии. Он представлял себе, что его смелость непроизвольно принесет ему освобождение или немедленное успокоение и воображал с какой-то наивностью, взятой из детства, что Карел поможет ему обрести уверенность. Но из этой встречи во тьме выросла еще более пугающая и еще более непонятная тревога. Из-за отсутствия света в ней крылась какая-то многозначительность. Теперь желание просто увидеть лицо Карела преследовало его как навязчивая идея и смешалось со страхом найти брата изуродованным или чудовищно изменившимся. Карел и Элизабет преследовали его во сне, огромные смутные образы, чьи поступки он не мог потом припомнить. До сих пор он по крайней мере мог думать о них раздельно. Теперь, не понимая почему, он думал о них только вместе, и выявленная им связь производила эффект вечного двигателя. Маркус не мог постигнуть принцип действия этого механизма, так резко дергавшего его взад и вперед, но чувствовал, что это как-то связано с замечанием Карела, что Элизабет «живет в своем мире».
Маркус не знал, что имел в виду Карел, но он не мог поверить и даже на минуту предположить, что она не в здравом уме. Впоследствии ему пришла в голову смутная и тревожная мысль, всплывшая как огромный отталкивающий объект из водных глубин, что у Карела не все в порядке с головой. Никогда раньше ни на секунду Маркус не принимал в расчет мысль, что его брат безумен, хотя постоянно это слышал от Норы. Но если исключить безумие, тогда это могло быть только одним…
Такие раздумья были совершенно новыми, и он сам изумился, как далеко зашел или как глубоко оскорблен минувшей встречей с Карелом. И все же он чувствовал, что смог бы противостоять любой вероятности, любому предположению возможного безумия или даже тому, что еще хуже, если бы это касалось одного Карела. Но присутствие Элизабет осложняло ситуацию, делая ее мучительно сомнительной, и создавало горестный механизм, лишавший Маркуса покоя. Он отчаянно хотел увидеть Элизабет. Ее образ пылал в его мозгу, как стальной ослепительный обелиск чистоты и невинности. Не то чтобы он осознанно полагал, что она в опасности. То, что он чувствовал, очень походило на какую-то чудовищную ревность.
Он сожалел, что рассказал о случившемся Норе, хотя упомянул только сам факт разговора, даже не пытаясь воспроизвести атмосферу, и по какой-то причине не смог заставить себя пояснить, что все это произошло в темноте. Но даже и этого не следовало говорить. Он обязан был скрыть все, полагая, что всякая эмоциональная работа должна происходить внутри него втайне. На эту тему Нора могла произносить только богохульства. И произносила их ликующе, понимая все упрощенно, откровенно торжествуя, когда удавалось выведать что-то новое, и окончательно убеждалась в очевидности своей правоты.
– Думаю, я не преувеличиваю, епископ, – говорила Нора.
У епископа были маленькие руки и ноги и чистое мальчишеское лицо. Маркуса раздражало, что Нора называет его «епископ». Он стал называть его «сэр», а затем с раздражением обнаружил, что епископ, возможно, моложе его. Маркус был в таком возрасте, когда человека еще шокирует, если более молодой занимает высокое положение.
– Насколько я понимаю, – продолжала Нора, – дело в ответственности перед обществом, не говоря уже о самой церкви. Очень опасно, когда неуравновешенный человек обладает такой властью. Все может произойти. Должен существовать какой-то церковный аппарат, чтобы по крайней мере расследовать подобные случаи.
– Ну, разве в наше время кто-нибудь может сказать, кто безумен, а кто в своем уме? Пусть тот, у кого нет невроза, бросит первый камень! Какой удивительно вкусный торт. Я знаю немного людей, способных в наши дни взять на себя труд готовить сладости.
– Вы спрашиваете, кто может сказать, – продолжала Нора. Она начинала сердиться на епископа. – Отвечаю, что я готова сказать. Терпимость может зайти слишком далеко, и, с моей точки зрения, в наши дни часто заходит. Нужно называть вещи своими именами. Сейчас нам противостоит человек одновременно и безумный, и безнравственный.
– Как он может быть и тем и другим одновременно? – возразил Маркус. Он до сих пор еще не вступал в разговор.
– Я бы, безусловно, назвал Карела эксцентричным, – сказал епископ. – Английская церковь известна своими особенностями. В восемнадцатом веке…
– Мы, слава Богу, живем не в восемнадцатом веке, – перебила Нора.
Маркуса расстроило, что епископ называет его брата Карелом, хотя они встречались только раза два.
– Не следует слишком беспокоиться, мисс Шэдокс-Браун. Как говорит сочинитель псалмов, «поистине каждый человек в лучшем положении тщеславен иным способом». Но в конце концов все образуется! Нет, спасибо, больше не надо торта, я и так с удовольствием съел большой кусок. Мне бы хотелось немного этого вкусного рассыпчатого сыра.
– А я считаю, что-то нужно сделать, – заметила Нора. Она проворно наклонила дощечку для сыра к тарелке епископа. – Естественно, мы сочли, что прежде всего нам следует посоветоваться с вами. Но Маркусу придется предпринять кое-какие шаги в отношении Элизабет. В конце концов, он ее опекун, и он должен добиться позволения видеть ее. Я намерена получить консультацию у юриста.
– Думаю, нам не следует слишком торопиться, – сказал Маркус. Его раздражал, огорчал и почти пугал напористый вид Норы, юристов, даже полиции, вмешивающихся в нечто такое личное, какими стали теперь его отношения с Карелом и Элизабет. Он жалел, что не отговорил Нору в самом начале.
– Я согласен с Маркусом, – сказал епископ. – Легко поднять необдуманную суету. Но не так легко будет потом соединить обрывки. Вы не возражаете, если я налью себе еще немного этого великолепного кларета?..
«Итак, я уже Маркус, не так ли?» – подумал Маркус. Ну и проныра же епископ, удивительная профессиональная легкость!
– Моя точка зрения, что суета не будет необдуманной, – сказала Нора. – И я удивлена, что вас не интересуют слова Карела о том, что он потерял свою веру.
Это уже было дословно пересказано.
– Вера – такое личное дело, особенно в наши дни, – туманно заметил епископ.
– Может, он меня дурачил, – предположил Маркус.
– Ты прекрасно знаешь, что нет, – возразила Нора. – Он отъявленный циник. Священник, спокойно объявляющий, что он не верит в Бога!
– Что ж, если мне позволят сказать и не сочтут меня фривольным, все зависит от тона, которым это было сказано! Насколько мне известно, вы пишете книгу на эту тему, Маркус?
– Не совсем так, сэр, – сказал Маркус. Он ощущал себя школьником, которого расспрашивали и с раздражением отмечали его условные реакции. – Я пишу не о Боге, а о морали. Хотя я собираюсь посвятить одну главу онтологическим аргументам.
– Превосходно, превосходно. Единственный обоснованный довод в богословии, с моей скромной точки зрения, только не цитируйте меня! Я так рад. Нам нужна любая помощь.
– Но я не христианин, – сказал Маркус.
– Ну, знаете ли, разделяющие границы теперь не такие четкие, как раньше. Страсть, говорит Кьеркегор, не так ли? Страсть. Вот что необходимо. Мы должны помнить, что Святой Дух там веет, где его слышат. Не в шторме, а в безветрии таится безбожие. «Где проклятая лошадь?» Надеюсь, вы следите за ходом моей мысли?
– Но все же есть разница между верой в Бога и неверием, – возразила Нора.
– О, конечно. Но, возможно, эта разница совсем не такая, как мы думали когда-то. Мы должны рассматривать это время как междуцарствие.
– Во что бы ни верил Карел, он, несомненно, верит в это со страстью, – заявил Маркус.
– Точно. Я сам предполагаю, что ваш брат глубоко религиозный человек, – сказал епископ.
– О, ерунда! – возразила Нора.
– Но во что он верит? – спросил Маркус. – Это все еще имеет значение, не так ли?
– И да, и нет, – сказал епископ. Он соскребал сыр со своего кольца изящным ногтем.
– Как насчет Иисуса Христа? – задала вопрос Нора. Епископ слегка нахмурился:
– Как я уже сказал, мы должны рассматривать этот период как междуцарствие. Это время, когда, если можно так выразиться, человечество становится взрослым. Особая историческая природа христианства ставит интеллектуальные проблемы, которые одновременно являются и духовными проблемами. Многое в символике теологии, что способствовало пониманию в ранние и более простые времена, стало в век науки преградой вере и порой, наоборот, вводило в заблуждение. Наша символика должна измениться. В конечном итоге здесь нет ничего нового, это необходимость, которую церковь всегда понимала. Бог живет и творит в истории. Внешняя мифология меняется, а внутренняя правда остается неизменной.
– Вы не ответили на мой вопрос, – сказала Нора, – но неважно. Если вы намерены сбросить со счетов Иисуса, вам следует сказать об этом определенно. Религия – миф.
– Ни один мистик так не думал, – сказал епископ, – а кому мы можем больше верить? «Смиренная тьма, будь твоим зеркалом». Те, кто ближе всех подошел к Богу, говорили о тьме, даже о пустоте. Символика изменилась. Здесь есть глубокая правда. Послушание Богу должно быть безусловным послушанием, в известном смысле даром.
– Я бы сказала, что он не существует, и хватит об этом, – произнесла Нора. – Но неужели считается, что мы все должны стать мистиками?
– Настало время суда, – сказал епископ. – «Много званых, но мало избранных». Церкви придется претерпеть болезненные преобразования. И прежде чем произойдет улучшение, все станет еще хуже. Нам очень понадобится наша вера. Но Христос снова осуществит пленение Сиона.
– Вполне может так быть, – сказала Нора, – но я считаю, что в этот век науки нужно больше слышать о морали и меньше о Христе.
Епископ улыбнулся.
– Я, конечно, не говорю о личности, – сказал он. – Без личности можно обойтись. В действительности даже должны обойтись. То, что нам предстоит пережить, – не разрушение, а очищение веры. У человеческого духа есть определенные глубокие потребности. Не поймите меня превратно, когда я говорю, что мораль – это еще не все. Ошибка просвещения была в том, что Бог представлялся гарантом порядка в области морали. Но наша необходимость в Боге – нечто превышающее мораль. Малейшее знакомство с современной психологией показывает нам, что это не лозунг, а факт. Мы теперь менее наивны, чем прежде, в вопросах добродетели. Мы менее наивны в вопросах святости. Человека как духовное существо определяет не его условная добродетель или безнравственность, а истинность его потребности в Боге! То, что Иегова ответил Иову на вопрос «Где ты был, когда я закладывал основы земли?» – не довод, когда речь идет о вопросах морали.
– Ну, я всегда считала это очень неубедительным доводом, – заметила Нора. – Добродетель – хорошее руководство, и все мы знаем, что это такое. Я думаю, вы, люди, играете с огнем. Кофе?
Такой поворот разговора расстроил Маркуса. Ему не понравилось, что епископ говорит о вере таким образом, его это почти шокировало. Ему только сейчас пришло в голову, как важно для него, чтобы все продолжалось по-старому. Он не верил в искупительную кровь Иисуса, не верил в Отца, Сына и Святого Духа, но хотел, чтобы другие люди верили. Он хотел, чтобы старая структура оставалась около него поблизости, так, чтобы он мог время от времени протянуть руку и прикоснуться. Но теперь казалось, что за кулисами все это было демонтировано: для того, чтобы они решили, что Бог не личность, для того, чтобы можно было спокойно принизить образ Иисуса Христа; это заставило его ощутить почти что страх.
Нора что-то говорила, предлагая ему чашку кофе. Где-то вдалеке в тумане гудела сирена. Внезапно показалось, что теплая, ярко освещенная, хорошо занавешенная комната закружилась. Маркус ухватился за стол.
– Но предположим, – сказал он епископу, – предположим, что правда о человеческой жизни была бы так страшна и так ужасна, что человек был бы уничтожен одними размышлениями над ней? Вы отобрали все гарантии.
Епископ засмеялся:
– Вот когда оказывается полезной вера.
– Предполагать бессмысленно, – сказала Нора. – Возьми свой кофе.
Глава 10
Мюриель закончила читать, отбросила последний лист и посмотрела на Элизабет. Она прочла вслух строф двадцать и поняла, что чрезвычайно растрогана своей поэмой. К концу чтения ее голос дрожал от волнения.
Они сидели на полу по обеим сторонам камина в комнате Элизабет. Шезлонг, к которому прислонилась Элизабет, был повернут к камину, образуя уютный уголок. Мюриель, сидевшая прислонившись к китайской ширме, выключила стоявшую рядом лампу. Пылающий огонь хорошо освещал комнату, бросая легкие вспышки золотистого света на лицо Элизабет и заставляя мимолетные тени пробегать по потолку. Занавески были задернуты несмотря на полдень.
Воцарилось молчание. Затем Элизабет сказала:
– Довольно туманно, не правда ли?
– Мне так не кажется. Она и в половину не такая туманная, как большинство современных произведений.
– У тебя есть план целой вещи?
– Нет, я же тебе говорила. Она еще только формируется.
– Было бы неплохо знать, что последует дальше.
– Пожалуй, нет.
– Интересно, не влюблена ли ты в кого-нибудь?
– Не влюблена. Я тебе это тоже уже говорила. Мюриель отчаянно хотелось, чтобы Элизабет хороню отозвалась о поэме. Это было все, что она желала услышать. Но Элизабет с тупым полуосознанным упрямством, которое Мюриель ощущала и почти что видела, как физическое излучение, собиралась сказать о поэме все, что угодно, только не похвалить.
– О, все это не имеет значения! – сказала Мюриель. Она резко встала, небрежно собрала разбросанные листы и бросила их на шезлонг. Затем добавила: – Извини, Элизабет.
Элизабет, казалось, ничего не заметила. Она пристально смотрела на огонь, и глаза ее стали огромными от каких-то тайных раздумий. Она беспокойно передвигалась, выгибая тело, поглаживая ноги. Глубокий вздох перешел в зевок. Затем она тихо протянула:
– Да-а-а.
Мюриель смотрела на нее с раздражением. Она терпеть не могла такие моменты, когда Элизабет «отключалась». Ей казалось, что теперь это стало случаться чаще. Равнодушная холодность и отсутствующее выражение, как облако, проплывало по лицу кузины. Ее конечности подергивались, глаза не могли сфокусироваться, и ее воля проявлялась только как решимость животного уклониться от контакта с окружающими. Между тем это не замутнило ее красоты, которая мерцала неярким холодным светом, как восковое изображение. Такая неестественная мертвенность Элизабет зачаровывала.
Мюриель хотелось знать, хороша ли поэма. Может ли человек оценить свое собственное произведение? Она прекрасно понимала, что для художника очень часто золотистое зарево идеального замысла затмевает реально достигнутое, так что трудно рассмотреть очертания того, что уже сделано, среди мерцающих отблесков своих намерений. Иногда ей нравилась своя работа, и она чувствовала, что находится на верном пути, обрела технику и знает, как ее оттачивать. Она перестала быть просто писакой, зависящей от случайного вдохновения. Она научилась работать упорно, часами, как плотник или сапожник. Она теперь могла свободно варьировать наиболее удачные выражения, не испытывая страха испортить их. Она даже научилась заставлять себя вызывать те темные сферы, из которых образы выплывали, как сверхъестественные бумажные змеи. Но временами и, казалось бы, без всякой на то причины все это обращалось в прах и пепел. Она обладала способностью слагать стихи, но в ней не было ничего прочного, на что можно было бы опереться, чтобы поднять себя до высот истинной поэзии, работай она хоть до дня Страшного Суда. Все это кончится ничем.
За день до этого Мюриель сначала позабавили, а затем рассердили настойчивые предположения Элизабет, что Мюриель, должно быть, влюблена. По правде говоря, Элизабет периодически заводила разговоры об этом, истолковывая как симптомы некоторую задумчивость или мимолетную эйфорию своей кузины. Мюриель всегда трогали такие случаи: она понимала – так много говорится об этом из страха, что такое может случиться. Мюриель давала заверения, которые от нее хотели услышать, и разговор прекращался. Но в этот раз было особенно трудно убедить Элизабет. «В кого, в конце концов, я могла бы влюбиться?» – спрашивала Мюриель. Элизабет смотрела загадочно, а позже прервала чтение поэмы, чтобы указать – стихи Мюриель служат тому доказательством.
Мюриель много размышляла о своей странной встрече с Лео Пешковым. После той сцены у реки она редко видела его, предполагая, что его нет дома, да и не искала его общества. Происшествие это позабавило ее, даже взволновало своей грубоватой эксцентричностью, налетом чудачества, которых ей так недоставало в жизни, но к самому юноше она относилась прохладно. Ее отталкивала его молодость, развязность и подчеркнутый цинизм. Мюриель было присуще природное благородство, которое не терпело фамильярности, а требовало сдержанности и утонченности. К тому же было очевидно, что, общаясь с человеком младше себя, ей придется управлять им. Не могла она простить Лео и то, что он удивил ее, хотя и посмеялась этому. Она приготовилась к тому, что Лео будет развлекать ее, а она станет восхищаться его красотой, как восхищалась бы прекрасным животным или произведением искусства. Но в целом она сочла его слишком юным, и в нем не было ничего, что затронуло бы ее сердце.
Когда Элизабет начала свою очередную кампанию «ты влюблена», образ, который внезапно возник перед Мюриель, на минуту напугал ее – это был Юджин Пешков. Конечно же, Мюриель не была влюблена, и меньше всего – в потерпевшего крушение привратника, годившегося по возрасту ей в отцы, с которым и поговорила-то всего несколько раз. И тем не менее какое-то тепло, источником которого стал Юджин, наполнило для нее дом. Его простодушие и абсолютная бесхитростность привлекали ее. Казалось, он олицетворял собой тот мир бездумных привязанностей, свободного счастливого смеха, собак, пробегающих по улице, от которого она чувствовала себя совершенно отделенной. Иногда она безнадежно думала, что это поэзия обрекла ее на такое одиночество. Но каков бы ни был барьер, Юджин находился по другую сторону – символ того, к чему Мюриель стремилась, но что натура запрещала ей иметь. Ей нравилось в нем все: его свисающие усы, старомодная вежливость, необычный способ кланяться ей, его большое доброе лицо и грязные вельветовые брюки. Он был совершенно безобидным и дружелюбным созданием, как русский дух дома или Домовой, изображение которого она однажды видела в книге по мифологии. Мюриель тронула его история, она от всего сердца сочувствовала ему, и особенно огорчила ее недавняя кража его драгоценной иконы. Ей хотелось прикоснуться к нему, как-нибудь утешить. Но конечно, это не означало, что она влюблена, просто перспектива узнать его поближе казалась приятной. Один или два раза, разыскивая его в его комнате, Мюриель обнаружила там Пэтти, и это ужасно рассердило ее.
За головой дремлющей Элизабет, поблескивая как шпиль из позолоченного алюминия, стояла ваза с хризантемами, которые прислал Элизабет дядя Маркус. Девушки уже сочинили множество благодарственных записок, одна умнее другой, но ни одной еще не отослали. Элизабет особенно не любила хризантемы. Мюриель полагала, что рано или поздно им придется увидеть дядю Маркуса. Элизабет это было безразлично. Мюриель не говорила с отцом ни об этом, ни о чем-либо другом уже несколько дней. Она знала, что он никого не принимает. Посетителей, и решительных, и даже отчаявшихся, включая вечно причитающую миссис Барлоу, – всех отсылали. На письма не отвечали и даже не читали. Мюриель немного беспокоилась, но она видела отца в подобном настроении и раньше. Ей самой вскоре придется решить, как себя вести в отношении дяди Маркуса и Шэдокс. Конечно, и речи не было о том, чтобы они навестили Элизабет без позволения Карела. Мюриель же придется повидаться с ними, может, даже умиротворять их. Но она не станет торопиться. Она всегда чуть нервничала при мысли о встрече с Шэдокс. Мюриель не любила и даже немного побаивалась ее ужасного здравого смысла. Всегда существовала слабая, но постоянная вероятность, что Шэдокс окажется права.
Мюриель, стоя и глядя на зачарованную головку, слегка прислонилась к стене там, где она переходила в нишу, в которой стояла кровать. Ее рука, ощупывая стену, коснулась места, где соединялись две перегородки, и почувствовала щель в обоях – то место, откуда можно заглянуть из бельевой в комнату Элизабет и дальше, в темную подводную пещеру французского зеркала. Мюриель виновато убрала руку. Она тотчас же подумала о корсете Элизабет и на секунду, казалось, увидела его, как будто ее кузину просветили рентгеновскими лучами – полую, как каркас, покрытую сталью, с металлической головой. Видение странно взволновало ее. Но в следующее мгновение она отмела его и стала думать о болезни Элизабет. Теперь в ее мыслях было так много фатализма. Верила ли она действительно, что Элизабет когда-нибудь поправится и сможет вести нормальную жизнь?
Они все так привыкли прятать Элизабет, хранить ее, как какое-то тайное сокровище. Было ли в этом что-то странное, неестественное? Мюриель пришло в голову, что в целом этот режим казался простым и заурядным из-за отношения к нему самой Элизабет, ее поддержки, даже некоторой иронии к себе. При другом повороте это могло показаться тюремным заключением. И все же не произошли ли незаметно в последнее время какие-то перемены? Возможно, Элизабет, повзрослев, стала лучше осознавать свое бедственное положение и ту ужасную отдаленность от жизни, в которой она находилась. Может быть, она теперь трезво оценила, что никогда не излечится, никогда не будет здоровой и свободной. Это могло стать причиной возросшей апатии и холодности, что огорчало Мюриель и заставляло ее сейчас испытывать своего рода клаустрофобию, будто она где-то заперта вместе со своей кузиной. Элизабет так долго играла роль веселого ребенка, словно являясь источником света в их доме. Но теперь Мюриель, глядя на дремлющее, погруженное в оцепенение лицо, ужаснулась, увидев нечто совершенно иное, нечто внушающее страх. La Belle Dame sans Merci[11].








