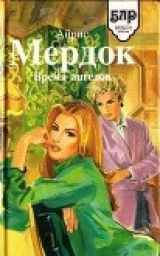
Текст книги "Время ангелов"
Автор книги: Айрис Мердок
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
– Где вы родились?
– В Санкт-Петербурге… Ленинграде, так-то вот.
– Это было до переворота?
– До переворота, да. Мне было шесть лет, когда произошел переворот.
– Ваши родители были богатыми людьми?
– Да. – Странно было говорить таким образом. Его родители были богатыми, очень богатыми по любым сегодняшним меркам. И их богатство было настолько естественным, что казалось странным даже упоминать о нем.
– Значит, вы выросли в большом доме со слугами и тому подобным?
– До шести лет, да. У нас было два дома – один в Санкт-Петербурге, другой в деревне.
Он помнил все это очень отчетливо. Его русские воспоминания сверкали разными красками, а все остальные были одноцветными. Он видел розовый фасад большого дома на Мойке с изгибами роскошных украшений из стукко[10], окрашенных в кремовый цвет, пыльных летом, увенчанных короной из снега зимой. И высокая, нестриженная трава вокруг загородного дома, расцвеченная красными цветами, почти скрывающая длинный низкий деревянный фасад от взгляда спрятавшегося ребенка. Он прятался в траве, когда мать звала его с веранды. Сквозь розоватые заросли травы он видел ее белое в крапинку платье и бахрому медленно поворачиваемого зонтика.
– Вы так хорошо говорите по-английски.
– Я выучил его дома, в детстве. Мы все владели английским. И я свободно говорил на нем до того, как покинул Россию.
– Вы были счастливы в детстве?
– Счастлив?.. Детство было раем.
Это правда. Он был зачат и рожден в неге и любви, обрел сознание в море глубокого счастья. Он любил своих родителей, любил свою сестру, любил слуг. И все любили его и баловали, как маленького короля. В деревне у него был собственный пони и грум, в Петербурге – свои специальные сани с лошадью Нико и слугой Федором, который всегда возил его, когда он направлялся навестить друзей. Пробежав в ботинках по хрустящей сверкающей снежной поверхности, он взбирался в сани. Медные заклепки на сбруе ослепительно сверкают на солнце, как будто по саням тут и там разбросаны маленькие огоньки. Большая меховая полость прилажена таким образом, что видны только его нос и глаза из-под меховой шапки. Черный мягкий кожаный ремень, который пристегивает Федор, пахнет специальным составом, который покупают для чистки в английском магазине на Невском проспекте. Лошадь на мгновение напрягается, затем движется без усилий. Санки скользят. Лошадь убыстряет бег. Раздается легкий звон. «Быстрее, быстрее, дорогой Федор!» Солнце освещает снег на дороге, исчерченной полозьями других саней, бросает лучи на позолоченный купол Исаакиевского собора и изящную стрелу Адмиралтейского шпиля.
– Как вам повезло, у вас есть счастливые воспоминания. По крайней мере их у вас никто не сможет отнять.
– Их – да.
Отняли почти все остальное. Но действительно, эти шесть золотых лет остались неиссякаемым источником света. Их блеск не причиняет ему боли своим контрастом. Скорее, он с благодарностью принимает исходящее от них тепло даже сейчас, как будто он ткал более тусклую материю своей жизни вокруг этого дорогого воспоминания, образуя темное яйцо, содержащее в своей сердцевине сверкающий сюрприз – драгоценность, изготовленную Фаберже.
– Что же произошло потом, когда вам исполнилось шесть лет?
– Произошла революция. Мои родители бежали в Ригу вместе со мной и сестрой.
– И вы все бросили?
– Все, кроме нескольких драгоценностей. Но они стоили кучу денег. Мы не бедствовали в Риге, во всяком случае в первое время.
Воспоминания тех лет немного померкли. Взрослые о чем-то обеспокоенно перешептывались и замолкали, когда приближались дети. Большеглазый, сбитый с толку ребенок вглядывался в серое море.
– Вы, должно быть, страшно ненавидите тех людей, которые выгнали вас?
– Думаю, мы могли бы остаться, хотя это было бы трудно. Нет, я не испытываю к ним ненависти. Все было так ужасно прежде. Одни люди такие богатые, а другие – совершенно бедные. Полагаю, это должно было случиться.
И действительно, он не испытывал ненависти. В гибели его счастливого мира заключалась какая-то всеобъемлющая справедливость. Но все же что-то было нарушено или, возможно, просто невыразимо печально. Он так любил свою страну!
– А где находится Рига?
– В Латвии. На Балтийском море.
– И долго вы там оставались?
– Пока мне не исполнилось двенадцать. Отец боялся, что Советы аннексируют Латвию. Так в конце концов и произошло, но мы к тому времени уже уехали. Мы перебрались в Прагу.
– В Прагу? В Чехословакию? Тогда вы обеднели?
– Да, тогда мы обеднели. Отец получил какую-то канцелярскую работу в юридической конторе, которая знала нашу семью. Мать давала уроки русского языка. Когда я подрос, тоже стал давать уроки русского языка и поступил в Пражский университет.
Запертые в Праге. Она всегда казалась ему ловушкой, красивой зловещей клеткой. Огромные тяжелые здания переходили в громады башен, спускаясь к запертой реке. Они снимали квартиру на узкой улочке, ниже Страхова монастыря. Семья отчаянно мерзла зимой и слушала колокола. Колокола, колокола на холоде.
– Значит, вы университетский человек?
– Да, меня, пожалуй, можно назвать университетским человеком. Но это было так давно.
– Вам удавалось заработать достаточно денег?
– Да, вполне. Но отец умер, когда мне было около двадцати, и жить стало труднее. Мы все работали. Сестра шила одежду. Конечно, в Праге было много русских. Все помогали друг другу. Мы принесли с собой Россию. Она все еще оставалась с нами. Но это было печальное время.
Гроб отца наклоняется, когда его несут вверх по крутой улице. Она слишком узка для катафалка. Мать и сестра спотыкаются и плачут, но его глаза сухи, он закалил себя и не подпускает боль. Катафалк трясет на булыжниках. Колокола.
– Что же случилось потом?
– Потом пришел Гитлер. Он прервал мои занятия.
– Гитлер. О да. Я забыла. Вам удалось снова бежать?
– Мы пытались, но наши документы оказались не в порядке. Нас задержали на границе. Мать и сестру отправили назад в Прагу, а меня послали работать на фабрику. Впоследствии меня перевели в трудовой лагерь.
– Наверное, это было ужасно? Долго ли вы там пробыли?
– Я пробыл там до конца войны. Это было мерзко, но другим пришлось еще хуже. Я работал на полях, там не голодали.
– Бедный вы, бедный.
– Послушайте, я уже несколько дней зову вас Пэтти. Не могли бы и вы называть меня Юджин?
Он, конечно, произнес свое имя по-английски. То, что англичане неправильно произносят его имя и фамилию, долго огорчало его. Прекрасные русские звуки оказались им недоступны. Теперь он почти испытывал какое-то мрачное удовольствие в вынужденном инкогнито.
– Да, хорошо, попытаюсь. Я никогда не знала никого с таким именем.
– Юджин.
– Юджин. Спасибо. Что произошло с вашей матерью и сестрой?
– Мать скоро умерла от паралича. Я ее никогда больше не видел с тех пор, как мы расстались на границе, правда, я получил несколько писем. А сестра… я не знаю… она просто… пропала…
– Вы хотите сказать, что не знаете, что с ней произошло?
– Люди пропадали во время войны. И она пропала. Я продолжал надеяться какое-то время.
– О, простите. Как звали вашу сестру?
Наступило молчание. Юджин внезапно почувствовал, что не может говорить. Огромная волна чувств поднялась в нем и, казалось, хлынула в комнату. Он вцепился в край стола. Прошло много-много лет с тех пор, как он кому-нибудь рассказывал об этом. Через минуту он сказал:
– Ее звали Элизабет, по-русски Елизавета.
– Мне ужасно жаль, – пробормотала Пэтти, – мне не следовало просить вас рассказывать. Пожалуйста, простите меня.
– Нет, нет. Это хорошо, что я рассказал. Я никогда об этом не рассказывал. Вы принесли мне пользу. Пожалуйста, спрашивайте еще. Я отвечу вам на любой вопрос.
– Что произошло потом, когда кончилась война?
– Я был в различных лагерях для беженцев, в конце концов оказался в лагере в Австрии.
– И сколько вы пробыли в лагерях?
– Девять лет.
– Девять лет? Почему так долго?
– Ну, было трудно выйти. Так много путаницы, и людей перебрасывали с места на место. Позже я женился в лагере. Ее звали Таня, Татьяна. Она была русской, и у нее был туберкулез. Никто не хотел взять нас с туберкулезом. Вопрос был в том, чтобы найти страну, которая согласилась бы нас принять, понимаете?
Он совсем не собирался жениться на Тане. Вопрос решил Лео.
– И что же вы делали все эти годы в лагере?
– Ничего. Немного спекулировал на черном рынке. В основном ничего.
Он вспомнил длинный деревянный барак среди сосен. Его койка стояла в углу. Важно было занять угол. Позже они с Таней делили небольшой барак с другой парой. Они устроились там, прикололи картинки к стене. Он не чувствовал себя слишком несчастным, особенно когда появился Лео. После семи лет убийственной работы наступило девятилетнее безделье.
– Вы когда-нибудь думали о том, чтобы вернуться назад, в Россию?
– Да. Тогда я часто думал об этом, Таня не хотела, да и я бы побоялся. К тому же вопрос упирался в религию.
Он поднял глаза на икону. Отец, Сын и Дух Святой с кроткими и склоненными лицами беседовали у стола, накрытого белой скатертью. Их золотые кудри переплетались. Они были грустны, так как знали, что не все благополучно с их творением. Возможно, они ощущали, что их самих тихо относит от него.
– О, вы христианин, вы принадлежите к русской православной церкви.
– Нет, больше нет. Теперь я атеист.
Во время войны религия утешала его, возможно, скорее как воспоминание о добрых и чистых людях, чем личная вера в спасительное божество. В годы праздности она постепенно стерлась, как все исчезло в эти годы. Он оставил свою страну Богу, в которого больше не верил. Но нет, у него никогда не хватило бы мужества вернуться. Однако он очень много думал о России в том лагере, когда лежал на кровати бесконечными летними днями, чувствуя голод и вдыхая запах сосен и креозота, и воображал себя окруженным своими соотечественниками, говорящими на родном языке.
– А картина, икона, она была с вами все это время?
– Нет, не все время. Она принадлежала моей матери. После того как она умерла, наши друзья в Праге взяли ее, это семья юриста. Затем после войны они разыскали меня через Красный Крест и передали ее мне в лагерь. Это единственная вещь, которая была и там и здесь.
Странно подумать, что она висела в спальне его матери, в том доме в Санкт-Петербурге. Спальня была темной, полной колыхающихся занавесок, кружев, тюля. В ней была душно и пахло одеколоном. Более удивительно было думать, что икона совершила такое путешествие, чем вспоминать, что такое же путешествие совершил он сам. Может, потому что он постарел, а икона – нет.
– Она красивая. И наверное, ужасно дорого стоит.
– Да. Я всегда боялся, что ее украдут в лагере. Я думаю, так бы и сделали, но ее немного боялись, испытывали перед ней какой-то суеверный страх. А здесь я держу свою комнату запертой – в этой части Лондона всегда шныряют воры. Я и вам советую всегда тщательно запирать дверь. Хотя икона может напугать вора даже здесь. Она считается чудотворной и принадлежала церкви, прежде чем попала в нашу семью, говорят, раз в год ее обносили вокруг города, и пока она участвовала в процессии, происходили разные чудеса: люди внезапно признавались в своих грехах или примирялись со своими врагами.
– Совершала ли она какие-нибудь чудеса для вас?
– Нет. Но я и не заслужил никаких чудес. Я потерял веру. Он потерял свою страну и свою веру. Великолепный темный сверкающий интерьер русской церкви был домом для него так много лет его детства и юности. Бородатый русский Бог прислушивался в этой тьме к его просьбам и молитвам, бранил его за ошибки, прощал прегрешения, любил его. Лишь со временем он понял, что здание было пустым. Безбрежное присутствие – всего лишь обман темноты. Там ничего не было, кроме темноты. А теперь у него есть сын, который не может постигнуть Бога.
– Я люблю икону, – сказал он. – И зажигаю ладан перед ней. Этим как бы подкармливаю ее. Она для меня больше чем символ.
Хотя чем еще она могла быть, как не символом? Он был сентиментальным суеверным человеком. И любил икону, потому что она принадлежала его матери и жила с ними в Санкт-Петербурге. Возможно, она каким-то образом удовлетворяла его подавленное чувство собственности. Он любил ее так же, как незамутненный образ добродетели, лишенный всего индивидуального.
– И вы приехали в Англию?
– В конце концов, да.
– А зачем?
– Ничего особенного. Работал в разных местах. А сейчас сижу здесь и разговариваю с Пэтти.
Как прошли годы? Они прошли. Иногда в памяти времена отталкивались, и казалось, что это Гитлер стучал в ворота Санкт-Петербурга. Его зрелость как будто случайно забрали у него. Пятнадцать лет в лагерях, вся середина жизни. Более того, в действительности он никогда не прекращал жить в лагере. В Англии он переезжал из одного жалкого и грязного барака в другой. Даже сейчас он жил в лагере. Он получил свой угол. И все.
– Хотелось бы мне поработать в одном из таких мест, – заметила Пэтти.
– Вы имеете в виду лагерь для беженцев? Почему?
– Это было бы что-то реальное – быть рядом с настоящим страданием, помогать людям.
– Жизнь в лагере абсолютно нереальна для людей, которые живут там. Лагерная жизнь – сон, Пэтти. Для работников, занимающихся вопросами улучшения быта, там все в порядке. О, я видел множество их, таких веселых, таких довольных собой! Ничто не делает человека счастливее и свободнее, чем вид страдающих и заключенных людей! Нет, они были вполне положительными, эти работники по улучшению быта, вы не должны считать меня циником. Но между их самодовольством и нашим полузабытьем как-то терялась реальность. Возможно, Бог видел это. Только святой мог бы придерживаться там истины.
– Тогда я хотела бы стать святой. Юджин засмеялся:
– Весь мир – лагерь, Пэтти, так что у вас есть шанс. Есть хорошие и плохие углы, но в конце концов – это пересыльная тюрьма.
– Значит, вы верите в загробную жизнь?
– Нет, нет. Я просто хочу сказать, что ничто не имеет такого уж большого значения. Мы здесь ненадолго.
Его слова прозвучали в тишине ярко освещенной комнаты. Пэтти сплела пальцы, а затем, когда снова наступило молчание, она встала.
– Я слишком долго у вас пробыла и должна вернуться к работе. Мне не следовало заставлять вас вспоминать обо всем пережитом.
– Нет, это хорошо. Человек иногда должен поговорить о том, что на душе, а не скрывать это. В следующий раз вы расскажете мне о себе.
– Мне нечего рассказывать о себе, – сказала Пэтти, стряхивая крошки с юбки.
– Почему же, что-то должно быть. У каждого есть свои приключения. О, я так рад! Вы съели три пирожных.
– Мне не следовало этого делать. Я и так слишком толстая. Я все собираюсь сесть на диету.
– Пожалуйста, не надо! У вас прекрасная фигура. Вы мне нравитесь такой, какая вы есть.
– Правда?
– Да, правда. Вы должны быть благодарной. Когда-нибудь вы похудеете и пожалеете об этом. Худая женщина похожа на смерть.
Он вспомнил бедную Таню, худую как скелет, обвиняюще смотревшую на него глазами умирающей. Она была обрывком его воспоминаний, почти бестелесных. Он не слишком по-доброму относился к ней, порой негодовал на ее беременность, ее болезнь. И она стала такой худой.
– Я должна идти.
– Вы придете еще посидеть вот так, правда?
– Да, с удовольствием.
– И послушайте, когда туман рассеется, позвольте мне отвезти вас к морю.
– К морю? А это возможно?
– Нет ничего проще. Но обещайте, что не поедете ни с кем другим прежде!
– Но нет никого другого, кто бы… О, я бы с удовольствием поехала с вами к морю, с удовольствием.
– Юджин.
– Юджин.
– Тогда решено.
Она улыбнулась ему из-под своих разлетающихся волос.
После того как она ушла, Юджин некоторое время стоял, глядя на Отца, Сына и Святого Духа. Нет, он был не очень добр к Тане. Через минуту он стал думать о том, как повезет Пэтти к морю.
Глава 6
Мюриель тихо закрыла за собой дверь. На нее нахлынул холодный воздух, и она чихнула. Эта проклятая простуда все не проходила. Туман, как поднятый палец, чтобы водворить тишину, заполнил все безмолвием. Прикрыв нос платком, она сделала несколько шагов по тротуару и тут же потеряла дом из виду, но продолжала идти вперед по мостовой сквозь пустоту. Она могла рассмотреть неподалеку с ее стороны дороги землю, замерзшую небольшими бугорками. Другой стороны дороги не было видно. Предупреждающий звук сирены отражался в густом воздухе и, казалось, перемещался вокруг нее кругами. Она бесшумно продвигалась посреди замирающего эха.
Немного погодя она остановилась и прислушалась. Ничего. Плотный густой купол тумана ограничил видимость маленьким призрачным кругом, а напоенный влагой воздух поглаживал ее щеку холодным, неласковым прикосновением. Шерстяной шарф, который она обмотала вокруг головы, стал уже влажным. Она сунула носовой платок обратно в карман и глубоко задышала, выдыхая маленькие струйки пара. Она стояла, широко открыв глаза, прислушиваясь и ожидая. Туман волновал ее.
Мюриель провела это утро, пытаясь написать о нем. Она добавила несколько строк к своей философской поэме, и туман каким-то образом вошел в нее. Клубящийся, стелющийся, передвигающийся и в то же время неподвижный, всегда отступающий и неизменно присутствующий везде и одновременно нигде. Он вынуждал к молчанию, вызывал напряженное жадное внимание и, казалось, символизировал все, чего в этот момент она боялась. Страх проник и в поэму, и это удивило ее. Боялась ли она? Чего она боялась? Причин для страха не было. Она встряхнула свои снотворные таблетки в маленькой голубой бутылочке. Сейчас, когда она с сильно бьющимся сердцем стояла на тротуаре, чувство казалось больше похожим на любовь, чем на страх. Но разве можно любить ничто?
Она медленно пошла, ее ноги, касаясь влажного заиндевевшего тротуара, производили легкий шум. Она решила, что вскоре прочтет часть своей поэмы Элизабет, но Элизабет не позвонила этим утром. Мюриель была довольна поэмой. Может, это поэма превратила тот непонятный страх в столь же непонятную любовь, которая так сильно взволновала ее сейчас. Она вздрогнула, помахала руками в перчатках, ощущая себя теплой и неудержимо живой под своими одеждами. Она с наслаждением вдыхала холодный, пропитанный туманом воздух, затем внезапно снова остановилась. На пустынной земле рядом с ней, словно возникнув из стены тумана, показалось что-то вертикальное. Оно было таким неподвижным, что Мюриель приняла увиденное за столб, хотя оно выглядело в то же время как человеческое существо. Только сейчас она осознала, что вокруг абсолютно никого не было, и это казалось странным. Следующее мгновение показалось еще более странным и пугающим, потому что кто-то стоял перед ней в тумане, стоял совершенно неподвижно, стоял так же, как и она сама, чего-то ожидая и прислушиваясь. Это, несомненно, был человек, мужчина, и он смотрел в ее сторону. Мюриель поколебалась и осторожно сделала еще один шаг. Затем она рассмотрела, что это был Лео Пешков.
Не поздороваться с ним было так же невозможно, как если бы они встретились в дебрях джунглей.
– Привет, – сказала Мюриель.
– Привет. Не правда ли, туман замечательный?
– Я как раз об этом думала, – ответила она. – Я им просто наслаждаюсь.
– Я стою здесь уже лет сто в надежде кого-нибудь напугать. Надеюсь, тебя напугал?
– Конечно! Правда странно, что никого вокруг нет?
– Не особенно. Там нет ничего, кроме пакгаузов. А так как сегодня воскресенье…
– О, сегодня воскресенье? А я и не знала.
– Называть себя дочерью священника и не знать, что сегодня воскресенье!
Мюриель подумала, что молодой человек довольно развязный. Она сказала немного холодно:
– Что ж, добрый день. Я иду вниз к реке.
– Ты никогда не найдешь реку, если пойдешь этой дорогой.
– Надеюсь, мне удастся. До свидания.
– Послушай. Я покажу тебе дорогу к реке. Иначе ты действительно не найдешь ее. К ней ведут узкие проходы между пакгаузами, их нужно знать. Ты согласна пройти через всю эту грязь?
– Но река должна быть там. Если я пойду прямо…
– Река вокруг нас. Мы находимся как бы на полуострове, река делает петлю. Здесь кратчайший путь. Пойдем.
С этими словами парень стал исчезать в тумане. Слегка рассерженная, Мюриель сошла с тротуара и последовала за ним, хотя ей и хотелось побыть одной.
Земля строительной площадки, казавшаяся довольно ровной, была покрыта бугорками и скользкими выбоинами со льдом. Поверхность земли промерзла, но корочка льда оставалась хрупкой, а под ней была грязь.
– Подожди минуту. Не иди так быстро.
– Извини. Наверное, твои высокие каблучки… О, я вижу, ты носишь то, что называют разумными туфлями. Если хочешь, можешь взять меня за руку.
– Со мной все в порядке. Далеко идти?
– Пара шагов. Впечатляюще, правда? Такая дикая местность. Жаль будет, когда ее застроят. Здесь такой потрясающий вид на собор святого Павла и множество других церквей. Увидишь, когда рассеется туман.
Странно было думать, что они окружены невидимыми куполами, башнями и шпилями. Ей уже казалось, что она вообще не в городе.
– Вот снова тротуар, мы почти пришли.
Из тумана внезапно выросла глухая стена и рядом другая тьма. Мюриель почувствовала себя в заключении.
– Это один из проходов, о которых я тебе говорил. Он сужается, внизу есть ступеньки. Берегись, здесь довольно скользко. Держись за стену, если сможешь.
Мюриель коснулась стены рукой в перчатке. Огромные куски и корки полусгнивших овощей рассыпались в липкую грязь под ее ногами и иногда попадали ей в туфли. Она осторожно спускалась по ступеням, держась за цепь, протянутую возле стены. Потом заметила кусок тротуара, фонарный столб и еще несколько ступеней, ведущих к воде.
– Что ж, вот и река, – сказал Лео. – Хотя сейчас не так уж много можно увидеть. Но ты хотела этого, и она перед тобой.
Туман здесь казался светлее и не таким плотным, как будто замер в ожидании солнца. Мюриель могла видеть пятнадцать – двадцать ярдов быстро текущей воды, темные светящиеся куски окаменевшей смолы, которые река быстро уносила вместе с разбросанными обломками древесины и длинными водорослями, похожими на волосы. Снова очень близко зазвучал туманный горн, и Мюриель опять ощутила то же чувство, которое так и не могла определить, – страх это или любовь. Ступени вели к воде. Она спустилась на нижнюю, а затем повернулась и взглянула на Лео.
Он стоял на верхней ступени, прислонившись к стене. На нем было короткое поношенное черное пальто, воротник которого был поднят и обмотан полосатым шерстяным шарфом, а его коротко подстриженные волосы, потемневшие от влажного воздуха, напоминали лоснящуюся кожаную шапку. Он походил на готовящуюся нырнуть утку или водяного эльфа, который только что всплыл на поверхность. Минуту Мюриель оценивающе рассматривала его, как будто он был произведением искусства, и с удовлетворением отметила округлость его головы. Что делало его таким красивым? Возможно, холодность этих широко расставленных глаз.
Чтобы скрыть столь затянувшееся разглядывание, она спросила:
– Нет ли поблизости моста, чтобы перейти реку?
– Моя дорогая, здесь нет мостов. Это территория дока. Сразу видно, что ты деревенская мышка.
Мюриель минуту подумала. Она не могла оставить такое без внимания. Но если ей удастся осадить его, то с ним возможно будет установить какие-то взаимоотношения.
Она сказала:
– Если мы намерены встречаться, получая от этого некоторое удовольствие, во всяком случае с моей стороны, тебе придется изменить свои манеры.
Лукавое довольное выражение лица сменило на минуту вежливую маску, но затем снова укрылось за ней. Лео спустился к ней на ступеньку-другую, но не слишком близко.
– Я должен встать на колени и извиниться?
Минутой раньше Мюриель приписывала его развязность естественной природе сына слуги – «я не хуже тебя». Теперь она поняла, что он хотел именно того, чего добился, – установления более близких и фамильярных отношений. Она попала в ловушку.
Мюриель холодно сказала:
– Не будь глупцом. Мне нет дела до твоих фамильярностей. А теперь, я думаю, нам пора возвращаться. Извини, но мне снова придется попросить проводить меня, иначе я непременно заблужусь.
– О, не уходи, – попросил он. – Пожалуйста. Здесь замечательно.
Здесь и правда было замечательно, и Мюриель в действительности не испытывала крайней необходимости уходить. Уединенность и заброшенность места делали его значительным и почти священным. Сильный холод не вызывал окоченения, но обострял восприятие. Мюриель снова повернулась к бесшумно бегущей реке. От нее пахло гнилыми овощами, чем-то еще и очень ясно – водой.
– Ты учишься в каком-то техническом колледже? – спросила она Лео, не глядя на него. Он теперь спустился и стоял рядом с ней.
– Да. Хотя я его ненавижу. Я не очень силен в математике. Есть там у нас парень, только что из Кэмбриджа, который занимается с нами. Я не могу держаться на таком уровне. А тебе давалась математика?
– Неплохо. Но, думаю, в школе математика совсем другая.
– Да, конечно. Не могу я справиться со всей этой ерундой. Такой способ мышления выше моего разумения и все время травмирует мой мозг. Он все время твердит, что пунктуально придерживается чего-то, а я понять не могу – чего? Даже не могу объяснить. Думаю, я все брошу и устроюсь на работу.
– Но твой отец огорчится?
– Мой отец? Какого черта? А мне наплевать, что подумает мой отец.
– Почему? Разве ты не любишь его?
– Люблю его? Ты что, не читала Фрейда, детка? Извини, мне не положено так говорить, не так ли? Знаешь, все парни ненавидят своих отцов. В то время как девчонки влюблены в них.
Мюриель засмеялась:
– Я не влюблена в своего. Но, я уверена, твой отец гордится тобой, выплачивает тебе субсидии и все такое.
– Ему нет никакого дела до меня. У него масса денег. Он в действительности писатель, или считает себя писателем, а привратником работает просто для развлечения. Когда ему надоест, он поедет дальше. Это просто эксцентричный человек.
– В самом деле?
– Он притворяется бедным русским эмигрантом, но он вовсе не русский, а немец. Видишь ли, он происходит из банкирской прибалтийской семьи. Живет в Англии всю жизнь. Куча денег.
– Ладно, ладно! А как насчет матери?
– Моя мать – удивительная женщина, ты должна познакомиться с ней. Она англичанка, естественно. Они разошлись много лет назад, и она снова вышла замуж за баронета на севере Англии. Я довольно часто езжу туда. Они ужасно важные особы. Я влюблен в свою мать.
– Действительно? Как интересно.
– Моя мать красавица и страшно экстравагантна. Боюсь, вся наша семья слишком эксцентрична. Знаешь, какая страсть у моего отца?
– Какая?
– Азартные игры. Видишь ли, все русские – игроки.
– Мне показалось, ты сказал, что он не русский.
– Ну, эти прибалтийские немцы во всем подражают русским. Он обожает рулетку. И может себе это позволить, посещая Монте-Карло. Затем наступает приступ раскаяния, он налагает на себя епитимью и поступает на какую-нибудь ужасно незаметную работу. Сейчас он как раз отбывает наказание. Я думаю, он скоро убежит.
– Понятно. Полагаю, он выплачивает тебе щедрое содержание.
– Ни гроша. Все потому, что он ненавидит меня. Он бы хотел, чтобы я был девочкой. Все отцы ненавидят своих сыновей и боятся их. Молодая поросль угрожает старым деревьям и тому подобное. Это известная история.
– Очень плохо. Сколько тебе лет, Лео?
– Двадцать. Можно я буду называть тебя Мюриель?
– Пожалуй, да.
– А можно спросить, сколько тебе лет, Мюриель?
– Да. Мне тридцать четыре.
В следующую минуту Мюриель пришло в голову, что она могла бы сказать сорок четыре и ей бы поверили.
– Наверное, ты ужасно опытная?
– В чем?
– В сексе, конечно. А в чем же еще можно быть опытным.
– О да, у меня огромный опыт.
– Думаю, ты гетеросексуальна. В отличие от большинства современных девушек.
– Я совершенно нормальна.
– Никто не нормален, ни с кем не стоит встречаться, так-то вот. Какие парни тебе нравятся?
– Я предпочитаю мужчин постарше. Я хочу сказать, намного старше меня.
– Жаль. Не то чтобы я собирался предложить свои услуги. Ты назвала бы это наглостью. Так или иначе, у меня есть подружка. Хотя нет, я бросил ее.
– Я не так уж интересуюсь сексом, – сказала Мюриель. – Много занималась им, но от этого устаешь.
Упорство Лео вместе с чрезмерной холодностью заразили ее легкомысленной беззаботностью. Она почти поверила в собственную утомленность опытной женщины средних лет. Она только жалела, что не сказала, будто ей по крайней мере сорок.
– Девушки устают, а мужчины – нет. Мне до смерти хочется производить эксперименты, но я не могу найти никого достаточно изобретательного. В действительности одно и то же повторяется снова, снова и снова. Ты мне не поверишь, как доступны пташки в моем колледже. Достаточно только взглянуть на них, и они опрокидываются на спину.
– Так что тебе уже надоело.
– О нет. Право, нет. Наверное, в моем возрасте биология препятствует скуке. Но все это довольно безрадостно. У них нет ничего в голове, а я думаю, что секс – это и разговор тоже, не правда ли? Я не могу спорить с ними, как с тобой. Они такие вялые. И все настолько поверхностно: нет ни драмы, ни тайны, ни напряжения. Их обманывали прежде и будут обманывать впредь. Они просто проходят через твою постель, как через железнодорожную станцию.
– Думаю, что и ты проходишь через их постели таким же точно образом.
– Да, наверное. Но я не хочу этого. Представляешь, у меня никогда не было девственницы!
– Какое невезение. Я полагаю, их трудно найти в наше время.
– В том-то и беда. Жаль, что я не живу в те дни, когда девушек изолировали.
– Изолировали?
– Да. Заточали в монастыри, закрывали, никому не позволяли видеть. Девушки слишком доступны в наше время. Я бы хотел найти строгую, защищенную семьей девушку, укрытую в деревенском домике, которую никому не позволяют видеть, держат за ширмами, занавесками и закрытыми дверями.
– Осмелюсь сказать, она будет совершенно невежественной, когда ты доберешься до нее.
– Нет, нет. Она будет удивительной, чистой. И подумай, какое волнение! Как в Японии. Только увидеть мельком чей-то рукав или вдохнуть аромат духов. Или неделями размышлять, как заглянуть в щель и увидеть волосы девушки.
– Не очень-то приятно для девушки, – заметила Мюриель.
Ее позабавило, что Лео все еще не знает о существовании Элизабет. Она оторвала какой-то замерзший комок от стены и бросила в янтарный круг воды.
– Меня не интересует их благосостояние. Кроме того, духовная девушка будет наслаждаться такой ситуацией. Все эти бесконечные планы, как передать письмо, ожидания ночью под окном, подкуп слуг и столько опасностей!.. Я сыт по горло обычными женщинами. Вот почему я никогда по-настоящему не был влюблен. Думаю, я смог бы любить только девственницу. Девушку, к которой никого не подпускали, держали укрытой от всех. Она будет чем-то вроде спящей красавицы. И я должен буду освободить ее и стану первым мужчиной, которого она увидит.








