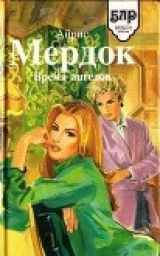
Текст книги "Время ангелов"
Автор книги: Айрис Мердок
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Annotation
«Время ангелов» – роман, изысканно, умно и зло пародирующий классические штампы викторианской и поствикторианской «семейной прозы».
Старинный особняк в сердце Англии становится сценой, на которой разыгрываются почти античные по накалу драмы любви, ненависти и измены.
Респектабельные интеллектуалы с наслаждением предаются саморазрушительным страстям, привычная жизнь превращается в безумный хаос, поглощающий человеческие судьбы, а попытки обрести очищение и искупление приводят лишь к новым трагедиям…
Айрис Мердок
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru
Все книги автора
Эта же книга в других форматах
Приятного чтения!
Айрис Мердок
Время ангелов
Глава 1
– Пэтти.
– Да.
– Ты развела огонь в комнате Элизабет?
– Да.
– Так холодно.
– Что вы сказали?
– Холодно.
– Да.
Пэтти вытянула свои пухлые руки густого коричневого цвета, чуть более темного оттенка, чем cappuccino[1], и закоченевшими пальцами сгребла золу с узкой каминной решетки. Белый хлопчатобумажный халат, украшенный узором из красной земляники, с засученными по локоть рукавами, был надет поверх джемпера и юбки. Цветастый, не слишком чистый шарф из искусственного шелка покрывал сейчас ее черные как смоль волосы.
– Пэтти, звереныш.
– Да?
– Что за странный шум постоянно раздается?
– Это подземная железная дорога. Она проходит прямо под домом.
– Подземная железная дорога. Интересно, привыкнем ли мы к ней?
Пэтти комкает хрустящие страницы «Таймс» и сверху складывает крест-накрест щепки, а на самый верх кладет старые порыжевшие бесформенные угли.
– Позаботься об этом пауке, Пэтти. Спаси его, пожалуйста. Вот так. Можно я сам зажгу огонь?
Вспыхнула спичка, осветив на смятой последней странице фотографию каких-то чернокожих, пытающих других чернокожих. Бумага милосердно вспыхивает. Когда Пэтти, вздохнув, опускается на пятки, спустившаяся петля пробегает по ее чулку, как маленькая ящерица.
– И пожалуйста, не забудь мышеловки, Пэтти. Я уверен, что видел мышь в своей спальне.
– Да.
Щепки, потрескивая, оседали в преисподнюю пылающей бумаги. Пэтти берет горсть сверкающего угля из пыльного ведерка и бросает на решетку. Пламя согревает ее лицо.
– И еще, Пэтти.
– Да.
– Если позвонит мой брат Маркус, скажи ему, что меня нет. На все звонки отвечай, что меня нет.
– Да.
Спасенный паук перестал притворяться мертвым и бросился вниз по ведерку для угля.
– Как здесь ужасно темно. Кажется, будто туман проник в дом.
– Да, здесь темно.
– Я могу выпить молока, Пэттикинс?
– У нас нет молока. Я займу немного у привратника.
– Не беспокойся. Не изнуряй себя, пожалуйста, Пэтти, конфетка.
– Кто-то же должен заниматься хозяйством.
Черная сутана слегка задела ее туго обтянутое чулком согнутое колено, и холодный палец погладил выступающий позвонок склоненной шеи. Шаги удалились, и сутана зашуршала вверх по ступеням. Не поворачиваясь, Пэтти встала.
Огромный застекленный книжный шкаф, которому еще не нашли места в новом доме, стоял поперек холла, где Пэтти разводила огонь. На полу перед ним лежат книги, на которые она сейчас натыкается, двигаясь назад. Споткнувшись о «Sein und Zeit»[2], она теряет тапочку и с раздражением пинает «Sein und Zeit» замерзшей ногой в чулке. Вся обувь Пэтти таинственным образом становится слишком велика для нее вскоре после покупки. Сверху раздаются чуть слышные звуки музыки. «Лебединое озеро». И на секунду тело Пэтти становится легким как перышко. Пэтти видела балет, белые фигуры, плавно двигавшиеся, как ожившие цветы. «Но теперь я растолстела, – подумала она в следующее мгновение. – Теперь я толстуха».
Звонок у парадной двери прозвенел пугающим незнакомым звуком; Пэтти приоткрыла дверь. Она не открыла ее как следует, потому что снаружи еще холоднее, чем дома. В помещение хлынул туман, заставив Пэтти закашляться. В желтоватой дымке, которую следовало считать светом раннего полдня, она едва смогла различить стоящую на тротуаре даму средних лет, с яркими широко расставленными глазами. Пряди влажных волос свисали из-под ее элегантной меховой шляпки и прилипали к щекам. Пэтти с вожделением рассмотрела ее пальто из персидского ягненка. Ее замшевые сапожки оставляли четкие отпечатки на покрытом изморозью булыжнике, когда она от холода слегка переступала с ноги на ногу. Ее жеманный голос не оставил у Пэтти никаких сомнений – это враг.
– Я очень извиняюсь за беспокойство. Меня зовут миссис Барлоу. Я из пастората. Можно мне повидать нового священника?
– К сожалению, священник сейчас никого не принимает.
– Я бы задержала его всего на одну минуту. Видите ли, дело в том…
– Мне очень жаль, мы только что въехали, и нужно так много сделать. Не могли бы вы зайти попозже?
Пэтти закрыла дверь. В туманном интерьере холла передвигался или, скорее, даже скользил юноша необыкновенной красоты, лет двадцати. Цвет его коротко подстриженных волос, как Пэтти узнала из своих журналов, назывался светло-земляничным. Он с любопытством осмотрелся, стал разглядывать книги на полу, а затем, увидев Пэтти, крадучись вернулся под лестницу и направился к кухне. Пэтти, считавшая, что все молодые люди насмехаются над ней, неодобрительно отметила его остроносую обувь. Появился еще один враг.
– Пэтти.
– Да, мисс Мюриель.
– Кто этот ужасно красивый мальчик, которого я только что видела?
– Это сын привратника.
– О, у нас есть привратник? Как его зовут?
– Не знаю. Какое-то иностранное имя. Не развести ли огонь в вашей комнате?
– Нет, не беспокойся. Я пойду к Элизабет. Телефон. Ответь, пожалуйста, Пэтти. Если позовут меня, скажи, что меня нет.
Послышался мужской голос, нерешительный и извиняющийся:
– Алло. Говорит Маркус Фишер. Могу ли я поговорить с моим братом?
– Боюсь, священник занят.
– О, может, тогда я смогу поговорить с Элизабет?
– Мисс Элизабет никогда не подходит к телефону.
– Может, тогда с Мюриель?
– Мисс Мюриель нет.
– Когда я смогу поговорить со священником?
– Не знаю.
– Скажите, пожалуйста, с кем я говорю?
– С мисс О'Дрисколл.
– А, Пэтти. Извини, я не узнал твой голос. Что ж, полагаю, мне лучше перезвонить попозже, не так ли?
– До свидания, мистер Фишер.
Темная фигура на верхней площадке лестницы пробормотала что-то одобрительное, и бумажная птичка взлетела, пронеслась вниз, ударилась о халат Пэтти чуть выше сердца и упала на пол у ее ног. Не поднимая глаз, Пэтти разгладила бумагу, собираясь бросить ее в огонь, и прочла новый адрес, напечатанный на ней: Квартира приходского священника, Св. Юстас Уотергейт, Лондон, Е. С. Пэтти все еще не могла поверить, что она в Лондоне.
Тихий голос над ней поет: «Frere Jacques, frere Jacques, dormez-vous»[3], а дверь, открываясь и закрываясь, выпускает на волю на мгновение чуть слышные звуки «Лебединого озера». Под землей проходит поезд и сдвигает все в доме на миллиметр-другой и сжимает ее сердце напоминанием о смерти. Она бормочет стихи, которые теперь заняли место молитвы, сменившей собой в свое время незатейливую магию ее детства. «Не отворачивайся больше. Зачем тебе отворачиваться? Усеянное звездами дно, прибрежные воды подарены тебе до рассвета».
Она направляется в кухню, где «земляничный» блондин ждет, чтобы отвести ее к отцу.
Пэтти в комнате привратника вскоре начинает ощущать себя совсем другим человеком. Белокурый юноша, которого зовут Лео, скрылся, и привратник, чье имя такое странное, что Пэтти все еще не может его разобрать, подает ей чашку удивительного чая. Привратник явно иностранец, у него доброе печальное лицо, напоминающее какое-то животное, и густые свисающие рыжеватые усы. Пэтти нравятся мужчины, похожие на животных, по этой причине она испытывает симпатию к привратнику, к тому же она уверена, что он не насмехается над ней.
Привратник объяснял систему отопления дома священника, за которой он присматривает. Система очень сложная, и Пэтти пришло в голову, что она, похоже, обогревает саму котельную, комнату привратника и очень мало что еще. Пэтти рассматривает комнату. Это бетонированная коробка, похожая на бомбоубежище. Здесь какой-то странный запах, Пэтти кажется, что это ладан, хотя она никогда прежде не знала запаха ладана. Странная стальная клетка оказалась двумя койками, расположенными одна над другой, но только нижняя была застелена как кровать. Верхняя же, накрытая доской, поддерживала самую удивительную картину, какую Пэтти когда-либо видела. Она написана на дереве золотой краской. «Это, должно быть, настоящее золото, – думает Пэтти, – оно светится, как будто в огне». На ней изображены три ангела, беседующие за столом. У ангелов маленькие головы, огромные бледные нимбы, встревоженные и одновременно задумчивые лица.
– Что это? – спрашивает Пэтти.
– Икона.
– А что такое икона?
– Просто религиозная картина.
– Кто эти люди?
– Святая Троица.
Так как привратник сказал «Святая Троица», а не просто «Троица», Пэтти предположила, что он верит в Бога. Это успокоило и обрадовало ее. Бог играл неопределенную, но важную роль в жизни Пэтти, и ее радовало, если другие люди верили в Него.
– Как вас зовут, я все еще не поняла.
– Юджин Пешков.
– Иностранное имя, да? Кто вы?
– Я русский, – ответил он с гордостью, а затем спросил: – А вы?
Она поняла вопрос, но как на него ответить?
– Я Пэтти О'Дрисколл.
Глава 2
– Что ты намерен делать со своим братом?
– Не знаю. А разве необходимо что-то делать? Маркус Фишер стоял спиной к теплой, ярко освещенной комнате, выглядывая на улицу в щель между занавесками. Туман, будто сам став источником света, слегка окрасил тьму рыжевато-желтым цветом и сделал ее еще более густой. Звук корабельной сирены поблизости в плотном воздухе прозвучал приглушенно. Маркус с удовлетворением задернул занавески и снова повернулся к пылающему огню.
Нора Шэдокс-Браун, крепкая, облаченная в твид, неясно вырисовывалась у стола. Как многие из тех, кто живет заботами других, она и в среднем возрасте сохранила девический вид, хотя ее аккуратные прямые волосы уже чуть посеребрились. Свет лампы сиял над ней, освещая плотное ирландское полотно, на белом фоне которого поблескивал золотой узор трилистника. Огромный, как головка сыра, вишневый торт, разрезанный на куски, обнажал свою кремовую сердцевину, усеянную сочными вишнями. Маркус с одобрением осмотрел все сверху донизу. Жареные лепешки мягко покоились под тяжестью тающего масла. Джем из сливы ренклод, названный его создателем «ренклод чатни», чтобы подчеркнуть исключительность и объяснить его высокую цену, громоздился маслянистой горой на блюде из стекла Уотерфорда. Чайник только что наполнили, и сильный приятный запах горячего индийского чая пригласил Маркуса к столу. Он сел.
– Я просто боюсь, что произойдет какой-то скандал. А это так плохо для девочек.
– Не знаю, что у тебя на уме, – сказал Маркус. – Конечно, Карел ужасно эксцентричный, но он преуспевал на прежнем месте, и я не вижу причин, почему бы ему не управиться здесь. Во всяком случае, это напоминает мне синекуру.
– Совершенно верно! Я подозреваю, что священноначалие оценило твоего брата и поставило на такое место, где он не сможет принести вреда!
– В чем состоят обязанности приходского священника этой несуществующей церкви? Ведь от церкви ничего не осталось, кроме башни.
– Да. Бомба разрушила все остальное. Такая потеря! Вы знаете, это Рен. И он не создал ничего более прекрасного.
– Все это место выглядит как будто его только что разбомбили, Я ходил туда как раз перед приездом Карела. Они снесли все вокруг дома священника, буквально все.
– Да, это тот самый участок, из-за которого подняли столько шума и писали в «Таймс».
– Эта идея с небоскребом?
– Да. Разрешение на проектирование в последний момент отменили.
– Solitudinem fecerunt[4] в порядке. Но неужели нет ничего, кроме дома священника и башни? Никакой церкви где-нибудь еще?
– Нет. Кажется, есть еще церковный зал, но он не освящен; я полагаю, священник может работать и много, и мало, – словом, как ему заблагорассудится. Помнишь, хотя вряд ли, парня, который был здесь прежде, странного вида калека, кажется, он никогда ничего не делал. Это явно убежище для трудных детей. Я встретила способную свести сума женщину, по имени миссис Барлоу, в офисе Оксфам, и она рассказала мне об этом. Подозреваю, она воображает, будто обладает властью над этим приходом, и, кажется, считает это место своей собственностью. Ты же знаешь, как городские церкви выглядят в наши дни. Лекции и концерты, а по воскресеньям они закрыты. Это вполне устроит Карела! Он может предоставить все миссис Барлоу.
– О чем тогда беспокоиться? – спросил Маркус, подкладывая себе «ренклод чатни».
– Потому что он не может жить по принципу «от добра добра не ищут». Ему нравится шокировать людей. Ты же знаешь, какой он неуравновешенный.
– Успокойся! – Здравомыслящая Нора никогда не поймет такой сложный, обращенный в себя характер, как у Карела. Нора считает любую утонченность фальшью. – И посмотри, каким образом он отказывается повидать тебя и даже не позволяет тебе навестить Элизабет. В конце концов, вы оба были назначены опекунами, когда умер ее отец. А он никогда не позволял тебе и слова сказать.
Карел был старшим братом Маркуса. Джулиан, отец Элизабет и младший брат Маркуса, умер много лет назад от какой-то таинственной болезни, когда Маркус находился в Соединенных Штатах. Это правда, что Карел вел себя так, как будто он был единственным опекуном ребенка.
– Я не стал бы так говорить, – возразил Маркус. – Здесь есть доля моей вины. Мне следовало занять более твердую позицию с самого начала.
– Ты боишься Карела, вот в чем твоя беда.
Боялся ли он? Родители Маркуса умерли, когда он был еще школьником, и Карел, ставший главой семьи в шестнадцать лет, стал казаться ему отцом. Джулиан, младший, вечно недомогающий, превратился для обоих братьев в объект любви. Но именно Карел стал источником силы.
– Мы все тогда были очень счастливы вместе, – пробормотал Маркус, его рот был набит теплой масляной лепешкой и ренклодом.
– Что ж, похоже, потом что-то расклеилось.
– Наверное, мы просто выросли. К тому же появилась девушка. И… много разных вещей.
– А что делала девушка?
– О, причинила много бед… Она была восторженным созданием и по-своему влюблена в нас троих, и мы были некоторым образом влюблены в нее. Я спасся, ускользнув в США. Карел и Джулиан были тогда уже женаты.
– Кажется, все довольно запутанно.
– Так и было. Она выглядела немного нелепой, но ужасно милой. Я вспоминал ее как смешной эпизод. Забавно, теперь я даже не могу представить ее внешность. Она была членом Коммунистической партии. Все это произошло невероятно давно.
Маркус был больше обеспокоен неожиданным возвращением брата в Лондон, чем показывал это Норе. Приход в Мидленде считался малодоступным из-за своей удаленности. Ходили какие-то слухи об эксцентричных выходках Карела. Маркус предпринял два коротких и явно нежелательных визита, и теперь прошло уже несколько лет с тех пор, как он видел своего брата и Элизабет.
– Сколько сейчас лет Мюриель? – спросила Нора, подливая еще чаю. – Дай-ка подумать, ей, должно быть, двадцать четыре.
– Полагаю, да.
Мюриель была дочерью Карела, его единственным ребенком.
– А сколько лет Элизабет?
– Девятнадцать.
Девятнадцать! Он знал это. Он много думал о том, как растет Элизабет. Он очень ясно помнил ее очаровательным ребенком лет двенадцати, ее удлиненное бледное печальное лицо и светлые, почти белые волосы, струящиеся по плечам. Она обладала зрелостью единственного ребенка, ощущающего себя сиротой. Конечно, она была немного дикой, с мальчишескими ухватками. Ни ей, ни Мюриель не пришлось долго наслаждаться материнской заботой. Обе миссис Фишер, Шейла и Клара, родили по девочке и вскоре умерли. Их поблекшие образы, наделенные сверхъестественными, таинственными чертами и теперь слившиеся воедино, парили в отдалении, как печальное и немного обвиняющее соседство для холостяка Маркуса.
– Элизабет, должно быть, сейчас очень красивая, – сказал Маркус, подкладывая себе кусок вишневого торта. Хотя он трусливо никогда не заявлял своих прав на подопечную, он все еще ощущал по отношению к ней странное волнение, которое пришло к нему, когда после смерти Джулиана он почувствовал себя почти отцом очень хорошенького и умного ребенка. Карел вскоре незаметно ускользнул с малышкой. Пока она была ребенком, он регулярно с ней переписывался и привык связывать с ней, хотя и не отчетливо, будущее. Элизабет была для него словно в резерве, как нечто, что еще придет. Он почувствовал сейчас всем своим существом трепет того прежнего невинного чувства обладания, смешанного с еще более сильным ощущением страха перед старшим братом.
– Болезнь могла изменить ее внешность, – предположила Нора. – Может, это какой-то врожденный порок. Не следует удивляться, если она умрет молодой, как ее отец. – Нора, здравый смысл которой иногда приводил к удивительно бессердечным суждениям, никогда не любила Элизабет и называла ее лукавым призрачным созданием. – Кроме всего прочего, тебе следует узнать побольше о состоянии здоровья Элизабет.
Года четыре назад у Элизабет появилась слабость спины, то, что сначала называли скользящий диск. Ее заболевание не поддавалось диагнозу и лечению. Теперь она носила хирургический корсет и жила в соответствии с предписанием «ничего не принимать близко к сердцу».
– Ты совершенно права, – сказал Маркус. Он начал испытывать особую боль, вызванную настойчивым желанием увидеть Элизабет снова и как можно скорее. Это чувство спало в нем, а сейчас пробудилось. Он ощущал вину и замешательство из-за своего отступничества.
– И потом, ее образование, – продолжала Нора. – Что мы знаем о нем?
– Я знаю, что Карел учил ее латыни и греческому.
– Я никогда не одобряла обучение в семье. Оно слишком поверхностно. Обучать должны профессионалы. Кроме того, обычная школьная жизнь принесла бы девочке только добро. Мне сказали, что она почти не выходит. Это плохо для нее. В таком положении люди должны просто сделать усилие и помочь себе сами. Сдаться и слечь – это самое худшее, что только может быть.
Нора, бывшая директором школы, верит в универсальную силу самопомощи.
– Да, ей, должно быть, одиноко, – сказал Маркус. – Хорошо, что с ней всегда рядом Мюриель.
– А мне это не нравится. Девочки слишком много находятся вместе. Cousinage, dangereux voisinage[5].
– Что ты имеешь в виду?
– О, я просто думаю, что это нездоровая дружба. Им следует видеть больше молодых людей.
– Услышать, как ты ратуешь за молодых людей, моя дорогая Нора, – это уж совсем не похоже на тебя. В действительности у меня всегда было впечатление, что девушки не очень-то ладят.
– Что ж, Элизабет трудная и избалованная. Боюсь, что и Мюриель сильно изменилась к худшему. Если бы только она поступила в университет и приобрела стоящую профессию!
– Но в этом нет вины Карела, – сказал Маркус. Ему не нравилась старшая племянница. В ней было что-то сардоническое, и это вызывало недоверие. Он предполагал, что она иронизирует над ним. Однако Мюриель была любимицей Норы и даже какое-то время благодаря Маркусу училась в ее школе. Будучи необычайно способной девушкой, она тем не менее отказалась от места в университете и стала машинисткой-стенографисткой – профессия, к которой Нора испытывала наибольшее отвращение. Маркус считал, что Нора строила слишком честолюбивые планы относительно Мюриель. Возможно, она просто слишком привязалась к ней.
Маркус, который сам был директором маленькой независимой школы в Хертфордшире, познакомился с Норой, общаясь с ней по работе. Сначала она ему нравилась и он даже восхищался ею. Только позже неожиданно и встревожено он почувствовал, что с ней могут возникнуть проблемы. Женщина, обладавшая огромной энергией, из-за плохого здоровья вынуждена была рано уйти на пенсию и поселилась в ветхом доме XVIII века в Восточном Лондоне. Конечно, она тотчас нашла себе массу других занятий, и, по мнению ее врача, чрезмерно много. Она работала на добровольных началах для местного совета, входила в библиотечные, жилищные комитеты, комитеты по вопросам образования, занималась помощью заключенным, пенсионерам преклонного возраста и юным правонарушителям. И все же производила впечатление недостаточно занятой. Эмоции, которые прежде питали ее энергией для работы, теперь растрачивались вхолостую. Маркус обнаружил в ней некую сентиментальность, что совершенно не соответствовало ее прежнему образу сдержанного, рассудительного педагога и рождало чувство неловкости, чего-то почти патетического и трогательного. Она проявляла явную привязанность к своим бывшим ученикам и совершенно очевидный интерес, как он с тревогой заметил, к нему самому, и это нервировало его. А немного погодя она сделала встревожившее и смутившее его предложение переехать в освободившуюся квартиру на верхнем этаже ее дома. Маркус ответил уклончиво.
– Боюсь, Мюриель – типичная представительница современной молодежи, – продолжала Нора, – по крайней мере наиболее смышленой ее части. Она обладает сильной волей, высокими принципами и может стать настоящей гражданкой. Но каким-то образом все пошло не так. У нее нет общественного положения. Как будто ее энергия привела ее прямо на грань морали. Эту тему тебе следует рассмотреть в своей книге.
Маркус взял отпуск на два семестра в своей школе, чтобы написать книгу, которую уже давно обдумывал, – философский трактат о морали мирской жизни. По замыслу это должен быть довольно краткий, но очень яркий, догматический труд, напоминающий «Рождение трагедии» Ницше своей обтекаемой риторикой и силой убеждения. Он надеялся, что книга произведет определенное впечатление.
– Я понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь о Мюриель, – сказал он. – Я наблюдал это в поведении других умных молодых людей. Как только они начинают размышлять о морали, то впадают в какую-то извращенную безнравственность.
– Конечно, это не всегда делает их преступниками. Преступность вызвана другими причинами, часто положением в доме. Например, этот парень, Пешков, кажется мне настоящим преступником, если ты позволишь мне так грубо отозваться об одном из твоих бывших учеников! В его случае…
Маркус мысленно тяжело вздохнул, в то время как Нора продолжала излагать свою точку зрения на причины преступности. Не то чтобы Маркусу было скучно, но он не любил, когда ему напоминали о Лео Пешкове. Лео был одной из педагогических неудач Маркуса. Нора, участвуя в работе комиссии по решению местных жилищных проблем, нашла Пешковых, отца и сына, в грязной каморке, откуда перевезла их сначала в церковное общежитие, а затем с разрешения епископа в их нынешнюю квартиру в доме священника, как раз перед приездом вышеупомянутого странно выглядевшего калеки-священника. Лео, тогда еще школьник, посещал весьма посредственное местное учебное заведение, и Нора попросила Маркуса предоставить ему место в его школе. Фактически Маркус и Нора платили за обучение Лео, но Пешковы не знали об этом. Когда-то в шкоде Лео производил впечатление умного своенравного мальчика и вызвал у Маркуса профессиональный интерес. Маркус не страдал от недостатка самопознания и достаточно хорошо разбирался в тонкостях современной психологии. Терпимый к себе, он хорошо сознавал ту роль, какую играет в складе преуспевающего учителя определенный природный садизм. Маркус оценил свои способности как садиста, он понял механизм воздействия и доверял своей интуиции. Он был хорошим учителем и способным директором школы. Но садизм, который в обычной сумятице человеческих отношений не бросается в глаза, может удивить своего обладателя, как только на сцене появится подходящий партнер.
Лео был совершенным партнером. Его особый, коварно-вызывающий, мазохизм слишком хороша соответствовал темпераменту Маркуса. Маркус наказывал его, а он возвращался за новым наказанием. Маркус апеллировал к его лучшим чувствам и пытался обращаться с ним как со взрослым. Слишком много эмоций возникало между ними. Маркус проявлял доверие и привязанность, Лео отвечал грубостью, Маркус впадал в ослепляющий гнев. Лео с гениальным упорством продолжал создавать трудности. Маркус прочил его в университет – изучать французский и русский. В последний момент с подачи преподавателя математики, с которым Маркус, рассерженный сам на себя, стал обращаться как с соперником, Лео поступил в технический колледж в Лесестершире, чтобы изучать инженерное дело. По слухам, он не слишком хорошо успевал.
– Все это – одно из проявлений упадка христианства, – заключила Нора. – Не то чтобы я возражала против его исчезновения со сцены. Но все обернулось совсем не так, как мы думали в юности. Эта атмосфера сумерек богов сведет множество людей с ума, прежде чем мы выбросим весь этот хлам из нашей системы.
– Интересно, действительно ли мы хотим выбросить все это из нашей системы? – сказал Маркус, отгоняя разрушительный образ юноши. Временами он находил оживленное здравомыслие Норы немного унылым, как у старого осторожного радикала. Ясный рациональный мир, во имя которого она проводила кампанию, не претворился в жизнь, а она так и не пришла к согласию с более запутанным миром, который существовал в действительности. Маркус, разделявший многие ее суждения, не мог не плениться тем, что она называла сумерками богов. Возможно ли, что огромный занавес громадных и смутных очертаний будет наконец откинут, и, если так, что откроется за ним? Маркус не был верующим, но был, как он иногда выражался, любителем христианства. Его любимым чтением была теология. А в молодости он ощущал тайную, немного виноватую радость от того, что его брат – священник.
– Да, хотим, – сказала Нора. – Твоя беда в том, что ты всего лишь попутчик христиан. Лучше не связываться с умирающей мифологией. Все эти истории просто фальшивы, и чем чаще об этом говорится понятным языком, тем лучше.
У них были расхождения по этому вопросу и прежде. Ленивый, не желающий сейчас спорить, Маркус с грустью понял, что чаепитие окончено. Он слегка повернулся к огню, вытирая пальцы крахмальной полотняной салфеткой, и пробормотал:
– Завтра же я пойду повидать Карела и настою на встрече с Элизабет.
– Правильно, и не соглашайся на «нет» в ответ. В конце концов, ты уже звонил три раза. Я могла бы пойти с тобой, так как давно не видела Мюриель, и мне бы хотелось поговорить с ней откровенно. Если возникнут какие-нибудь проблемы с Элизабет, я считаю, тебе следует обратиться за консультацией к юристу. Я не говорю, что твоего брата следует лишить духовного сана или выдать ему удостоверение о психическом расстройстве. Но его нужно заставить вести себя как разумное существо. Пожалуй, я поговорю об этом с епископом, мы часто встречаемся в жилищном комитете.
Нора встала и собирала тарелки, покрытые теперь золотистыми крошками от торта и остатками сливового джема. Маркус грел руки у огня. В комнате стало холоднее.
– Интересно, ты слышал эти гнусные слухи о Кареле, – спросила Нора, – что у него роман с этой цветной служанкой?
– С Пэтти? Нет. Это невозможно.
– Почему же невозможно?
Маркус хихикнул:
– Она слишком толстая.
– Не будь таким легкомысленным, Маркус. Должна сказать, я никак не могу привыкнуть к тому, что ее зовут О'Дрисколл, когда она черная, как твоя шляпа.
– Пэтти не такая уж черная. Да это и не имеет значения.
До Маркуса доходили слухи, но он им не верил. Своеобразие Карела заключалось совсем в другом, он был целомудренным человеком, даже пуританином. В этом Маркус знал своего брата так, как знал себя. Он встал.
– О, Маркус, ты же не собираешься уйти, не правда ли? Почему бы тебе не остаться на ночь. Не хочешь же ты проделать весь путь назад до Эрлз-Корт в этом ужасном тумане!
– Надо идти, много работы, – пробормотал он. А затем, минут десять спустя, он уже шел по покрытому инеем тротуару, и его одинокие шаги глухо звучали под густым покровом тумана. Он совершенно забыл о Норе и чувствовал только теплое зерно радости в сердце при мысли, что снова увидит Элизабет.
Глава 3
– Извините за беспокойство. Меня зовут Антея Барлоу. Я из пастората. Не могла бы я повидать священника на минутку?
– К сожалению, священник никого сейчас не принимает.
– Может, я смогла бы тогда оставить ему записку? Видите ли, я действительно…
– Боюсь, он недостаточно здоров, чтобы заниматься письмами. Может, вы зайдете попозже?
Пэтти решительно закрыла дверь перед причитающей, слегка трепещущей фигурой в тумане. Она была твердым привратником. Привыкнув к такого рода сценам, в следующую минуту она уже забыла о ней. Наверху раздался звон маленького колокольчика, которым Элизабет обычно вызывала Мюриель.
Надев тапочку, которая слетела, когда она проходила через холл, Пэтти направилась назад к кухне.
Пэтти нервничала и испытывала беспокойство. Постоянный шум подземной железной дорога сотрясал ее днем и нарушал сон по ночам. Со времени приезда их окружало кольцо тумана, и она понятия не имела, как выглядит дом священника снаружи. Казалось, что у него вообще нет облика и подобно невообразимым вращающимся мирам, о которых она читала в воскресных газетах, он впитывал в себя все остальное пространство. Осмелившись на второй день выйти, она, к своему удивлению, не обнаружила других зданий поблизости. Сквозь туман время от времени прорывались таинственные звуки, но ничего не было видно, кроме маленького кружка тротуара, на котором она стояла, и красного, покрытого изморозью кирпичного фасада дома священника. Боковая стена дома забетонирована. Он был отсечен от другого здания во время войны. Рука Пэтти, обтянутая перчаткой, коснулась угла, где бетон соприкасался с кирпичом, а затем справа она заметила очертания и предположила, что это, видимо, башня, построенная Кристофером Реном, но в густом желтом тумане смогла рассмотреть только зияющее отверстие двери и окно.
Пройдя немного вперед, она обнаружила, что находится на пустыре. Здесь не было домов, только совершенно плоская поверхность подмерзлой грязи, по которой проходила дорога. Там и сям виднелись бугорки, покрытые жестким промерзшим брезентом. Место казалось большой строительной площадкой, теперь заброшенной. Сбившись с пути, Пэтти сошла с тротуара, под ее ногами захрустел лед, оставляя маленькие углубления в замерзшей траве; небольшие лужи под своими ледяными куполами выглядели как викторианские орнаменты. Испуганная одиночеством и тем, что потеряла дорогу, она поспешила вернуться под крышу дома. По пути она никого не встретила.








