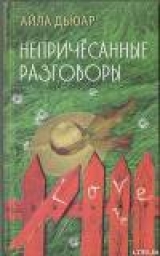
Текст книги "Непричесанные разговоры"
Автор книги: Айла Дьюар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Айла Дьюар
Непричесанные разговоры
Посвящается Сибил и Гордону – которые всегда – на свой особый манер – были рядом.
Часть I
Эллен
Глава первая
Порой, где-нибудь в шумном баре или на улице, в людской толчее, две женщины случайно встречаются глазами и мгновенно, еще до знакомства, понимают: вот родная душа. И тут же в ход идут извечные женские штучки: взмах ресниц, стремительный оценивающий взгляд – от туфель до прически, и вот они снова встречаются глазами.
А что, могли бы и подружиться, мелькает у них мысль. Вот она, собутыльница, куряка вроде меня, шалава, разгильдяйка, идиотка, повернутая на сексе… Словом, подруга, с которой мне по пути.
Иногда дальше этой мимолетной мысли дело не идет. Глянули, прикинули – и разошлись. Но случается и по-другому.
Как и случилось на шумной вечеринке у Джека Конроя, когда в гостиной, набитой людьми, Кора О'Брайен и Эллен Куинн углядели друг друга. И Эллен подумала: кто эта броско одетая женщина? А Кора уже решила: мы могли бы подружиться. Попутно отметив: до чего же она зажатая. И все равно родная душа, нам с ней по пути – добавила Кора про себя, романтик до мозга костей.
Она подошла к Эллен поболтать. И дать совет: радуйтесь. Жизни, вечеринкам, всему на свете радуйтесь. Кора не понимала людей, не умевших радоваться. «Радость! – частенько повторяла она. – Само слово-то какое приятное!» Но передумала. Разве не противно, когда тебе говорят: «Улыбнись, жизнь прекрасна!» – или что-то в этом духе? А потому первые слова, с которыми Кора обратилась к Эллен, оказались немного иными:
– Похоже, вам не помешало бы хорошенько гульнуть. – Шесть с лишним лет в Эдинбурге не лишили Кору напевного говора, свойственного уроженке высокогорий. Голос у нее был мягкий и обволакивал, словно дымка.
– Почему вы так решили? – спросила Эллен. Ей не хотелось, чтобы незнакомка просто развернулась и ушла. Хотелось еще послушать этот голос.
– Да не знаю. Чем не зачин для разговора? – Кора подсела к Эллен и с вожделением глянула на сигареты. Эллен протянула ей пачку. – Нет, спасибо. В душе я куряка на веки вечные, но завязала. А жаль. Прежде жить не могла без сигарет. Но как приятно встретить настоящего курильщика. Многие покупают дешевку в чудовищных пачках и гигантские коробки спичек. По мне, уж коли куришь, то куришь за всех нас, за тех, кто струсил и завязал. Так делай это отважно. Оповещай всех: «Курю и горжусь». А эти сигареты, кстати… – Кора взяла у Эллен пачку, втянула запах, – напоминают мне об одном человеке. В его квартире пахло ими и чесноком. А еще скисшим молоком.
Кора погрузилась в воспоминания и оттуда, издалека, улыбнулась Эллен. Доверительная эта улыбка говорила: «Когда-нибудь я расскажу тебе все». И Эллен растаяла. Легкая улыбка, теплый взгляд – и делай с ней что хочешь.
– Нет лучше способа кого-нибудь позлить, – заметила Эллен, указывая на сигареты.
В сущности, потому она и начала курить. И сигареты выбрала французские. Вонючие – сил нет. Хотела досадить матери, и та, разумеется, ужаснулась: «Какая гадость!» Но мимолетное юношеское злорадство давно осталось в прошлом. Эллен пристрастилась к курению. «Пусть я и умру с черными легкими, – говорила она с вызовом, – но буду знать: чернели они стильно!»
Едва увидев Эллен – всю в темном, нервно крутившую в пальцах пачку сигарет, с темными же очками в пол-лица и волосами, закрывшими другую половину, – Кора поняла, что подойти придется самой. Эллен, разумеется, из тех, кто ни за что не сделает первого шага.
Была не была – в конце концов, Кора привыкла знакомиться первой. Для нее это дело привычное. Бисер в волосах, черная бархатная ленточка на шее. Красный шелковый пиджак, ядовито-фиолетовые ногти. И неизменные туфли на шпильках, которые Кора носила, чтобы казаться хоть немного повыше. Только в этом случае глаза ее оказывались на уровне большинства мужских подбородков.
Кора работала в школе. Учила семилеток. И знала, что получается у нее отлично. Она любила свое дело, и дети в ней души не чаяли.
– Ну же, Билли Макки! Хочешь жениться на мне, когда вырастешь, – научись завязывать шнурки!
Мальчик поднимал на нее глаза, розовый от смущения и удовольствия. И отныне по четвергам, когда Кора утром водила ребят в бассейн, он расталкивал одноклассников, чтобы оказаться поближе к ней.
– Тот, кто хочет держать меня за руку, Лора Саттон, должен знать, сколько будет пятью три.
– Пятнадцать, мисс О'Брайен.
– Умница. – И Кора протягивала девочке руку.
Потная ладошка с силой вцеплялась в нее. Широко раскрытые глаза благоговейно смотрели на блестящие, ярко накрашенные ногти.
Кора обожала семилеток. Они напоминали ей щенят, с шелковистыми животиками, ласковых-ласковых, и только ласковых. Самая лучшая пора. Еще не научились противно хихикать и попусту трепаться. Невинные. Это ненадолго. Скоро пойдут гадкие ухмылки и вранье. «Не знаю, мисс». «Это не я, мисс». Станут жадными, как и все мы, думалось ей. Начнут приглядываться к часам и электронике. Нахлобучив бейсболки и жуя гамбургеры, понесутся сквозь детство, торопясь повзрослеть. Спеша усвоить крепкие, грязные словечки, которых нахватаются из фильмов. Каждое новое поколение детей выглядит все опытнее.
– Ей-богу, – сказала как-то в учительской Кора, ни к кому особо не обращаясь, – семилетки становятся все старше и старше. Скоро их будет не отличить от сорокалетних.
– А что станется, – поинтересовался директор, – с сорокалетними?
– Останутся как есть. Будут вспоминать детство и жалеть: что ж мы, глупые, не радовались, когда нам было семь лет?
У детей в ее нынешнем классе богатый запас ругательств. «Ой, бля!» – вскрикнул кто-то из ребят, опрокинув на пол баночку с голубой краской. Кора подняла спокойный взгляд, покачала головой. Жаль. Такое было емкое, хлесткое словцо, но его вконец истрепали. Теперь оно сродни торту «Черный лес»: столь же приевшееся и бесформенное.
Кора и сама загоралась легко, и детей умела заразить какой-нибудь мечтой – к ужасу родителей, бабушек и дедушек. На улице с ней то и дело заговаривали встревоженные матери и отцы – им казалось, что детям внушают идеи выше их разумения.
– Эй, мисс О'Брайен! Стойте, я вам кой-чего скажу. Что за чепуху вы наговорили нашему Билли? Про то, что он станет полицейским в Нью-Йорке? Никуда он не поедет. И будет водопроводчиком, как я. Что тут такого?
– Ничего, мистер Макки. Лишь бы Билли нравилось. – Кора шумно вздохнула, крепче прижав к груди стопку тетрадей. – Мистер Макки, ведь он ребенок. Ему только семь. Когда ж еще и мечтать стать полицейским в Нью-Йорке?
Мистер Макки не ответил. Мягкий, певучий выговор Коры всегда завораживал людей. С равным успехом она могла диктовать рецепт мясного рагу или читать вслух «Камасутру». Не все ли равно? Лишь бы продолжала говорить.
Точно так же думала и Эллен, сидя рядом с Корой в жужжащей разговорами гостиной. А Кора тем временем приглядывалась к Эллен. Вблизи та казалась моложе. Ногти обгрызены. Волнуется по пустякам, решила Кора и улыбнулась Эллен, вытащив ее из мирка, куда та по привычке погружалась, стоило предоставить ее самой себе. Уже вместе они посмотрели по сторонам, на гостей. Люди, сбившись группками, пили и улыбались, болтали и улыбались, злословили и улыбались, и лениво глазели вокруг, дабы убедиться, что ничего интересного рядом не происходит и никто не улыбается еще шире.
– Вот так, – вырвалось у Эллен. – Как всегда на обочине гламурного мира модных прикидов и причесок.
– Вы-то с чего на обочине? – отозвалась Кора. Она дотронулась до рукава Эллен. – В вашем-то пиджачке. Чем занимаетесь?
– Пишу, – хмуро сообщила Эллен.
Она терпеть не могла рассказывать о своей работе. «Пишете?! – ахали в ответ. – Что же вы пишете?» И приходилось признаваться, что она не Кафка, до Вирджинии Вулф ей далеко, и Айрис Мердок тоже не стоит опасаться соперничества с ее стороны. Ничего великого Эллен не создавала. Она сочиняла комиксы.
– Неужели! – поразилась Кора. – Как вас зовут? Что вы пишете?
– Я Эллен Куинн. Пишу сценарии для комиксов Джека. Точнее, для двух из комиксов Джека.
Те, кто прислушивался тайком, теперь подслушивали в открытую.
– И для каких именно? – заинтересовалась Кора.
Джек Конрой работал без устали. Казалось, он никогда не отдыхает. Никто толком не знал, сколько комиксов он рисует одновременно. С чертежной доски, за которой этот гном сидел на высоком табурете, одна за другой слетали мастерски нарисованные и крутые истории о грудастых, пухлогубых и пышноволосых красотках и спасителях мира с квадратными подбородками.
– «Гангстерши» и «Лесной Энгельс».
– А-а, – протянула Кора.
Она понятия не имела, о чем речь. За всю свою жизнь – дошкольные годы не в счет – Кора не прочла ни одного комикса и читать не собиралась. Но люди, подслушивавшие их беседу, переглянулись. Им было знакомо имя Эллен Куинн. «Гангстерши» и «Лесной Энгельс» – комиксы неплохие. Даже очень неплохие. В гламурном мире модных прикидов и причесок это весьма высокая оценка.
– Значит, вы из студии «Небо без звезд»?
– Да, работаю у Стэнли. Вы знакомы?
– Киваем друг другу. Я живу неподалеку от вашего офиса, за углом.
– Правда? – обрадовалась Эллен. – На Джайлс-стрит?
Ну и совпадение!
– С двумя сыновьями, – добавила Кора. – Заглядывайте как-нибудь на чашечку кофе.
– Загляну, – пообещала Эллен. И тут же, спеша сменить тему, поскольку разговоров о работе не выносила, ляпнула: – У Джека Конроя на заднице мозоль.
– Знаю, – прищурилась Кора.
«Ну-ну», – сказали они хором и ухмыльнулись друг другу. Эллен работает в двух шагах от Кориного дома. О заднице Джека Конроя обе знают не понаслышке. Неплохой фундамент для отношений. Есть кое-что общее. А что, можем и подружиться.
Только на этой вечеринке Эллен поняла, что секс с Джеком Конроем – нечто иное, чем изощренное, хоть и довольно грубое удовольствие. А все из-за полного ненависти взгляда, который бросила на нее жена Джека по прозвищу Черные Ногти (вообще-то ее зовут Морин, но ногти она и вправду красит в черный цвет). Она знает, подумала Эллен. И вспыхнула от стыда.
Как-то раз Эллен принесла работу к Джеку домой. Она стояла в его студии, завороженная окружающим богемным хаосом. На полу и на диване – мешанина из одежды, кассет и дисков. Казалось, будто с дома сняли крышу и всыпали внутрь целый ворох старых газет, журналов и книг. Они валялись везде. Полки прогибались под тяжестью справочников, стаканов с карандашами, комнатных цветов с глянцевитыми листьями. Чертежный стол не виден под грудами бумаг: письма, сценарии, пометки, записки от Джека, адресованные Джеку – напоминания ради. По краю стола выстроились в ряд банки с цветными чернилами и мутной водой, керамические палитры, пол – весь в катышках от ластика. Джек рисовал комиксы карандашом, потом раскрашивал чернилами, а затем что есть силы тер резинкой готовый рисунок, стирая следы карандашного наброска. И наконец рукавом грязного, заношенного свитера смахивал на пол ошметки от ластика. И так год за годом, а пылесосу Морин Черные Ногти доступ в эту комнату был запрещен. Творения Джека были безукоризненны, зато студия наводила на мысли об атомном взрыве.
– Приходи, поболтаем, – пригласил он в тот день Эллен по телефону.
Но то, что последовало, болтовней не назовешь. Постель Джека Конроя пахла мускусом. Постель Джека Конроя пахла женой Джека Конроя. Быть может, именно это и оттолкнуло Эллен. Или шелковое белье этой самой жены на стуле у кровати. Или то, как Джек дышал ей в лицо, его грубые повадки самца. От него исходила уверенность, он явно привык добиваться своего. Когда Джек заломил ей руки за голову, притиснул их к подушке, Эллен перепугалась и начала вырываться. «Пусти! Пусти же!» – брыкалась она.
А может, ей стало противно, когда она пробежалась пальцами вниз по его спине и на заднице нащупала мозоль, маленькую и твердую?
– Хорошо тебе было? – как последняя идиотка спросила потом Эллен.
– Вот уж не думал, что такие вопросы действительно задают, – отозвался Джек. – Ты ведь не хочешь знать ответ?
– Хочу, – возразила Эллен.
– Правду желаешь услышать или вранье? Сидя на краешке кровати, он шарил рукой вокруг, пытаясь нащупать трусы, которые в горячке зашвырнул неведомо куда. А со спины голый Джек Конрой смотрится получше, решила Эллен. Уж больно он шерстью оброс. Джека явно не мама родила, думала Эллен, его связала бабушка зимним, студеным днем.
– Вранье сойдет.
– То-то же, – сказал Джек. – Считай, ответ ты получила. Я, кстати, тоже правду не жалую. Заметь, это лучший способ узнать, как обстоят дела. Когда все хорошо, можно смело смотреть правде в лицо. А когда дела плохи, малость утешительного вранья лишней не будет.
– Ну так и выкладывай! – потребовала Эллен.
– Ах, земля ушла из-под ног, – вяло произнес Джек.
Крошечная Кора, выслушав рассказ, загоготала так, что перекрыла светскую болтовню.
– Ну и задница этот Джек! С мозолью на левой ягодице! Вот что бывает с теми, кто целыми днями сидит не разгибаясь и рисует дурацкие комиксы! Он день и ночь корпит, ей-богу! А фигня-то с ноготок! – Кора показала пальцами размер. – Это я про мозоль, ха-ха!
Ногти у нее были потрясающие. Эллен смотрела на них с завистью. У нее самой ногти были обкусаны – позорище! А виной всему характер. Эллен переживала из-за всякой ерунды. Когда же переживать было не о чем, она переживала по поводу своей привычки переживать. Не менее вредной, чем курение.
Кора улыбнулась:
– Я Кора О'Брайен. А что у тебя тут?
Эллен подняла бокал:
– Белое вино.
– Белое вино? Мещанское пойло! – Только теперь Кора заметила, что под темными очками ее собеседница прячет заплаканные глаза. Кора выхватила у Эллен бокал и, не успела та опомниться, вылила вино в чью-то лежавшую рядом сумочку. – Выпей-ка ты водки.
– Нет-нет! – замахала руками Эллен. – Только не водку! Я не выношу ничего крепкого. Мне от водки плохо.
– Чушь. – Кора и слушать не хотела. – Надо учиться пить. Пороками нужно владеть в совершенстве. Видишь ли, хорошие дела следует делать хорошо. А дурные – блистательно и стильно, с чувством и расстановкой.
Кора щедро плеснула из бутылки себе и Эллен.
Эллен уставилась на свой бокал.
– Я столько не выпью. Я опьянею. Голова разболится. Я почувствую себя жалкой. Ненавижу терять над собой контроль.
– Ага! Вот оно что! – воскликнула Кора. – Значит, ты не опьянеть боишься. Ты до смерти боишься протрезветь. За минуты, когда теряешь контроль над собой, – провозгласила она, поднимая бокал. – Нет ничего приятней.
Эллен выпила и тут же возразила: – За контроль над собой! Но в глубине души она знала, что это далеко не самое приятное на свете.
Глава вторая
Жанин, мать Эллен, вечно беспокоилась за дочь. Эллен пошла в отца: замкнутая, скрытная. Не знаешь, что творится у нее в голове.
– Дуглас был такой же, – вспоминала Жанин. – Себе на уме. Просишь его, бывало, за телефон заплатить или газон постричь, он кивает, соглашается, а сам смотрит в небо и думает бог знает о чем. И слова из него не вытянешь.
Сама Жанин отличалась прямотой. Ей нравилось считать, что она женщина простая и живет простой жизнью. В понедельник – стирка. Во вторник – глажка. В среду – уборка: привести в порядок спальни, вымыть ванну, отполировать сервант. По четвергам она пекла пироги, а по пятницам доделывала то, что не успела за неделю. Жанин любила порядок. Он помогал ей жить. Порядок нужен в каждом деле. Гладишь вначале чуть теплым утюгом, потом – горячим. Прежде всего одежду, за ней – полотенца, простыни и так далее. Гладить Жанин любила: скользит туда-сюда утюг, мирно поскрипывает доска. Если сегодня вторник – значит, пора гладить. Если я глажу – значит, сегодня вторник. Если в жизни порядок, ты всегда знаешь, что к чему.
Жанин задумалась об Эллен и ее отце. Ну что за люди! Растяпы, неряхи, в голове одна чепуха. И не поймешь их никогда. Сидят себе молча, уставившись в стену или в окно, так и хочется взять за шкирку да вернуть на землю – напомнить, что она, Жанин, тоже есть на свете, и это она кормит их, гладит им белье. А может, лучше и вовсе не знать, о чем они там думают. Иначе и свихнуться недолго.
Всякий раз, возвращаясь в зеленый, сонный пригород Эдинбурга, где она выросла, Эллен диву давалась, как эти тихие, скучные улицы могли казаться ей рассадником порока, интриг и индейским святилищем.
В детстве Эллен была уверена, что миссис Пауло, жившая через три дома от них, – кинозвезда. А если даже не кинозвезда, то все равно у нее шикарные знакомства и жизнь как в кино. И все потому, что однажды Эллен увидела, как миссис Пауло у окна разговаривает по телефону. Длинный провод доставал до самого окна, а главное, телефон был белый. Только у кинозвезд бывают белые телефоны. Зоркие детские глаза долго потом следили, не поднимется ли на крыльцо Одри Хепберн или Рок Хадсон. Однажды кто-нибудь из них обязательно зайдет. Только сперва, конечно, позвонит – по белому телефону.
Еще Эллен знала, что мистер Мартин, живший через четыре дома наискосок, – шпион, а его соседка миссис Робб – ведьма. Но самое главное было то, что в конце улицы, на поле для гольфа, обитает племя индейцев сиу – в этом Эллен не сомневалась и секунды. Ибо все лето она по ночам скакала по Великим Равнинам, что раскинулись на запущенном городском поле для гольфа – а за ней следовал ее народ сиу. Никто об этом не подозревал, и лишь Коре довелось узнать – в свое время, когда стала самой близкой подругой Эллен.
– Бог ты мой, Эллен! – изумилась Кора, услыхав об этом. – Ты, должно быть, дурочка с самого рождения. А ко мне дурь с годами привязалась. Впрочем, я и сама искала приключений на свою задницу, не ленивей тебя была по этой части. Замужество, мужики, жизнь, дети… и все такое прочее.
– Ты же никогда не была замужем.
– Ладно. Мужики. Жизнь. Дети. И без замужества дури хватает. Не обязательно все доводить до конца. – Кора не любила, когда ей указывали на ошибки.
Эллен ничего от нее не таила. Такая уж она уродилась. Эллен была вечным ребенком, из тех, кто так и не освоил нехитрое искусство сначала думать, а потом говорить. Она одевалась с ног до головы в черное, робко смотрела на мир из-под густой челки, но в душе вовсе не была такой холодной и мрачной, какой казалась со стороны. Улыбнись ей, подари немножко тепла, доброе слово – и она к тебе потянется. «Вот я, вся перед вами, – словно говорила Эллен. – А вот моя жизнь! – и выкладывала все без остатка. – Полюбуйтесь – правда, дурацкая? Вот здесь я оплошала, видите?» О своих неудачах Эллен рассказывала так же охотно, как и об успехах. Ей было невдомек, что за откровенность ее могут презирать. Но за нее же Эллен и любили, хотя и об этом она не догадывалась.
Живость Коры, ее тяга к крайностям, напротив, были всего лишь маской. Эллен она рассказывала многое, но не все. Кое-что из постыдного, часть своих яростных вспышек и большинство сожалений Кора хранила при себе. Нельзя держать душу нараспашку.
В то лето (про себя Эллен называла его летом сиу) почти каждый вечер, когда мать и сестра ложились, Эллен вылезала из окна своей спальни в сад. Поверх пижамы она надевала уличную одежду – темно-синие вельветовые брюки на резинке и вязаный свитер с высоким воротом. На атласном вороном жеребце по кличке Гром пускалась она рысью под фонарями вдоль Уэйкфилд-авеню; звякали поводья, поскрипывало седло. Коня Эллен, разумеется, выдумала. Но свято верила, что он настоящий. И обожала его, ибо он был единственным, за кого стоило держаться. Единственным, кому она позволяла действительно существовать. Тем более, отец только что умер. На скаку Эллен напевала песенки – любимые песенки, из тех, что без конца крутили по радио. Прислушивалась к собственному шепоту: «Хей, Джуд, ту-ти-ту-ту…»
Ничего глупее Эллен в жизни не делала. Но когда тебе восемь лет, а у восемнадцатой лунки на поле для гольфа тебя ждет целое племя сиу, то бояться нужно только железного коня, застилающего паром твои охотничьи угодья, да длинных ножей, да обозов с бледнолицыми, не знающими бизоньих повадок. Ни пума, ни изменник-пауни не испугают мудрую и храбрую девочку. Пусть ей всего восемь лет, зато слух у нее, как у самого Сидячего Быка.[1]1
Сидячий Бык – знаменитый вождь племени дакота, в 1876 г. возглавил восстание против белых. – Здесь и далее примеч. перев.
[Закрыть]
«В ту пору я была счастлива, – печально шепчет Эллен, бездумно моя посуду после ужина или рассеянно глядя в окно. И тотчас одергивает себя: – Нет, не была. Ясное дело, не была. Если маленькая девочка бродит ночами по полю для гольфа с целым племенем невидимых приятелей, значит, с ней что-то не так, и всерьез не так».
Сейчас Эллен кажется, что все это происходило сто лет назад, когда она была другим человеком, – еще до Коры, Дэниэла, Эмили Бойл и Чиппи Нортона. Чиппи, разумеется, плод ее фантазии. Но среди всех придуманных ею персонажей он самый любимый и самый удачный. Этот мечтательный увалень на самом деле главнее всех. Это Чиппи платит за квартиру и отопление, покупает Эллен одежду, продукты, французские сигареты и русскую водку.
Грома она впервые увидела в марте. Ее звали тогда Эллен Дэвидсон – Дэниэл Куинн появится в ее жизни лишь через много лет. Эллен как сейчас помнит ту ночь, когда умер отец. Помнит каждый миг, каждый взгляд – нахмуренные брови матери, улыбку паиньки-сестры Розалинды, когда та доела печенку и дочиста вылизала тарелку, заслужив миндальный пирог; каждый звук – и приглушенный гул телевизора, который Розалина оставила включенным в гостиной, и звон кастрюль на кухне; все запахи – и подгоревшей печенки, и свежевыглаженного белья. Этот кусочек воспоминаний можно воскресить в памяти, когда тебе плохо, чтобы еще сильнее себя помучить.
Был вторник. А это значило, что в домике с верандой и двумя спальнями на Уэйкфилд-авеню на ужин печенка, а после ужина – ванна. Эллен печенку терпеть не могла и ела всегда медленно: не спеша нарезала ненавистное мясо на мелкие кусочки, размазывала по тарелке и ждала, пока мать выйдет из-за стола. И под укоризненным взглядом сестры отточенным движением сваливала печенку в полиэтиленовый пакет, который всегда держала наготове по вторникам. Туго свернув, Эллен прятала его под свитер. От пакета с печенкой исходило тепло. Чуть погодя Эллен закапывала его в саду. До сих пор вид дряблой, окровавленной печенки на прилавке у мясника вызывает у Эллен приступ тошноты.
Отец в тот вечер вернулся домой поздно. Не снимая твидовой куртки, в которой он водил машину, рухнул в кресло у камина (это было его кресло, и больше ничье) и пожаловался на головную боль.
Мать поставила на стол тарелку с его порцией печенки, глянула на него озабоченно, сдвинув брови.
– Значит, ужинать не будешь?
Отец покачал головой.
– Вымой посуду, Эллен, – велела мать. Эллен возмутилась. Она ведь, как положено, избавилась от печенки, проглотила обязательный кусочек хлеба и теперь ждала миндального пирога. – Вымой посуду, – повторила мать не терпящим возражений тоном.
Эллен нехотя поплелась на кухню, наполнила раковину горячей водой, капнула жидкости для мытья посуды и затеяла морской бой с тарелками и чашкой. Розовая чашка с золотой каемкой – вражеская подводная лодка, она притаилась на глубине и ждет, когда над ней пройдет мирная тарелка. И готовит удар. Бум, плюх! Торпеды со стороны порта! Эллен прижималась животом к раковине, чтобы пакет не выпал. Печенка остывала, от нее срочно надо бы избавиться.
– Господи, Эллен, ничего-то ты не можешь сделать по-человечески! – Мать вошла в кухню и, оттолкнув Эллен от раковины, принялась за работу. – Иди купаться!
– Но ведь еще рано. Как же моя любимая передача? Я хочу посмотреть телевизор.
– Марш, я сказала!
Отец стонал. По пути в ванную Эллен бросила на него взгляд. Землистое, мокрое от пота лицо. Отца явно только что вырвало, голова запрокинута, рот приоткрыт. Руку он прижимал к груди, дышал с трудом, хрипел. Взглянув на Эллен, он окликнул ее: «М-м-м…» Отец всегда звал ее так. В доме вечно толпилось столько девчонок – его дочери, их подруги, соседские дочки, – что все стали для него на одно лицо. Разумеется, он знал, что Эллен – его дочь. Но он невыносимо уставал. Работа отнимала у него все силы. При виде Эллен в голове у него всплывало множество имен, и он не всегда мог вспомнить, как ее зовут.
– М-м-м… – позвал отец.
Тот раз был последним, когда Эллен видела его живым и слышала его голос.
Эллен наполнила ванну, послушно разделась, сложила одежду точно, как учила мать. Для Жанин Дэвидсон величайшим жизненным достижением стала покупка маленького бунгало. Номер сто девяносто два по Уэйкфилд-авеню принадлежал к загадочному лабиринту типовых одноэтажных построек, выросших после войны. С того самого дня, как они с Дугласом въехали сюда, все свое время и силы Жанин тратила на сакральное поддержание порядка – по ее представлению, иначе в собственном отдельном доме и нельзя. Она до ужаса боялась, что в ней разглядят уроженку бедных рабочих окраин, недостойную этого благопристойного, холодного и невыносимо чистого домика. Потому-то Жанин и не позволяла себе расслабиться и порадоваться жизни и своей семье.
Мать Эллен свято верила, что для всякого дела есть свое правило. И в доме Дэвидсонов все делали по правилам, даже одежду в ванной складывали по правилам.
Под безупречно сложенную стопку одежды Эллен сунула печенку. Теперь ее не зароешь в саду. Придется запихнуть в портфель и по дороге в школу выбросить в мусорный бак. В животе у Эллен урчало. Есть хотелось отчаянно. Эллен с тоской подумала о миндальном пироге, все еще ждавшем ее на столе. Но ванна – тоже неплохо. Эллен продолжила игру в морской бой. Губка – вражеская подводная лодка, она притаилась за скалой (у левой коленки) и подстерегает мыльницу – мирный корабль с грузом бананов и сахарного тростника.
– Алло, доктор Филипс? Это миссис Дэвидсон, Уэйкфилд-авеню, сто девяносто два, – донесся до нее голос матери. Особенный голос, торжественный – для врача и страхового агента, который заходил по четвергам.
Эллен нравился их адрес. Как песенка. У-эйк-филд-а-ве-ню, сто-де-вя-но-сто-два. Широкая улица, вся в огнях. Одна среди десятков, сотен точно таких же. Только пошикарней, да еще и с полем для гольфа в конце.
– Мой муж Дуглас заболел! Его тошнит. Трудно дышать и… да… в груди. Спасибо. Дом на правой стороне улицы, сразу за автобусной остановкой.
Доктор Филипс приедет на «ягуаре». Эллен затаила дыхание: что-то случилось. Если затаить дыхание, все про тебя забудут и можно подглядеть, как взрослые занимаются взрослыми делами. Ее зовут Эллен Дэвидсон, ей восемь лет, у нее прямые темные волосы, карие глаза и худенькое личико. Больше всех на свете она любит Берта Ланкастера. А еще ей нравится светящийся шарик на ниточке и альбом наклеек с видами природы. Но самая заветная ее мечта – лошадь. Будь у нее лошадь, Эллен была бы самой счастливой на свете и ни о чем больше не просила, никогда в жизни. Каждый год она писала письма Санта-Клаусу и просила вороного скакуна с атласными боками, но так и не получила его. Каждый год на Рождество она выбегала утром в гостиную и выглядывала через окно в сад. «Пусть он будет там! Пожалуйста!» В мечтах ей виделось: конь стоит на газоне, за кустом сирени, вороной, величавый, бьет копытом, храпит и ждет ее. И зовут его Гром.
– Эллен, мы не можем завести лошадь, – твердила мать. – Где нам ее держать?
– В саду. Или в сарае, когда дождик. Рядом с газонокосилкой, ей там хватит места. Я буду за ней ухаживать. Чистить. Ездить верхом на поле для гольфа.
Этот разговор повторялся каждый год под Рождество. Каждый год Эллен мечтала, ждала, а мать вздыхала. И дарила дочери совсем не то. Настольные игры, новое платье, кукольный домик, карманный радиоприемник – ничто, ничто не могло заменить вороного жеребца с гладкими боками и густой гривой, который ждал бы Эллен за кустом сирени.
Приехал доктор. Голос его гремел по всему коридору. Почему у врачей всегда такие громкие голоса? Эллен затаила дыхание. Досчитала до двухсот сорока семи, хотя после ста девяноста считать пришлось очень быстро, скороговоркой. Ну и ничего, пригодится, если нужно будет прятаться под водой от изменников-пауни.
– «Скорую», пожалуйста. – Доктор говорил по телефону, по их телефону. Интересно, оставит он деньги в коробочке, как это делала миссис Маккензи из дома напротив, когда по воскресеньям звонила матери в Инвернесс? – Уэйкфилд-авеню, сто девяносто два. Сердечный приступ…
Эллен подняла руки и посмотрела на пальцы. Они побелели и сморщились. Вода в ванне остыла, но вылезать было страшно.
Появиться в самый разгар суматохи? Ни за что. Ее там только не хватало. Отложив губку, Эллен замерла, прислушалась. Ее дыхание – гулкое, хриплое – отдавалось эхом во влажном воздухе. За дверью привычные, будничные звуки: бубнил телевизор, урчала вода в трубах. Где-то залаяла собака. Вышла соседка, миссис Барр, вынесла мусор, хлопнула крышкой бака и вернулась к себе на кухню. Эллен покрылась гусиной кожей. Холодно.
– Хочу лошадь, – прошептала Эллен. – Хочу, хочу, хочу…
Приехала «скорая». Раздался звонок. Мать вышла.
Эллен услыхала шум, топот по коридору. От парадной двери до гостиной – десять шагов. Не больше, не меньше. Эллен каждый раз считала.
– Дэвидсон? «Скорая». Где он?..
– Дальше по коридору… по коридору…
Парадную дверь оставили открытой, в ванной потянуло сквозняком. Эллен вся дрожала. Ей представилось, как машина «скорой» в темном дворе светит синей мигалкой в окна соседям. Соседи будут подсматривать. «В доме сто девяносто два что-то случилось».
Было слышно, как через черный ход вынесли носилки. Санитары со «скорой», наверное, большие и сильные. Мама собралась ехать с ними:
– Возьму плащ и сумочку. – Голос у нее был чужой. – Розалинда, присмотри за Эллен. Уложи ее спать и в десять сама ложись. Когда вернусь, не знаю.
– А где Эллен?
– Господи, да она в ванной! Просидела там все это время! – Громкий стук в дверь ванной. – Как ты там?
– Нормально, – пискнула Эллен.
– Я еду с папой на «скорой». А ты ложись спать. Слушайся Розалинду.
Вредина-сестра будет дразниться, так что надо поосторожнее с печенкой.
Вся дрожа, Эллен вылезла из воды, вытерлась полотенцем, поскорее нырнула в кровать и даже не помолилась на ночь.
Каждый вечер Жанин Дэвидсон заставляла дочерей молиться перед сном. Чтоб все было как у людей. Тем самым она каждый вечер подтверждала уверенность Эллен, что до рассвета ей не дожить.
Ложусь я спать на склоне дня.
Прошу, Господь, храни меня.
А если я умру во сне,
Открой ворота рая мне.
Эллен лежала одна-одинешенька в спальне, ловила приглушенные звуки за стеной и ждала, когда к ней явится смерть. Смерть – человек в шляпе, с тоненькими усиками и горящими злобой глазами, в остроносых черно-белых штиблетах – застрелит ее из маленького блестящего пистолета. Или задушит сильными руками в черных перчатках. А может быть, смерть – это дама в белом шуршащем платье. Лицо у нее худое, надменное, белое-белое, как и ее наряд. А в руке – серебряный кинжал, который она вонзит Эллен в сердце с криком: «Умри! Умри! Умри, дитя, умри!» Каждую ночь, до самого утра, Эллен пряталась с головой под одеяло, чтобы смерть подкралась незаметно. Пусть не будет слышно ни стука остроносых черно-белых штиблет, ни зловещего шороха белого платья.




