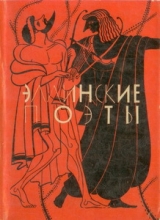
Текст книги "Эллинские поэты"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Античная литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Вслед за ним Тиртей увещевал соотечественников проявлять перед лицом врагов мужество и храбрость, не позорить себя бегством с поля боя. Элегии этого поэта исполнены истинного пафоса верности отчизне и доблестного боевого духа. Если предание о том, что элегии Тиртея воодушевили спартанцев и принесли им победу в войне против мессенцев, и является легендой, то оно, во всяком случае, характеризует высокую роль вдохновенной патриотической песни.
С такой патриотической элегией обратился к своим согражданам и афинянин Солон, побуждая их вернуть себе отнятый мегарцами Саламин. Из ста ее стихов до нас дошли лишь восемь. Интересно, что государственный деятель здесь прямо предпочитает ораторскому слову слово поэтическое:
Стройно сплетенную песнь вместо речей приношу, —
говорит он своим согражданам. Поэт взывает к чувству афинян, ущемленному утратой этого острова.
Если стихотворения Солона, созданные им для убеждения сограждан, по своему содержанию и стилю рационалистичны, то элегии Мимнерма («К Панно») более эмоциональны, непосредственно «лиричны». Это не советы и рассуждения, а душевные излияния и раздумья. Они проникнуты грустным чувством и сознанием, что молодость убывает невозвратно, что вместе с нею уходят радости и начинают довлеть заботы и горести, которые несет с собою надвигающаяся старость. Не случайно Мимнерму созвучно гомеровское сравнение кратковечных людей с увядающими и опадающими листьями («Илиада», VI, 146-148). Именно его стихотворения стали образцами для печально чувствительной элегии позднейшего времени.
С другой стороны, в лирике Мимнерма утверждается, что нельзя упускать моментов наслаждения, ибо только в них и заключается ценность бытия:
Без золотой Афродиты какая нам жизнь или радость? —
читаем мы в сентенциозном запеве одной из его элегий, вызвавшей множество вариаций в дальнейшей поэзии.
Мимнерм явился также и автором элегий, воспевавших мужество участников войны против лидийских завоевателей, но от них сохранилось немногое. Этой войне была посвящена и не дошедшая до нас его историческая поэма «Смирнеида».
В большем объеме сохранилось поэтическое наследие элегика VI в. Феогнида Мегарского, составляющее около 1400 стихов нравоучительного и сентенциозного характера. В социальном, этическом и философском содержании элегий Феогнида отражено мировоззрение и жизнеотношение поэта аристократии, утратившей свое положение в результате демократической революции. Феогнид остро переживал этот переворот, считая его большой общественной несправедливостью. Исходя из такого реакционного взгляда, поэт преподает своему молодому другу Кирну советы, которые должны составить кодекс его поведения в новой, революционной обстановке. Элегии Феогнида – интереснейший исторический памятник этой обстановки, когда тот,
Кто одевал себе тело изношенным мехом козлиным
И за стеной городской пасся, как дикий олень, —
Сделался знатным отныне. А люди, что знатными были,
Низкими стали…
(55-58).
В таких условиях, поучает поэт-аристократ, нельзя доверяться людям из низов, посвящать в свои замыслы можно только благородных, но и то немногих (69-76). Честность – большая редкость (83-86). Везде царит бесстыдство и наглость, поэтому нужна при распознавании людей большая осторожность (117-118). Видимость бывает обманчивой (128).
Сокрушаясь о том, что утрачивает чистоту своей крови и ухудшается аристократическая порода, Феогнид видит причину этого «зла» в охватившем всех духе расчета:
…Замуж ничуть не колеблется лучший
Низкую женщину брать, – только б с деньгами была!
Женщина также охотно выходит за низкого мужа, —
Был бы богат! Для нее это важнее всего.
Деньги в почете всеобщем. Богатство смешало породы…
(185-189).
Самого поэта богатство не прельщает, он только не хотел бы страдать от нищеты, которая более ужасна, чем старость и смерть (173-182).
Горечь одинокого осколка исторически обреченной общественной группы слышится в жалобах Феогнида на друзей, которые, чураясь изгнанного, не оказывают ему поддержки. Это больней, чем само изгнание (209-210).
Феогнид не верит в людей, в возможность изменить их природу, перевоспитать дурных. Способа исправить нравственное зло пока еще никто на свете не изобрел (430-438). Люди вообще жалки и ничтожны, жизнь опрокидывает их надежды, они ничего предусмотреть не могут (140-142). Счастливого человека на свете нет (167-168).
При таком чувстве социальной безнадежности и таком беспросветном взгляде на жизнь привязанность к ней, естественно, теряет всякий смысл. Лучше было бы и вовсе не родиться, но раз уж человек появился на свет, то он должен возможно скорее лечь в могилу (425-428). Такова безрадостная философия этого античного предка пессимистических поэтов, певцов социальной реакции и упадка.
IV
Элегия, вначале связанная с музыкой, рано утратила эту связь и превратилась в чисто литературный жанр. Значительно большую роль музыка сохранила в другой области поэзии – мелике. Мелика – развившаяся из фольклорной песни вокальная лирика. Пение мелических стихотворений сопровоядалось игрой на струнном инструменте (лире, кифаре), а также ритмическими движениями. В зависимости от содержания, назначения и количества исполнителей мелика была хоровой или монодической, сольной. Последняя особенно расцвела на острове Лесбосе, с которым связано имя певца Терпандра, усовершенствовавшего лиру, и творчество двух прославленных поэтов, Алкея и Сафо (VII-VI вв.).
В главном городе острова, Митиленах, где жил Алкей, шла ожесточенная борьба между разнослойным демосом и старой землевладельческой знатью. Из новых торгово-колонизационных групп населения здесь выдвигаются один за другим правители-тираны Меланхр, Мирсил, затем Питтак, ранее принадлежавший к одному кругу с Алкеем и его братьями, сторонниками аристократии, позиции которой поэт защищал своими стихами и делами.
В одной из своих «песен восстания» Алкей изображает свой дом как склад боевого оружия – должно быть, для членов аристократического товарищества – гетерии.
Медью воинской весь блестит,
Весь оружием убран дом —
Арею в честь.
Тут шеломы, как жар, горят.
И колышутся белые
На них хвосты.
Там медяные поножи
На гвоздях поразвешены;
Кольчуги там.
Вот и панцири из холста;
Вот и полые, круглые
Лежат щиты.
Есть булаты халкидские,
Есть и пояс, и перевязь:
Готово все.
Ничего не забыто здесь;
Не забудем и мы, друзья,
За что взялись.
(Перевод Вячеслава Иванова.)
Речь здесь идет о предстоящем выступлении заговорщиков, о мятеже против власти ненавистного тирана. Весть о гибели Мирсила наполняет его сердце радостью. Он неистово торжествует и зовет к ликованию своих друзей:
Пить, пить давайте! Каждый напейся пьян!
Хоть и не хочешь – пьянствуй! Издох Мирсил!
(Перевод Вячеслава Иванова.)
Защитник отжившей знати, Алкей изгонялся с Лесбоса, скитался по чужим странам – Египту, Вавилонии, Фракии. Потерпев неудачу в борьбе с Питтаком, он бежит из Митилен куда-то на далекую окраину острова. Спасаясь здесь в святилище Геры, он жалуется на свою незавидную долю, на жизнь в этой глуши изгнанника из владений благородных предков, на унизительную бедность. Этим жалобам Алкея как будто сродни некоторые мотивы Феогнида, перекликающегося с лесбосским поэтом также и образным сравнением города, раздираемого гражданскими междоусобиями, с расшатанным бурей кораблем, который стремится к надежному берегу (стихи 855-856 Феогнида). Однако для Алкея, в отличие от мегарского элегика, вовсе не характерны безнадежные ламентации. Он – поэт воинственный и малодушию не подверженный. В «Гимне Митиленам» 6Алкей характеризует себя и своих соратников:
Мужи зрелые мы,
В свалке судеб
Нам по плечу борьба.
Стихия бушующего моря, символизирующего клокочущую гражданскую войну, его не повергает в ужас и не парализует его волю к борению с ней. Пусть валы захлестнули палубу, пусть от буйных ветров продырявлен весь парус, пусть ослабли скрепы корабля и нависла беда, – поэт духом не падает. Он призывает гребцов к мужеству и стойкости:
Дружней за дело! И возведем оплот,
Как медной броней, борт опояшем мы,
Противоборствуя пучине,
В гавань надежную бег направим.
Да не поддастся слабости круг борцов!
Друзья, грядет к нам буря великая.
О, вспомните борьбу былую,
Каждый пусть ныне стяжает славу.
Не посрамим же трусостью предков прах…
(Перевод Я. Э. Голосовкера.)
По боевому пафосу эти и другие стихи («Прекрасна в бою смерть») напоминают воинственные элегии, Тиртея, однако и существенно от них отличаются. У спартанского поэта страстные призывы к проявлению храбрости проникнуты общенародными, патриотическими чувствами, у лесбосского – реакционно-классовыми.
Такие же чувства кипят в его лирических инвективах против Питтака, изменившего аристократической гетерии и ставшего правителем Митилен. Алкей осыпает его бранью, извлекая из своего крепкого лексикона множество ругательных эпитетов, характеризующих физическое и моральное уродство противника: колченогий, толстобрюхий, отродье зла, прощелыга, жадина, пропойца…
Последняя издевка звучит более чем странно, так как сам Алкей воспевает благостное влияние щедро наливаемых до края и выпиваемых «больших, глубокодонных» чаш в любое время, в любой обстановке и в любом душевном состоянии.
Будем пить! И елей
Время зажечь:
Зимний недолог день.
Расписные поставь,
Милый, на стол
Чаши глубокие!
Хмель в них лей – не жалей!
Дал нам вино
Добрый Семелин сын —
Думы в кубках топить…
По два налей
Полные каждому!
Благо было б начать:
Выпить один,
И за другим черед.
(Перевод Вячеслава Иванова.)
По его сколиям (застольным песням), в зимнюю стужу следует прогонять уныние вином, то же нужно делать и в летний зной; торжествуя, нужно напиться; уйдя от врагов на корабле в море, нужно бражничать; спасение от бед – в вине, и, чтобы преодолевать грустные думы о неизбежности смерти и неповторимости жизни, нужно – опять – крепко хмелеть. Вряд ли можно эти «винные» мотивы объяснить только нравами аристократической гетерии, к которой принадлежал поэт. Нужно подумать об Алкее как о личности, о его неустанных жизненных тревогах, неудачах и поражениях, нужно почувствовать большую непосредственность и острую темпераментность поэта, нужно разобраться в мироощущении лирика, роднящем его, несмотря на резкое социальное различие, с Архилохом. Кроме того, здесь следует учесть и поэтические реминисценции. Отзвуки мотивов Архилоха, Мимнерма и даже Гесиода в лирике Алкея несомненны. Одна из его застольных песен весьма сходна со стихами 582-592 «Работ и дней». Стихи Алкея о брошенном щите, вероятно, являются вариацией известного признания великого ямбографа, подобно тому как многие мотивы лесбосского лирика потом по-новому перепеты Горацием.
Ни «песнями восстания», ни пиршественными песнями лирика Алкея не исчерпывается. Мы очень мало знаем о его гимнах, мифологических стихотворениях, любовной лирике. Еще менее нам известны его стихи, посвященные природе. Самостоятельной темы природы нет ни у Гомера, ни у Гесиода, ни в лирической поэзии до Алкея. Впервые она появляется перед нами в «Весеннем фрагменте» лесбосского поэта. Перед нами развернутый пейзаж, весь в ясных, светлых тонах, «озвученный» пением пернатых. И мы слышим здесь в весеннем многоголосье птиц голос поэта, чувствовавшего красоту и радость жизни, – может быть, только иногда, изредка, когда не был озабочен борьбой…
У Сафо, современницы Алкея, тоже принадлежавшей к лесбосской аристократии и тоже на время изгнанной или бежавшей из Митилен, радость бытия составляет основной лирический тон. Мы слышим этот тон во всем ее творчестве, в котором каждая песня звучит как искреннее признание. У нее свой мир интимных переживаний, почти всегда светлый, хотя и не всегда безоблачный. Томление смерти, видение берегов Ахерона проходят как сон, страдание, как тень от стаи низко пролетающих птиц, проплывает быстро, и ясность души возвращается.
Для Сафо в жизни много прекрасного, и все прекрасное ей кажется близким.
Мне не кажется трудным до неба дотронуться…
(85).
Каждая из девяти муз вдохновляет один из видов искусства, творимой человеком красоты. Сафо, десятая муза, как назвал ее Платон, – жрица самой красоты человека и природы. Прекрасно для нее то, что не только доставляет наслаждение глазу, но и благостно по своей сущности.
Кто прекрасен, одно лишь нам радует зрение.
Кто ж хорош, сам собой и прекрасным покажется
(47).
Эллинский идеал гармонической личности, сочетавший нравственное совершенство с физической красотой, идеал, сформулированный философски лишь в классический период, поэтически уже выражен в этом двустишии. У Сафо он как будто рожден не в мысли, а в сердце, как ее чувства к подругам и ученицам. Любовь, восхищение, трепет и замирание сердца, боль и горечь обиды, разлука и тоска, утешительная сладость воспоминания – все ее переживания впечатляют своей душевной искренностью, сердечной доверчивостью.
Как у малых детей, сердце мое…
(53).
Боги ей доступны и близки. Сафо говорит с Кипридой во сне (55) и наяву, называет ее многоблаженной (57), видит ее золотовенчанной (61), разливающей гостям щедрой рукой в золотые чаши нектар (56), и одновременно приносит ей, как жрица, жертвы, дары, возлияния (58-59). Это традиционно-культовый и вместе с тем интимный, собственный образ богини, созданный Сафо.
Таково же и ее видение Эроса. Он служитель Афродиты, который спускается в пурпурной хламиде с неба на землю к людям… Но поэтесса знает и могучую силу пламенного влечения. Сафо признается:
Страстью я горю и безумствую…
(11).
Тогда ее бурное чувство не укладывается в рамки мифологического представления. Эрос обретает мощь первобытной стихии, захлестывающей все существо человека.
Словно ветер, с горы на дубы налетающий,
Эрос души потряс нам…
(12).
Или принимает новый, чисто метафорический облик, родственный библейскому соблазнителю Евы – облик змия:
Эрос вновь меня мучит истомчивый,
Горько-сладостный необоримый змей
(21).
Однако змей характеризуется не дьявольским лукавством; он становится как бы воплощением двойственных чувств самой поэтессы (не случайно на него перенесен эпитет, приложимый лишь к ощущениям человека). Страстный призыв к Афродите, чтобы помогла ей в любви, как и обращение к Гере, чтобы благоприятствовала ее возвращению из изгнания на родину, восходят к культовым молениям. И вместе с тем это не молитвы, а глубоко лирические стихотворения, в которых слышится биение сердца и воспринимается особый поэтический стиль Сафо.
Из двух картин природы, которые имеются в сохранившихся отрывках, одна, как это бывало и в «Илиаде», служит для сравнения, но далеко выходит за его пределы и обретает самостоятельность. Восхищенная красотой ученицы Аттиды, живущей в Лидии, Сафо говорит, что ее подруга выделяется своим блеском среди тамошних женщин, как месяц среди звезд. При этом поэтесса, отдавшись своей фантазии, создает чарующий ноктюрн, полный лунного света, который струится на море, и аромата обрызганных росою цветущих нив и полян. В другом (реконструированном) стихотворении, где живописуется пещера нимф, пейзаж другой, дневной. Пещеру осеняет яблоневый сад. В его ветвях журчит прохлада, и с трепещущих листьев стекает сон. Тенистая свежесть стала у Сафо внятной, а дремота зримой. Какой нужно иметь поэтический слух и глаз, чтобы все это уловить и увидеть!
Меньше, видимо, личного в ее свадебных песнях, эпиталамиях. Здесь во многом сохранен народный обряд с его величанием жениха, уподобляемого герою, богу, стройной ветви (112), и восхвалением невесты, сравниваемой сначала с несорванным алым яблочком (102), а затем с поникшим и помятым гиацинтом (103). Он восстанавливается даже из обрывков свадебной игры. Вот девушка не хочет уйти из родного дома и упрямится, говорит, что будет сидеть в девках (105), а отец неумолим, отвечает: «выдадим» (106). Вот невеста прощается со своей целомудренностью:
«Невинность моя, невинность моя, куда от меня уходишь?»
«Теперь никогда, теперь никогда к тебе не вернусь обратно»
(115).
Вопрос и ответ, интонации и повторы неподдельно народны.
А вот и веселое поддразнивание дружки, щедрое нагромождение гипербол для потехи над ним:
В семь сажен у привратника ноги,
На ступнях пятерные подошвы,
В двадцать рук их башмачники шили.
(107).
К эпиталамиям примыкает и эпическая реминисценция из троянского мифического цикла, – песня о том, как в Трое встречают прибывшую из Киликии молодую пару, Гектора и Андромаху (118). Созданная в гомеровском дактилическом размере и стиле, она исполнена особенной сафической напевности.
Вообще Сафо исключительно музыкальна. Музыкальность поэтессы отразилась, в частности, в создании ею «сафической строфы», которая пленяла многих древних, особенно римских поэтов (Катулла, Горация), привлекала внимание многих немецких стихотворцев и порою звучала в русской поэзии начиная с XVII века – вплоть до Брюсова и других лириков XX столетия.
* * *
После лирики Сафо мелика больше не достигает такой эмоциональной глубины и такой тонкой художественности. И когда мы читаем некоторые отрывки из эротических стихотворений Ивика, нам кажется, что он перепевает лесбосскую поэтессу. Его Эрос, который летит
Словно сверкающей молнией северный ветер фракийский, и душу
Мощно до самого дна колышет. Жгучим безумьем… —
(1).
очень напоминает образ этого служителя Киприды, рассмотренный выше.
Легенда рассказывает о любви постаревшей Сафо к молодому корабельщику Фаону и о трагическом ее финале: отвергнутая любимым, поэтесса бросилась с Левкадской скалы в море.
В отличие от лесбосской певицы, Анакреон переживал свои увлечения и неудачи легко. Жизнь при дворах тиранов, ставившая Анакреона в зависимость от желаний и вкусов богатого круга, которому нужно было, чтобы поэт его радовал своими песнями, во многом определила направление творчества этого лирика.
Подобно Мимнерму, Анакреон – поэт-гедонист. Он хочет в жизни прежде всего наслаждений. Война его не привлекает.
А кто сражаться хочет,
Их воля: пусть воюют!
(14).
Подобно Сафо и Ивику, он тоже знает наваждение бурной страсти. Но, в отличие от их образа Эроса, налетающего, как шквал яростного ветра, потрясающее действие бога любви у Анакреона уподобляется другой силе:
Страшным ударом меня поразил ты, Эрос беспощадный!
Словно кузнец своим молотом, в сердце ударил и бросил
В бурный поток, разбушеванный зимним ненастьем…
(Перевод Л. Мея.)
Однако большею частью его эротика носит иной, игривый характер. Сравнение любви с ристанием, в котором у Ивика, тряхнув стариной, принимает участие и одряхлевший конь, метафорически повернуто у Анакреона иным образом: молодую фракийскую кобылку, резвую и убегающую, поэт-наездник, знающий толк в своем деле, должен будет взнуздать и, умело правя вожжами, провести вокруг меты.
Иногда увлечение Анакреона становится для него самого смешным. Над своей страстью к Клеобулу поэт иронизирует:
Клеобула, Клеобула я люблю,
К Клеобулу я как бешеный лечу,
Клеобула я глазами проглочу…
(Перевод Я. Э. Голосовкера.)
Более грустная ирония поэта над самим собою слышится в его стихотворении о тщетном желании старого озорника позабавиться с юной лесбианкой. Девушка смеется над его седой головой и пялит глаза на другого, молодого (1). Иногда поэт сам хочет спастись от эротического влечения, уйдя от Эроса к Вакху. Но он не поэт бурных кутежей. Ему не по душе грубое, «скифское», пьянство и сопровождающее его бесчинство. В своих вакхических стихотворениях Анакреон воспевает удовольствия, доставляемые чашей легкого, разбавленного вина, приятной дружеской беседой и собственной песней на пирушке.
И все же ходячее суждение об Анакреоне как поэте всегда беззаботном, беспечном и бездумном односторонне. В некоторых его стихотворениях чувствуется горький привкус грустных раздумий, философски не новых, но по-новому пережитых и лирически по-новому выраженных. Это раздумья о скоротечности жизни, о наступлении старости и неизбежности смерти. Поэт в ужасе перед спуском в Аид, откуда нет возврата. Должно быть, уже на склоне лет, испытывая горести угасания, Анакреон сам предпочитал им возможно более скорый уход в преисподнюю:
Умереть бы мне! Не вижу никакого
Я другого избавленья от страданий!
(16).
Гедонизм, исчерпавший свои возможности, неминуемо оборачивается пессимизмом.
Лирика Анакреона нашла в русской литературе многочисленных переводчиков, начиная от Кантемира и Ломоносова. Особенно силен был интерес к произведениям древнего автора, а также к античным подражаниям им, – так называемой анакреонтике, – в первой половине прошлого столетия, когда переводчиками Анакреона выступили Державин, Гнедич, Батюшков, Пушкин.
Античные источники нам сообщают, что Анакреон создал также элегии, ямбы, гимны, но об этих видах его лирики мы почти ничего не знаем.
* * *
Характеризующее мелику сочетание трех видов искусства – поэтического слова, музыки и танца – сыграло особенно важную роль в лирике хоровой. Состязавшиеся хоры выступали на культовых и других праздничных собраниях и имели, таким образом, определенное назначение в жизни полиса. Торжественные песни были различного содержания и носили различные названия: оды по установленным музыкальным образцам – номы; хвалебные оды – энкомии; оды в честь победителей на спортивных игрищах – эпиникии; торжественные песни для хора девушек – парфении; погребальные песни – френы; гимны в честь Аполлона – пеаны, в честь Диониса – дифирамбы и др.
Зачинателем хоровой мелики был спартанский поэт Алкман, живший в VII в. до н. э. Из его гимнов богам не дошел ни один, а из его песен для девичьих хоров, парфениев, до последнего времени был известен лишь единственный, и то неполный, образец. Сейчас найден еще и другой парфений, но его изучение только началось. Прославление богов и мифологических героев соединяются здесь с восхвалением реальных лиц – прекрасных руководительниц хора.
Среди фрагментов лирики Алкмана привлек особое внимание отрывок, содержащий описание спящей или замершей природы:
Спят вершины высокие гор и бездн провалы,
Спят утесы и ущелья…
Змеи, сколько их черная всех земля ни кормит,
Густые рои пчел,
звери гор высоких
И чудища в багровой глубине морской.
Сладко спит и племя
Быстро летающих птиц.
(17).
Этот фрагмент вызывает ассоциации с известным стихотворением Гете «Ночная песнь странника», пересозданным Лермонтовым («Горные вершины спят во тьме ночной…»). Наряду с рассмотренными фрагментами Алкея и Сафо он свидетельствует о зарождении в древнегреческой лирике живописного элемента.
Следует также отметить и наличие среди сохранившихся отрывков отдельных философских сентенций, представляющих большой интерес. Так, Алкман говорит: «Опыт – вот основа познания» (30). Хронологически невозможно, кажется, чтобы кто-либо из древнегреческих материалистов мог высказать эту мысль до Алкмана. Должен быть отмечен и другой афоризм поэта:
Железный меч не выше прекрасной игры на кифаре
(28).
Связанную с поэзией музыку восхваляли и другие лирики (Феогнид, Сафо, потом особенно Пиндар и другие), но в такой связи о ней не говорилось. Противопоставление и недосказанное, но достаточно ясное предпочтение искусства оружию нам кажется поистине замечательным, особенно в условиях Спарты, где занятие военным делом считалось самым важным.
Парфений Алкмана, дифирамбы Ариона, эпиталамии Сафо, энкомии Ивика и другие произведения хоровой мелики VII-VI столетий подготовили ее высокий расцвет в творчестве Симонида, Пиндара, Бакхилида и затем Тимофея. Но он относится уже к следующему веку и следующему периоду греческой поэзии.
* * *
По богатству содержания, жанров и стихотворных размеров поэзия VII-VI столетий составляет замечательную главу в истории древнегреческой литературы. Она заключает в себе различного направления поэмы (мифологически-космогоническая, дидактическая, пародийная), гимны богам, лирику гражданскую, философскую, интимную, – лирику, удивительную по богатству и разнообразию форм. В ней нашла свое преломление бурная эпоха с ее общественными столкновениями и устремлениями отдельного человека. Ее питательной почвой была прежде всего сама историческая действительность, сама жизнь в условиях складывавшегося рабовладельческого строя. Но фольклорные и эпические традиции и здесь оказывали свое влияние. В свою очередь, поэзия архаического времени была вместе с поэзией предшествующей живительным источником для литературы классического и эллинистического периодов. Она вызвала многочисленные отклики в римскую и последующие эпохи. Став достоянием мировой культуры, она сохранила свою историческую и эстетическую ценность и для нас.
Выдающийся русский писатель В. В. Вересаев много лет посвятил переводам эллинской лирической и эпической поэзии. Ему принадлежат переводы «Илиады» и «Одиссеи»; его перевод поэм Гесиода Академия наук удостоила Пушкинской премии. В 1929 году для десятого тома собрания своих сочинений, выпускавшегося издательством «Недра», В. В. Вересаев собрал свои переводы эллинских поэтов (исключая Гомера), комментарии к ним и некоторые статьи о древнегреческой поэзии в один сборник. Этот сборник с небольшими сокращениями и изменениями предлагается сейчас читателю. Наши знания об эллинской лирике со времен Вересаева значительно обогатились: в песках Египта найдено множество папирусов с большими фрагментами и целыми стихотворениями Алкея, Сафо, других поэтов (самые последние находки приведены в приложении к этой книге). Однако на русском языке сборник Вересаева является до сих пор самым полным, а собранные в нем переводы отличаются высокой точностью и немалыми поэтическими достоинствами; и поэтому новое поколение читателей может благодаря ему приобщиться к великой сокровищнице эллинской поэзии.
Я. САХАРНЫЙ



