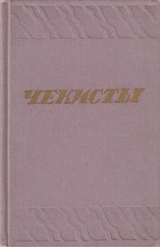
Текст книги "Чекисты [Сборник]"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
10
Бремя доказывания – процессуальный термин, обозначающий, кто из сторон в процессе должен доказать свои утверждения. По советскому законодательству бремя доказывания вины обвиняемого лежит на обязанности следователя.
Всякое сомнение по делу толкуется в пользу обвиняемого, если это сомнение не будет рассеяно следствием.
(Из объяснения юридических терминов)
Бремя – это, конечно, очень старинное слово. Но сущность его остается неизменной: это тяжесть, возложенная на человека. Следователю предоставлены большие права, но, пожалуй, не меньше связывают его и ограничения, основанные на гуманности самой природы нашего советского закона. Бывает, что в частном случае, как это ни парадоксально, сам закон утяжеляет это бремя. Не всегда следователю, как говорится, везет…
Короткевичу шел двадцать пятый год, когда он очутился в окружении, а затем в фашистском плену. Лагерь, побег, опять плен, голод, страх – и Короткевич попадает в группу Гришаева. С тех пор прошло семнадцать лет. Короткевич понес заслуженное наказание, был освобожден и после этого давно уже работает шофёром в одной из южных областей нашей страны. Женился, имеет детей. Работает и живет честно. Серьезный, спокойный человек. А в душе у него вот что: «Я решил не таить в себе то, что камнем лежало на моей душе и терзало мою совесть».
Кое-кто, прочтя эти строки, возможно, и усмехнется: дескать, мелодрамой попахивает, словечки такие: «терзало», «лежало камнем…» А дело не в словах. Дело в том, что за истекшие семнадцать лет Короткевич впитывал в себя то лучшее, что наблюдал в окружающих его людях, и постепенно, год за годом, тайна, хранимая им, все больше и больше приходила в противоречие всему хорошему, что накапливалось в его душе. И наконец стало невмоготу молчать. Короткевич решился быть откровенным до конца, без пощады к себе. Только так мог он восстановить перед самим собой человеческое достоинство. И вот он рассказывает…
Как-то летом, возвращаясь в свой штаб в деревню Алексино, вышла из леса группа Гришаева. На берегу озера увидели восемь женщин. Старой сетью женщины ловили рыбу, складывали ее в ведро. Одна из них тут же кормила грудью ребенка. Никто из карателей не удивился, когда Гришаев приказал женщинам следовать в штаб: местным жителям не разрешалось свободно ходить по своим полям и лесам. Но, отойдя километра полтора от озера, Гришаев крикнул женщинам: «Эй, вы! Чего разбредаетесь, как коровы? Давайте в кучу!» Женщины покорно собрались возле какого-то сгоревшего строения. И тогда Гришаев сказал своим: «Сейчас мы их пустим в расход».
Бессмысленная жестокость ошеломила даже видавших виды карателей. «Мы остолбенели, – рассказывает Короткевич. – За что? Кому нужно убивать этих женщин?»– «Делайте, что вам говорят!» – в бешенстве крикнул Гришаев и первым открыл огонь. Убиты были все женщины. И грудной ребенок. Гришаев приказал своим оттащить и сбросить их в воронку, полную воды.
Стреляли не все каратели. Кое-кто не поднял руку на беззащитных женщин, но не посмел противоречить Гришаеву. Короткевич помнит (семнадцать лет помнит!), как оттаскивал и сталкивал в воронку еще теплые окровавленные тела!
И вот Короткевич входит в комнату, где сидит Гришаев. Постаревший, изменившийся, но Короткевичу ли не узнать его!
Холодно и внимательно взглянув на свидетеля, Гришаев заявляет, что этого человека никогда не видел раньше. Забыл! Неужели мог забыть? Короткевич, волнуясь, подсказывает факты, годы, называет места… Гришаев стоит на своем: не знаю…
Но ведь есть еще и третья пара глаз, внимательно следящая за Гришаевым: и не только за ним, но и за свидетелем Короткевичем. И Короткевич вспыхивает: ведь так могут не поверить и ему! Он роется в своей памяти, ищет… Ага, нашел! Пустяк, но невероятно, чтобы Гришаев его не запомнил!
– Вспомни, Федя, как мы варили потом уху из рыбы, наловленной этими женщинами, – говорит Короткевич, в волнении сам не замечая, насколько циничен этот факт. – Вспомни: было много комаров, и ты еще смеялся (!), что мы едим уху с комарами!
Третий человек в комнате – Алексей Михайлович. Он ведет очную ставку. Ему предоставлено законом право и обязанность «оценить доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела, в их совокупности, руководствуясь законом и социалистическим правосознанием».
Трудно честному человеку быть объективным, выслушав рассказ о чудовищном убийстве ни в чем не повинных беззащитных женщин! Но именно потому, что человек честен, что он руководствуется социалистическим правосознанием, он обязан быть объективным. И в то же время – действовать по своему внутреннему убеждению.
«Комары, – отмечает он про себя. – Стало быть, это конец мая, начало июня. Комары – деталь, которую не придумаешь вот так, с ходу. Озеро, рыба, голодные женщины, собравшиеся артелью, старая сеть – все похоже на правду. И Гришаев мог смеяться потом, чтобы поднять дух своих подчиненных, показать им, что убийство – дело обычное, привыкайте, мол, – это тоже похоже на правду… Смеяться мог. Но смеялся ли? И вообще, участвовал ли в этом эпизоде? Похоже на правду – это еще не правда. В памяти Короткевича могло произойти смещение: событие имело место, а Гришаев в нем не участвовал. Женщин убивали, а уху варили в другом месте, у другого озера. Нет, не может быть – и озеро было, и Гришаев стрелял в женщин, и уху потом варили!»
Это – внутреннее убеждение. На него могут повлиять и такие факты, которые ни в какой протокол не укладываются. Это и характер Короткевича, и то, как вздрагивает у него голос, как блестят глаза, как отражается во всем поведении его, Короткевича, внутреннее убеждение в своей правоте. Но и тот, второй-он тоже не закрыт от глаз следователя ширмой: и взгляд у него холодный и злобный. Впрочем, такой же взгляд был бы у него, если бы ему предъявляли необоснованное обвинение… А с другой стороны, – Алексей Михайлович уже знает о нем из других показаний: «Он был жесток и беспощаден», «он имел вид бандита, и окружающие его недолюбливали» (это еще в разведшколе, где и так собрались люди отнюдь не первого сорта!). Свои же товарищи его боялись и при случае хотели убить за жестокость даже к своим. «Убийство доставляло ему какое-то особое удовлетворение». «Он убивал с удовольствием». Вот что рассказали о нем самые разные люди… Убивал он много: при конвоировании застрелил двух женщин и приказал добить раненого старика; с похвальбой рассказывал своим, как «геройствовал» на льду реки Полисти. Не без его участия убили в, лесу восьмидесятилетнюю старуху только за то, что она не в силах была идти. А девушка Таня?
Не довольно ли этого всего, чтобы сказать человеку: виновен! Нет. Закон требует всестороннего и полного рассмотрения всех обстоятельств… Одно внутреннее убеждение недостаточно для оценки обстоятельств. И вот начинается: очная ставка Короткевича с Гришаевым, Гришаева с Ивановым, Петрова с Короткевичем, Сидорова с Ивановым…
Одни свидетели говорят обдуманно, по принципу «семь раз отмерь, один – отрежь»; другие – бухнут, потом спохватываются. Люди волнуются: ведь приходится ворошить страшное прошлое… Идут часы и дни, и вот уже опять подходит срок, установленный законом для сдедствия, и надо испрашивать у прокурора продления срока. А Гришаев знает прекрасно: время работает на обвиняемого. Он сбивает быстрыми вопросами свидетелей с толку, заявляет ходатайства, крутит, вертит, тянет…
В любой работе, где идет поиск истины, случается почти трагическое несоответствие энергии, затраченной на поиск, – достигнутым результатам; истина сама в руки не дается.
Пятнадцать раз выезжали следственные бригады, разыскивая место убийства женщин у озера. Были составлены планы местности; опрошены жители трех поселков и семнадцати деревень. Восемьдесят пять человек давали показания. Короткевич извелся. Озера, речки, воронки – сколько их на псковской земле! Если бы каратели в те годы не бродили с места на место, если, бы сам Короткевич в дальнейшем продолжал бы жить в той местности, – вряд ли мог бы он забыть, где находится та воронка, в которую по приказанию Гришаева он сталкивал трупы женщин. Но Короткевич семнадцать лет жил вдали от Псковщины, он вообще не был сельским жителем; да и места за эти годы изменили свой вид. И Короткевич не мог уверенно указать именно то из бесчисленных озер, которое искали, не нашел ту воронку, где были трупы убитых женщин.
Объективно истина не была доказана. Это была частная «победа» Гришаева в борьбе со следователем. Впрочем, «победа» временная…
11
«Нигде, ни одна моя разведка не нанесла поражения партизанам. Я давал им возможность уйти без боя, не занимая их пути отхода, руководствуясь принципом: «Не трогай меня, а я не трону тебя».
(Из собственноручных показаний Гришаева)
В конце лета 1943 года к начальнику штаба карательного батальона, изменнику Родины Александру Ивановичу Риссу, привели задержанного вблизи сторожевых постов человека. Он назвался Ивановым и заявил, что перешел к немцам по своей воле, из «идейных» соображений. Он был молод, тщедушен, обут в какие-то опорки. Рассказал, что после того как немецкие части, вооруженные танками, при поддержке авиации обрушились на Партизанский край, в этом выжженном, опустошенном краю бродят только отдельные, разрозненные группы партизан, они плохо вооружены, лишены баз снабжения и голодают, но не прекращают своих действий против немцев.
Голос перебежчика долго и одиноко звучал в комнате. Рисе слушал, изредка покашливая, прижимая к губам платок. Все, что рассказывал перебежчик, Рисе знал и сам. Наконец Рисе сказал:
– Пока было хорошо у партизан, ты к нам не бегал, а? Говоришь – идейно предан Великой Германии? Врешь все. Служить надо. Хорошо служить – водка, еда, хлеб. Плохо – расстрел.
Рисе послал перебежчика в группу Гришаева. Гришаев выспросил у него, где находятся партизанские группы, наметил по карте маршрут. Своим подчиненным велел переодеться, кое-кому приказал заменить хорошие сапоги на рваные, выкинул из карманов немецкие сигареты – вместо них запаслись махоркой, а для закрутки – советскими газетами. Даже спички взяли в советской упаковке.
Перебежчик всячески заискивал перед Гришаевым, клялся и божился, что наведет на след партизан и тогда их можно будет ликвидировать. «Кого ликвидируем– видно будет», – загадочно бросил ему Гришаев.
Несколько суток пробиралась группа лесами и болотами, пока не вышла к топким берегам озера Полисто.
Дня за три перед этим крестьянин из деревни Шипово старик Мохов вышел в поле: местные жители голодали и, не дожидаясь, пока поспеет рожь, обрывали колосья, растирали и ели полуспелое зерно. На дороге Мохов встретил вооруженных людей, семь человек; сначала испугался, потом обрадовался – узнал их командира, бывшего инструктора Ашевского райкома партии, а теперь партизанского комиссара Комарова. «Жив, Отец?» – приветствовал Комаров. «Я-то жив, – ответил старик. – А вот вы как существуете? Слышно, гоняют-ся за вами?» – «Волков бояться – в лес не ходить», – ответил Комаров. Партизаны, отдохнув немного, тронулись в путь. Сказали, что идут на выполнение задания. Мохов пожелал им счастья и долго еще потом стоял и смотрел им вслед.
Полистские мхи тянутся на много километров. Вдоль озера прорыта дренажная канава; метрах в четырехстах от деревни Шипово через канаву устроен мостик. В те годы настил на мостике был частично разрушен, а толстые крепкие сваи сохранились и до наших дней. Неподалеку от мостика стояла черная, покосившаяся банька.
По направлению к этой баньке, по узкой тропинке вдоль канавы, вышла из леса группа Гришаева: двенадцать вооруженных людей в рваной, затасканной одежде шли цепочкой, друг за другом. Под ногами чавкало болото. Слева, за канавой, на узком островке твердой почвы торчали грядой серые валуны; справа в полукилометре поблескивало под августовским солнцем озеро. А впереди тропинка, минуя мостик, уходила в редкий лесок. И на эту тропинку, из того редкого леска, навстречу Гришаеву вышли люди – тоже цепочкой, семь человек. Наверное, заметив незнакомых людей, они остановились и затем повернули обратно. Гришаев быстро толкнул в спину идущего впереди Иванова:
– Беги, кричи им, останови! Это же партизаны!
Перебежчик оробел, но Гришаев пригрозил ему пистолетом. Комаров узнал Иванова, спросил, где тот пропадал последние дни. Иванов сказал, что во время последней операции отстал от своих, а теперь вот вошел в другую партизанскую группу и предложил Комарову познакомиться с новым командиром. Не дожидаясь, что ответит на это Комаров, крикнул:
– Давайте сюда, это свои!
Трудно, теперь сказать, были у Комарова подозрения в том, настоящие ли перед ним партизаны; но у Комарова вместе с ним было всего семь человек, у Гришаева же – двенадцать. Уходить по открытой местности было рискованно; встречаться – тоже; но в группе Гришаева был Иванов, которого партизаны знали как своего товарища…
Незнакомый Комарову командир встретил приветливо, угостил махоркой и Комарова, и его друзей.
Двадцатилетний комсомолец из деревни Ратча по фамилии Лененок с интересом присматривался к незнакомым людям. Партизан Федор Сушин, расставив ноги в промокших сапогах, курил молча и, как видно, был рад отдохнуть. Черноглазый с крупным носом парень посматривал на гришаевцев подозрительно. Гришаев крикнул ему: «Эй, генацвале, а ты как сюда попал?» Грузин ответил что-то по-своему. Комаров пояснил: «Наш Лото говорит – все дороги ведут в Берлин. Однако, я смотрю, у вас еще и махорочка водится, и сами вы незаметно, чтобы оголодали. Подбросили вам чего?» – «Э, какое там! – Гришаев сплюнул. – Так же, как и вы, на подножном корму. Далеко ли направляетесь теперь?» Комаров ответил осторожно: дескать, идем с задания, а там видно будет. И, в свою очередь, спросил, чем занята группа Гришаева. Тот, не ответив, оглянулся и, как будто только теперь заметив, что его люди, окружив кольцом, прислушиваются к разговору, сердито крикнул:
– Чего уши поразвесили? Столпились, а вдруг подойдут немцы? За лесом следите, черти!
Каратели разошлись в разные стороны. С Гришаевым остался перебежчик Иванов и еще два человека. Комаров поднялся:
– Пора. Бывайте здоровы. Будем надеяться, не напрасно здесь мучаемся. Фашистам все же «даем прикурить». Да и дела у них стали невеселые теперь, слыхал? Ну, мы пошли.
Гришаев встал, протянул Комарову руку:
– Счастливо. В штабе встретимся.
Пока партизаны подходили к мостику, он стоял на берегу канавы, махал им рукой и улыбался. Как только все семь, осторожно ступая по шатким перекладинам, оказались на мостике, Гришаев дал очередь из автомата по ногам идущих… Перебежчик и двое карателей вместе с Гришаевым стреляли безостановочно в спины партизан, с расстояния шести-семи метров, почти в упор; пули попадали в сваи моста, вспарывали воду. С криком падали с мостика партизаны. Раненый Комаров спрыгнул в воду сам и, стоя в ней по пояс, прицелился в Гришаева, выстрелил – но тут же сам рухнул, расплескивая брызги. «Сволочь, сволочь! – кричал грузин Лото, цепляясь за кусты. – Все равно убьют тебя, все равно победа будет наша!» Он полз, сгорбившись, на берег, мокрый, страшный, хватая ветки смуглыми крепкими руками. Гришаев слегка наклонился, и пули прошили лицо грузинского парня, черноволосая голова откинулась назад, из горла хлынула кровь. Отчаянно бился застрявший в балках мостика Лененок; розовая пена выступила на губах, высокий юношеский голос далеко разнесся над болотом. Через несколько секунд затих и Лененок, привалившись щекой к серой доске настила; он еще висел над водой, в которую погружались тела его товарищей.
Стало очень тихо. Подбежавшие от бани каратели стояли молча. Тяжело дышал предатель Иванов, отводя глаза от канавы; по воде плыли сбитые пулями щепки от свай и оборванные узкие листья вербы, за которую пытался ухватиться грузин Лото.
Гришаев вытер потное лицо, приказал Кольке-ско-барю лезть в воду, снять оружие с убитых. Колька сел на траву, стал стягивать с себя сапоги. Резко скрипнули доски, всплеснула вода: рухнуло в нее и тело Лененка. Гришаев закурил, огляделся по сторонам: все так же пустынно было вокруг, все так же поблескивало невдалеке озеро и из ржавой болотной травы торчали вековые камни, серые валуны.
В тот день Гришаев еще не знал, что из-за этих серах валунов наблюдал за происходящим перепуганный выстрелами и спрятавшийся там колхозник Семенов; что крестьянин Мохов, видевший за три дня перед тем Комарова, будет потом со своими соседями из деревни Шипово доставать трупы убитых партизан из канавы и хоронить их; что в тот момент, когда Гришаев открыл огонь из своего автомата, две не замеченные им на берегу озера женщины кинулись в лес и оттуда видели все, что произошло у мостика в первые дни августа.1943 года…
– Вы – утверждаете, что старались нигде не ввязываться в бой с партизанами и не наносили им вреда. Как вы объясните предательское убийство группы комиссара Комарова у мостика в августе 1943 года?
Объяснить трудно. Следователь раскопал все, со всеми подробностями…
Гришаев напряженно думает. И вдруг заявляет: этот эпизод он не собирается объяснять никак. По той простой причине, что сам он в то время не мог быть там: после ранения его направили в госпиталь. В августе он уже был ранен. Свидетели? Что же, они, возможно, всё видели. Но кто из них может утверждать, что карателей вел к мостику именно он, Гришаев? Он же был в то время в госпитале! И все, что произошло у мостика, было без него. Что касается показаний одного-единственного («заметьте, гражданин следователь, – единственного!») свидетеля, который сам был в чцсле карателей, сам с расстояния не более двадцати метров видел и слышал, как были расстреляны партизаны, – что ж, этот свидетель, возможно, говорит правду. Кроме одного: участия Гришаева в этом эпизоде. Потому что ему, этому свидетелю, как бывшему карателю, выгодно оговорить Гришаева: может быть, гражданин следователь что-либо и обещал этому свидетелю?
Алексей Михайлович с трудом сдерживает себя. Он отлично понимает, что обвиняемый пытается своими грязными намеками довести его, следователя, до той крайней степени раздражения, когда человек теряет власть над собой и своими поступками. Вот тогда Гришаев заявит протест прокурору, скажет, что «следствие ведется недозволенными методами», намекнет, что следователь, возможно, из тех, кто покрыл себя позором во времена бесчинств Берии, и, стало быть, такому следователю не место в системе государственной безопасности… До сих пор Гришаев уже немало потрудился, чтобы опорочить следствие, но пока что желаемого результата не достиг. Надеется, что может быть удастся на этот раз? Напрасно надеется…
Алексей Михайлович говорит спокойно:
– Хорошо. Оставим эпизод у мостика. Расскажите, Гришаев, когда и при каких обстоятельствах вы были ранены.
Гришаев рассказывает. Во всем, вплоть до мелочей, его показания сходятся с показаниями свидетелей. Во всем, кроме одного: времени ранения. Потому что, если время август или конец июля, стало быть, не он руководил расстрелом партизан у мостика. Нет, даже не расстрелом и не честным боем или самообороной, а предательским убийством, замышленным и обдуманным заранее.
12
«Как веревочка ни вьется…»
Зимой 1960 года на псковскую землю пал глубокий снег. В начале марта из деревни Скрипиловки вышли на дорогу несколько человек в полушубках и валенках. Задувала метель, путники поглубже нахлобучили шапки, подтянули ремни и встали на лыжи. Казалось бы, зачем в такую погоду отправляться в лес? Охотники? Так нет с ними ни ружей, ни собак. Никакой поклажи, идут налегке, но и не похоже, чтобы шли на прогулку, да и кому надо выбирать для прогулки такие места, где, как говорится, и черти ноги ломают?
Сначала шли открытым полем, потом – густым кустарником и снова полем, занесенным глубоким снегом; пересекли поляну с торчащими там и сям темными мохнатыми кустиками погребального дерева, можжевельника. Впереди размашистым шагом шел ладно сложенный, невысокий человек; временами останавливался, осматривался, поднимая красное от ветра скуластое лицо, сдвинув шапку-кубанку со лба. И, меняя направление, прокладывал новую лыжню, ныряя в ямы и канавы, ломая хрусткий кустарник. Так уверенно ходит по полям и лесам привычный к ним с детства человек.
Об этом и думал идущий за ним Алексей Михайлович. Думал о том, что хотя этот человек уже много лет работает в шахте, считается неплохим производственником, промышленным рабочим, а деревенские навыки как были, так и остались при нем. По таким же кустарникам и болотам пастушонком пас он скотину; у матери было еще полно ребят, надо было самому добывать кусок хлеба. Во время войны отстал парнишка от семьи, забрали его немцы, заставили подвозить на подводе снаряды. Кормили неплохо, но тянуло мальчишку к своим, русским. Задумал бежать, вместе с лошадью. И как же горько плакал, когда лошадь убило снарядом!
Обер-лейтенант Миллер, командир второй роты карательного батальона, забрал мальчишку к себе ординарцем. К Миллеру захаживал побеседовать командир особой группы карателей – Гришаев. О нем в батальоне ходили разные дразнящие воображение мальчишки слухи: будто бы выполняет группа Гришаева самые опасные задания; отчаянной смелости ребята у Гришаева и общему распорядку в батальоне не подчиняются: пьют и гуляют средь бела дня, а потом исчезают на несколько суток. От Гришаева и обер-лейтенанта парнишка слышал, что «скоро коммунистам придет конец», а те из русских, кто теперь верно служит немцам, получат потом большие наделы земли. Парнишка спросил: «И я получу?» – немец засмеялся, а Гришаев сказал, что, конечно, получит.
Гришаев выпросил у Миллера смышленого, шустрого паренька, забрал в свою группу и стал воспитывать из него «разведчика». Когда паренек сам воочию увидел, чем занимается таинственная группа, страх и сомнения охватили его. И тогда Гришаев сказал ему: «Жизнь надо брать, Кирюха. Будем мы с тобой стоять очень высоко или лежать очень глубоко». Кирюха понемногу стал отведывать того, что называл Гришаев «стоять высоко»: от бесконтрольной власти над жизнью людей, от того, что «все дозволено сильным и смелым», от крови людской и самогонки – закружилась мальчишечья голова…
– По-моему, это здесь, – сказал идущий впереди на лыжах. – Налево надо, вон к тем соснам, что стоят на краю болота. – Он расстегнул полушубок, от груди его веяло теплом, на разгоряченном лице таяли снежинки.
– Чудак, Кирилл, – сказал Алексей Михайлович. – Разве можно помнить, что это – те самые сосны? За эти годы тут молодой лес вырос.
– А те сосны – старые, – упрямо повторил Кирилл. Он раздвинул кусты, перемахнул через канаву, еле заметную под валом снега, выехал на узкую заросшую просеку. – Вот она, старая дорога! Мы вышли на нее справа, а слева должна быть поляна, за нею – болото.
Слева действительно оказалась поляна, поросшая молодым березняком, ольхами и осиной. За нею высились старые сосны. Кое-где в чаще березняка были видны и поваленные стволы старых берез, вывороченные корневища, старые высокие почерневшие пни деревьев, снесенных артиллерийским огнем. Стояли они, присыпанные сверху снегом, как седые молчаливые свидетели прошлого…
– Нас было пять человек, все в немецкой форме, – рассказывал Кирилл. – Партизан мы здесь встретить не ожидали, но Гришаева что-то потянуло свернуть на эту поляну. Шли мы тихо, осторожно по палой листве, лес уже пожелтел, было начало сентября. Стояли тут еще две старые ели… На поляне мы обнаружили замаскированные шалаши. В первом было пусто. Никого не было и во втором. Я отправился осматривать еще один шалаш. Шагов двадцать отошел, слышу – позади стрельба, крик… Я – обратно, бегом. Вижу: Гришаев припал на одно колено, согнулся, рукой схватился за ногу, побледнел и ругается… А под густой елью в шалаше– трое убитых партизан. Наверное, они до нашего прихода отдыхали: двое лежали головой к ели, третий– ногами, укрывшись одной плащ-палаткой. Увидя человека в немецкой форме, один из них дал очередь из автомата и ранил Гришаева. Но наши тут же их к земле и-пришили, всех троих. Двое даже и встать не успели, так сонных и убили. Гришаева мы перевязали полотенцем…
– Откуда полотенце взяли? – перебил Алексей Михайлович.
– А у партизан. Мы и автоматы сняли с них. Гришаева доставили в расположение третьей роты, в деревню. Там его перевязали как следует и отправили на подводе в батальон, а затем уже в госпиталь, в Порхов.
Алексей Михайлович со своими спутниками свернул на поляну. Остановились покурить, пока Кирилл ходил по поляне, нагибался, присматривался. Опять посыпался с неба мелкий снег; даль заволакивало снежным туманом. Алексей Михайлович нагнулся поднять уроненную перчатку и – присвистнул; на снегу был виден след – крупный зверь оставил вмятины такой величины, что в них свободно поместилась рука, только чуть-чуть подогнуть пальцы…
– Недавно прошли, – сказал понятой, бородатый пожилой колхозник. – Этой нечисти, волков, тут полно. По таким дебрям звери и хоронятся.
– Да, не из приятных была бы встреча, – заметил Алексей Михайлович, и только еще что-то хотел сказать, как все услышали голос Кирилла:
– Э-гей! Сюда идите, сюда…
Кирилл стоял возле густой раскидистой темной ели, утопившей могучие ветви в снегу. Протянув перед собой руки, побледневший, он сказал шепотом:
– Здесь. Здесь они лежали… Под этой елью.
Почти полутораметровый сугроб разрывали лыжами; палками долбили смерзшийся наст. Когда добрались до нижних ветвей, Алексей Михайлович крикнул:
– Стойте! – и встал на колени, разглядывая сучья.
Все сгрудились над ним, стало слышно, как посвистывает ветер в вершинах.
Нижние ветви старой ели были не поломаны, а обрублены; на них ясно был виден срез, теперь уже обросший вокруг валиком коры. Было несомненно: ветки не обломились сами собой от тяжести снега, нет, срез был сделан ножом или топором много лет назад. Кому-тό понадобилось здесь, в этих дебрях, обрубать эти нижние ветки… Еще ниже, под смерзшейся коркой из листьев и травы, в сопревшем нижнем слое, были обнаружены остатки почерневших палок, бывших стоек в шалаше и полуистлевший, заплесневелый обрезок толстой кожи. Осторожно, как величайшую драгоценность, Алексей Михайлович взял в руки этот обрезок кожи, рассмотрел, – это был задник русского сапога.
– А вы говорите – не помню! – сказал Кирилл. – Да еще семнадцать лет пройдет, я не забуду!
Алексей Михайлович промолчал. Подумал, что не ошибся тогда Гришаев, выпрашивая у немца Миллера смышленого парнишку Кирюху: отличная зрительная память, прекрасная ориентировка на местности у этого человека! Только в одном ошибся Гришаев: не пошел его «воспитанник» Кирюха по тому пути, на который толкал его Гришаев. Стал другим человеком Кирилл.
Он с азартом разгребал снег, отыскивал еще и еще остатки шалашей партизан. Но Алексей Михайлович сказал, что эти доказательства могут быть истолкованы по-разному.
– Чего ж тут толковать, – рассудительно заметид понятой. – Ель – дерево, кое растет медленно, стало быть, срезы эти сделаны как раз в те годы. А сапог? Кто сымет с себя сапоги по доброй воле да закинет их под елку? Третье – шалаши. Стоят на самых тех местах, где свидетель указывает.
Алексей Михайлович слушал этого бывалого умного мужика, а сам думал, сколько еще лазеек может найти Гришаев, чтобы отрицать даже эти вещественные доказательства. Но, видно, на этот раз следователю повезло. Кирилл углубился в лес и вдруг закричал:
– Смотрите, что здесь еще есть!
К нему подошли, и враз все замолчали. Перед ними был крест. Грубо сделанный из двух толстых досок, наколоченных на ствол ольхи. Поперечная доска уже частично выкрошилась желтой трухой; на выщербленных местах пристыл белый чистый снег. Под крестом в глубоком сугробе можно было нащупать и неровный осевший холмик. Алексей Михайлович достал фотоаппарат. Только к вечеру, залепленные снегом, почти выбившись из сил, вернулись участники следственной группы в деревню.
В избу набралось много народу. Алексей Михайлович спрашивал:
– Неужели никто не знает, почему в такой глуши поставлен крест? Ведь видел же кто-нибудь его, ходите вы в лес по грибы, по ягоды?
Молодые парни и девушки переглядывались: кто его знает, давно поставлен, надо у кого постарше спросить. Девочка-подросток сказала:
– А под этим крестом никого и нету. Мне бабуся говорила.
– А ну, зови сюда бабусю!
Бабуся оказалась женщиной не такой уж и старой; в сорок шестом году она возвратилась с односельчанами на старое пепелище. Случайно в глухом лесу наткнулись женщины на след страшного дела: под старой елью лежали полуистлевшие трупы трех мужчин – двое головами к ели, третий – к ее стволу ногами. Одежда и обувь сопрели от дождей, но женщины все же определили: свои, русские это были люди. Женщины выкопали в лесу под ольхой могилу, похоронили останки, срубили и поставили крест, уж какой сумели… А позже, когда в районном центре на видном месте был сооружен памятник партизанам, снесли туда и останки этих трех мужчин. Крест же, как был прибит на ольхе, так и остался.
Поздно вечером пришла из соседней деревни еще одна женщина. Заливаясь слезами, рассказала, что не-давно вернулась в родные места, а в сорок третьем году осенью жила еще здесь, в деревне, где стояла третья рота карательного батальона. Однажды принесли из лесу проклятые изменники своего фельдфебеля, раненого, а нога у него была перевязана полотенцем, и то полотенце, деревенское, тканое, признала женщина, потому что давала его своему мужу, партизану, когда последний раз его видела. Только не сказали каратели, где они взяли это полотенце… Сколько лет после войны она все еще ждала своего мужа!.. И не знала до сих пор, что погиб он недалеко от дома и лежал у подножия старой ели в глухом лесу…
– А карателя раненого принесли в сентябре, – рассказывала женщина. – Это я точно помню, потому что уже и хлеб убран был, это вы, товарищ следователь, можете и у других женщин спросить: сентябрь, а не август, вот когда это было…







