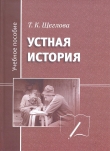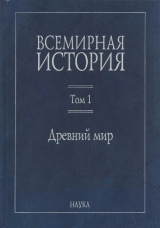
Текст книги "Всемирная история в 6 томах. Том 1. Древний мир"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 28 страниц]
Рамсес I (1295–1294 гг. до н. э.), военачальник родом из Восточной Дельты, при прежнем царе Хоремхебе стал основателем новой XIX династии, которую вместе с XX именуют Рамессидами. На них легла задача восстановления влияния Египта в «постамарнском» мире, который претерпел сильные изменения. Огромное наследство Тутмоса III в Азии было почти утрачено. Поглощенный реформой Эхнатон отошел от активной внешней политики, мало реагировал на письма азиатских вассальных царей о растущей угрозе хеттов. Последние, между тем, разгромили Арцаву, разделили с Ассирией Митанни и претендовали на Сирию-Палестину. Столкновние с хеттами становилось неизбежным.
Азиатский поход Сети I (1294–1279 гг. до н. э.) был успешной пробой сил, но основная борьба легла на Рамсеса II (1279–1213 гг. до н. э.). На пятом году его правления противостояние с хеттами достигло кульминации в битве при Кадеше на Оронте (Сирия). Во главе хеттов стоял Муваталлис II, союзниками которого выступали почти два десятка анатолийских и сирийских князей. В битве участвовали самые большие армии, которые видел древний Ближний Восток: около 20 тыс. египтян (четыре соединения по 5 тыс. человек) с 2 тыс. колесниц против 37 тыс. (?) хеттов с союзниками при 2500 колесницах. Известна египетская версия сражения, представленного блестящей победой египтян, что, скорее всего, не соответствует истине. Кадеш не был взят, сам Рамсес И, проявивший исключительную храбрость, едва не погиб. Противостояние, видимо, закончилось своего рода перемирием. Тем не менее размежевание сил прошло по Оронту, иначе говоря, египтяне уступили часть завоеваний Тутмоса III хеттам.
В течение следующих полутора десятков лет Рамсес II продолжал воевать в Сирии, захватив Кадеш, Дапур и другие важные города. И лишь на 21-м году его правления по инициативе следующего царя хеттов Хаттусилиса III стороны заключили «превосходный договор мира и братства, дающий мир навечно». Договор, скрепленный браком Рамсеса II и хеттской царевны, оставался в силе при его преемнике Мернептахе: продолжая считать хеттов своми союзниками, тот снабжал их зерном во время голода.
Битва при Кадеше – первое в мировой истории сражение, в деталях описанное в прозе и поэзии и изображенное на стенах храмов в Абидосе, Карнаке, Луксоре, заупокойном храме Рамсеса II Рамессеуме, Абу Симбеле и др. «Кадетский договор» – древнейший дошедший до нас полный текст мирного договора, известного в версиях обеих сторон. Он представлен в двух вариантах. Иероглифическая копия сохранилась на стенах двух храмов (Карнака и Рамессеума). Одна из копий на глиняной табличке, выполненная вавилонской клинописью, хранится в Гос. Эрмитаже.
Рамсес II, правивший почти весь XIII век, преобразил Египет своей строительной деятельностью. В Восточной Дельте была воздвигнута столица Пер-Рамсес («Дом Рамсеса», совр. Кантир), город-порт на берегу судоходного тогда Пелусийского русла. Он стал центром торговли и военной базой. Однако перенос столицы далее на север, ослабив контроль центральной власти над страной, таил угрозу децентрализации, что и подтвердила дальнейшая история. Рамсес построил также множество храмов в Египте (самые известные – заупокойный храм Рамессеум, гипостильный зал в Карнаке с его «лесом» из 134 колонн в форме папируса) и в Нубии, для демонстрации мощи южным соседям. Среди них два прославленных пещерных храма в Абу Симбеле (за II порогом) с колоссальными статуями Рамсеса II и его супруги, царицы Нефертари, как проявлении богини Хатхор. Впрочем, неоднократно замечалось, что храмы Рамсеса II и его бесчисленные гигантские статуи впечатляют в большей степени числом и размерами, чем совершенством форм.

Пригон пленных. Фрагмент рельефов из гробницы главнокомандующего Хоремхеба (будущего фараона). Саккара. Новое царство. XVIII династия. Ок. 1325 г. до н. э. Лейден, Музей Востока
Рамсес II умер на 67-м году царствования, длительностью которого уступал лишь Пепи И. Современник для нескольких поколений египтян, он при жизни и после смерти был легендой. От многочисленных жен фараон-долгожитель имел огромное потомство (около сотни сыновей и дочерей), пережив 12 царевичей-наследников. Его преемником стал тринадцатый сын, уже немолодой Мернептах (1213–1203 гг. до н. э.). При нем Египту пришлось противостоять двойной угрозе извне. С моря и суши на Дельту хлынула волна так называемых «народов моря» – конгломерата средиземноморских племен из Малой Азии, Эгеиды и других регионов Средиземноморья. Их миграция, возможно, отчасти спровоцировала нашествие в Дельту западных соседей египтян – ливийцев, обитавших в Северной Африке (в Киренаике). Волну нашествия героически отбило войско, возглавляемое фараоном: 6 тыс. захватчиков было убито, остальные пленены.
После Мернептаха Египет впал в полосу смут: одновременно с его сыном Сети II (1200–1194 гг. до н. э.) правил на юге некто Аменмессу, затем малолетний сын Сети II Саптах (1194–1188 гг. до н. э.). После смерти его регентша-мачеха царица Таусрет заняла трон (1188–1186 гг. до н. э.), став третьей (после Себекнеферу и Хатшепсут) и последней фараоном-царицей. Подобно Хатшепсут, она, как и полагается фараону, была погребена в Долине царей. Исключительное положение при ней занял вельможа Баи, сириец, носивший титул «визирь всей земли». Свет на события проливает текст так называемого «Большого папируса Харриса»: Египет и его жители, сообщает он, были «брошены на произвол судьбы», «не было у них начальников много лет», страна оказалась в руках «вельмож и правителей городов». Некий сириец «Ирсу» (букв, «сделавший себя», самозванец, намек на Баи?), захватив власть, стал «начальником, заставив всю страну приносить ему дань» до тех пор, пока бунтовщиков не истребил Сетнахт (1186–1184 гг. до н. э.), который был «избран богами» и стал основателем новой XX династии.
Последние полтора века Нового царства – время правления Рамессидов XX династии (1186–1069 гг. до н. э.). Из них сильнейшим был Рамсес III (сын Сетнахта), занимавший трон более трех десятков лет (1184–1153 гг. до н. э.). На его царствование пришлась вторая, более страшная, чем 33 года назад, двойная волна нашествия чужеземцев. В 5-м и 11-м годах правления ему пришлось обороняться от массовой миграции (включавшей женщин, детей, скот) ливийцев, которые, пользуясь внутренними проблемами Египта, проникали и оседали в Западной Дельте. Предположительно, миграция (как и в первый раз) была вызвана затяжным голодом. Но на грань существования Египет поставило второе нашествие «народов моря»: состав их частично изменился, и за их спиной уже лежали разгромленные держава хеттов, Угарит, Алалах, опустошенные побережья Малой Азии и Кипра. На восьмом году правления царя в серии кровопролитных морских и сухопутных сражений нашествие, изменившее облик всего Восточного Средиземноморья, в Египте, было отбито. Сцены сражения запечатлены на стенах одного из самых впечатляющих культовых сооружений Египта – заупокойного храма Рамсеса III в Мединет Абу (Западные Фивы). В сопровождающем тексте перечислены названия племен, которые позволяют отчасти понять их этническую принадлежность: пелесет (филистимляне), денен (данайцы?), гиарданы (жители Сардинии?), лукка (ликийцы Анатолии?), гиекелеш (сикулы?) и др.

Молодой фараон Рамсес II на троне. Базальт. Новое царство. XIX династия. XIII в. до н. э. Турин, Египетский музей
Последующие восемь царей XX династии, носившие то же имя и в большинстве своем бывшие потомками Рамсеса III, мало на него походили. Под их управлением из рук центральной власти ускользал контроль над чужеземными территориями и «собственным» Верхним Египтом.
Обострились конфликты между фиванским жречеством и центральной властью. Храмы владели огромным имуществом, к примеру, почти третью пахотной земли в Египте, большая часть которых принадлежала фиванскому храму Амона. Один только Рамсес III передал ему в течение своего 30-летнего правления 107 тыс. «голов» людей, 490 тыс. скота, 88 селений и др. Это нарушало баланс сил между храмами и государством, жречеством и фараоном, в конечном счете привело к экономическому и политическому кризису.
Уже в правление Рамсеса III произошла древнейшая в мире «забастовка», которую организовали некропольские работники из поселка Дер эль-Медина (Западные Фивы), не получавшие плату за работу. Прокатились волны грабежей некрополей, известны сообщения о голоде и бродячих «шайках» ливийцев. Соперничество между царским наместником в Нубии Панехси и верховным фиванским жрецом Аменхотепом переросло в открытую войну.
Последний царь Нового царства Рамсес XI (1099–1066 гг. до н. э.) занимал трон три десятка лет, однако на 19-м году его правления в Фивах был совершен переворот: было провозглашено начало «новой эры» (букв, др. – егип. «повторение рождения»), т. е. переход к новому порядку. Херихор, верховный жрец Амона, сконцентрировав в своих руках все высшие государственные должности («визиря», главнокомандующего, наместника Куша) стал фактическим правителем Фив и Юга. Он сам, а позднее и отдельные из его преемников «дублировали» царскую власть, на храмовых рельефах изображали себя с царскими регалиями и царской титулатурой. Суть перемен состояла в качественно новом понимании верховной власти: субъектом ее, истинным фараоном, утверждался Амон, а истолкователем его воли, выражаемой посредством оракула, становился (вместо фараона) верховный жрец Амона. Отношение «бог – царь» изменило содержание: царь потерял центральное значение в жизни подданных, божество, напротив, вобрало в себя все традициональные аспекты и функции царственности. При Рамсесе XI было установлено деление власти на божью и царскую, а также их географическую «дихотомию» (Дельта и Фиваида), которая определила характер Египта на последующие три столетия.
* * *
Ярчайшую иллюстрацию упадка международного авторитета Египта в конце II тысячелетия до н. э. являет известнейшее литературное произведение – «Путешествие Унуамона в Библ», предположительно написанное «по мотивам» подлинного документа – отчета жреца Карнакского храма Амона. Оно красочно описывает злоключения героя, официально посланного в Финикию за кедром для ремонта священной барки Амона, который испытал множество унижений со стороны местных князьков, еще недавно трепетавших перед фараонами и угождавших их посланцам. «Путешествие» также наглядно демонстрирует внутреннее положение распадающегося Египта: в Фивах власть принадлежит Херихору, в Танисе (крупном городе в Дельте, через который лежал путь героя) – некоему могущественному «теневому» Несубанебджеду (впоследствии фараону). Власть же самого Рамсеса XI, правившего в Мемфисе и теоретически бывшего единственным легитимным правителем, оказывается практически «невидимой».
Смерть Рамсеса XI (1069 г. до н. э.), последнего Рамессида, обозначила конец не только династии и собственно Нового царства, но и существования Египта как централизованного государства древних фараонов. Начиналась эпоха Позднего Египта.
ИНДИЯ: РАННЯЯ ДРЕВНОСТЬСовременная Южная Азия – необычайно пестрый регион со всех точек зрения: с культурной, конфессиональной, этнолингвистической. Истоки такого редкостного разнообразия следует искать на заре индийской истории. Одна из причин кроется уже в ландшафтных и климатических условиях субконтинента. Территория Южной Азии очень велика и включает в себя совершенно разные природно-климатические зоны. Разнообразие природных условий обусловило пестроту экономических, политических и культурных укладов, существовавших у народов Индии в древности и сохраняющихся вплоть до наших дней.
Области Северной, Центральной Индии и Юга долгое время развивались разными темпами и независимо друг от друга. Историческая эпоха ранее всего начинается для севера. На юге государственность оформляется лишь к концу I тысячелетия до н. э. Как относительно единый культурный ареал Индия существует лишь начиная с середины I тысячелетия н. э.
Плодородные почвы долин крупных рек Индии способствовали быстрому развитию земледелия. Но в то время как в ряде областей уже существовали крупные земледельческие культуры и даже зарождалась государственность, огромные территории по соседству были населены полудикими племенами. Племена эти сохраняли свои традиции, даже будучи номинальными подданными правителей ранних государств.
Географическое положение Южной Азии сыграло важную роль в ее истории. Ландшафтно-климатические условия региона не требовали создания крупной ирригационной сети, как в Египте или Месопотамии. В большинстве районов Индии оросительные сооружения представляли собою небольшие пруды и каналы, возводившиеся силами деревенской общины или даже отдельной семьи. Для их строительства не требовалась координация усилий большого количества людей под контролем центральной власти. Возможно, одним из следствий этого и явилось отсутствие в эпоху индийской древности крупных относительно единых государств, подобных тем, что сложились в Междуречье или Египте.
В ранние периоды истории связь Индии с остальным миром осуществлялась через северо-западные области. С севера и северо-востока территории Индийского субконтинента, отделенные Гималайскими хребтами, были недоступны жителям стран «классического Востока». Контакты же по морю отличались редкостью и потому не играли решающей роли. Более или менее регулярные связи между Южной Азией и другими цивилизациями были установлены уже в эпоху поздней древности.
Специфика знаний об истории любого региона определяется характером имеющихся в нашем распоряжении источников. Некоторые периоды индийской истории известны нам лишь по памятникам материальной культуры, другие же доносят до нас изобилие памятников культовой литературы в сочетании с минимальными археологическими данными. В последнем случае историк-индолог оказывается в странном положении: будучи прекрасно осведомлен о духовном мире создателей этих памятников, он в слабой мере представляет визуальную сторону изучаемой культуры. Наконец, основной оказывается проблема интерпретации сложных для понимания текстов, которые в силу жанрового своеобразия крайне неинформативны для реконструкции последовательной цепи событий.

Индия в древности (до III в. до н. э.)
В Древней Индии не сложилось собственной исторической традиции. Условно историческими сочинениями можно назвать лишь буддийские хроники, появившиеся в начале н. э. на Ланке. Однако и они, главным образом, содержат легенды и предания, историческая достоверность которых неочевидна. Отсутствие исторической традиции создает ряд проблем для историков. Имеющиеся в нашем распоряжении памятники не предлагают точных дат или иных надежных хронологических ориентиров. Это не позволяет определить время конкретных явлений или событий индийской истории, а иногда и в принципе выявить эти события в тексте. Различия в политическом и культурном развитии разных областей региона сильно затрудняют установление единой четкой хронологии древней истории Южной Азии.
Наконец, древнеиндийская культура – это длительное время культура бесписьменная, культура устного слова. Собственная письменность, не считая коротких надписей древнейшего периода, появляется лишь во второй половине I тысячелетия до н. э. Этот факт не столько указывает на незрелость древнеиндийской традиции, сколько демонстрирует принципиально иной тип культуры, нежели в классических областях Древнего Востока и в западном мире.
Религиозная ситуация в Индии эпохи древности, как и сейчас, отличалась необыкновенным разнообразием. Но целый ряд черт, оформившихся к началу раннеисторической эпохи, в дальнейшем становится общим практически для всех вероучений Индии (представление о круге перерождений, доктрина кармы – воздаяния, идеи ахимсы – непричинения вреда живым существам и т. д.). На фоне общей религиозной пестроты это парадоксальным образом создавало эффект некоего идеологического единства.
Обыкновенно Индия ассоциируется с буддизмом, джайнизмом и индуизмом. Однако и первые две, как, скорее всего, и более древняя ведийская религия, никогда не являлись «религией большинства». Когда источники доносят до нас сведения о том, что правитель региона был ревностным буддистом, это вовсе не означает, что к буддистам принадлежали и все его подданные в селах или племенах. Буддизм и джайнизм, пророческие религии с единой для всех их адептов моралью, просто не могли получить широкого хождения в индийском обществе, разобщенном варно-кастовыми перегородками. Индуизм же вообще вряд ли может рассматриваться как единое религиозное учение, ибо состоит из бесчисленного количества сект и направлений, не имеет единой догматики, единого пантеона и единой жреческой организации. Во все периоды истории преимущественную роль в Индии играли народные верования. Возможность составить представления о них дают не столько древние тексты, сколько поздние этнографические материалы.
История современной Южной Азии – это история регионов, огромного количества больших и малых народов, имеющих разные расовые признаки, говорящих на разных языках и имеющих разные культурные традиции. Этнолингвистическая сторона древнеиндийской истории известна плохо. Источники почти не дают сведений о «неарийских народах» и о той пестроте среди индоевропейцев региона, которая, безусловно, имела место. Те же сведения, которыми историки владеют, отражают не столько реальное положение вещей, сколько негативное отношение носителей ведийской культуры к местным «варварам».
Древняя Южная Азия была населена племенами и народами, относящимися ко всем так называемым первичным расам. Многие из древних (и современных) народов Индии могут рассматриваться как результат смешения представителей разных рас в самых причудливых сочетаниях. С лингвистической точки зрения, Южная Азия выглядит столь же пестро. Предположительно аборигенное население Древней Индии говорило на языках-предках современных языков дравидийской и аустроазиатской (мунда и т. д.) семей. Со второй половины II тысячелетия до н. э. с северо-запада в направлении восточных территорий постепенно стали расселяться племена – носители индоарийских языков, на которых в настоящее время говорит значительное большинство населения индийского Севера.
Древнейший период носит название Хараппский (одна из деревень на р. Рави, место первой находки памятников), или Индский. Оба термина условны: Хараппа не единственное крупное поселение этой культуры, а ареал распространения выходит далеко за пределы бассейна Инда. Культуру называют также Протоиндийской, имея в виду и ее глубочайшую древность, и предполагаемое родство с позднейшей классической. Открытие Индской цивилизации переместило Индию из категории «цивилизаций молодых» в категорию «древнейших» (Египет, Месопотамия).
Типологически Хараппскую культуру (середина III – середина II тысячелетия до н. э.) относят к «речным цивилизациям», поскольку основой ее экономики служило ирригационное земледелие. Наиболее яркими признаками этой древнейшей культуры Индостана, кроме развитых земледельческих традиций, являлось наличие поселений городского типа, письменности, навыки обработки металла (бронзы). Индские города были включены в систему ранних цивилизаций Востока и более или менее регулярно поддерживали связи с Месопотамией, некоторыми областями Ирана и Туркменистана.
Хараппская цивилизация была обнаружена в середине XIX в., когда на территории совр. Пакистана было начато строительство железной дороги из Карачи в Лахор. В процессе строительства рабочие обнаружили ряд странных предметов: в частности, стеатитовые пластины с изображениями животных, людей, фантастических существ и непонятными знаками. Стиль изображений и характер знаков выглядели совершенно нетипичными для классической индийской культуры и не имели аналогов среди известных ранее памятников.
Истинную ценность находок и их древность никто не представлял. Истоки открытой культуры пытались связать с более изученным Междуречьем. Окончательный ответ на вопрос о происхождении древнейшей цивилизации Индостана дали археологические исследования второй половины XX в. Изучение неолитических поселений на территории Пакистана позволило установить последовательность слоев от докерамического неолита до бронзового века. Стратиграфический анализ продемонстрировал преемственность археологических культур и доказал, что культура хараппских городов не была принесена извне, а вызрела в результате естественной эволюции неолитических и энеолитических культур северо-запада Индии (на территории совр. Пакистана).
География и хронология. Ареал распространения культуры хараппских городов значительно превосходил территории, занимаемые древнейшими цивилизациями Египта и Месопотамии – ок. 1 100 км с севера на юг и ок. 1 600 км с запада на восток (т. е. ок. 800 тыс. кв. км). Вряд ли можно говорить об абсолютном единстве – политическом или же культурном – этой огромной области. Выявляемые различия между зонами распространения Хараппской цивилизации позволяют предполагать, что ее носители принадлежали к разным, хотя и близким в этническом отношении группам населения.
Создатели неолитических культур в районе совр. Белуджистана к IV тысячелетию до н. э. освоили обработку земли и возделывание ячменя и пшеницы. В III тысячелетии до н. э. в ряде областей региона уже существовали городские поселения. Вторая половина III тысячелетия до н. э. – эпоха «развитой Хараппы». Установление даты заключительного этапа существования индских городов особенно затруднительно. Упадок культуры прослеживается в основном в слоях самого начала II тысячелетия до н. э. Но и после гибели городских поселений в этом регионе продолжали существовать археологические культуры, родственные Хараппской.
Отличительной чертой Индской (Хараппской) цивилизации является существование сложившейся городской культуры. В науке используют современные топонимы для наименования хараппских городов, ибо оригинальные названия неизвестны. Наиболее известные городские поселения – это Хараппа (Панджаб), Мохенджо-Даро (район Синда), Калибанган, Суркотада и Лотхал (Гуджарат). Последний, судя по всему, играл роль порта, через который осуществлялась связь с Месопотамией. В целом число городских поселений в хараппскую эпоху было сравнительно невелико. По-настоящему крупных центров можно выделить чуть больше десятка. Тем не менее говорить о развитой городской культуре позволяет сам характер организации городской жизни, реконструируемый на материале археологических раскопок.
Каждый из крупных центров Индского периода имеет свои особенности, однако некоторые черты являются общими. Для ряда городов характерна специфическая двухчастная планировка, в которой одну часть именуют цитаделью, другую – нижним городом. Наименования условны, поскольку, в частности, цитадель располагалась не в центре, а по соседству с нижним городом и не являлась фортификационным укреплением, а чаще играла роль прибежища в случае стихийных бедствий (к примеру, нередких в этом районе наводнений). Построенная на искусственном кирпичном возвышении, она отделялась стеной от нижнего города, превосходящего ее по площади. Внутри цитадели располагались крупные постройки религиозного, хозяйственного (зернохранилища) и административного назначения. Определить их роль точнее не представляется возможным из-за минимального объема сведений о характере политической и общественной организации хараппских поселений. Однако уже само наличие цитадели является важным свидетельством наличия государственной власти.
Нижний город состоял из жилых построек разного типа. В плане он представлял собой четырехугольник, пересеченный внутри широкими перпендикулярными улицами, ориентированными по сторонам света. Эти улицы делили нижний город на кварталы. Четкая планировка, возможно, имела чисто практическое назначение: взаимное расположение улиц обеспечивало естественную вентиляцию. Вдоль улиц шли крытые плитами канавы (древнейшая в истории канализация), по которым за пределы города выводились сточные воды. Внутри кварталов четкой планировки не существовало, а широкие улицы сменялись узкими кривыми переулками.
Жилые дома, лишенные какого-либо декора, демонстрируют высокую степень имущественной дифференциации общества: от крупных многокомнатных строений из обожженного кирпича до сооружений барачного типа малой площади с минимумом удобств. Их внешний облик вполне типичен и для современной Южной Азии: плоские крыши, глухие стены, земляной пол, покрытый илом и т. д. Судя по структуре домов, основной ячейкой хараппского общества являлась малая семья.
Экономическая история эпохи Хараппы представляется яснее, чем политическая. Базу экономики, как и в последующие века, составляло сельское хозяйство, служившее основным занятием и для городских, и для сельских жителей. Знакомые с плужным земледелием, жители хараппских поселений продолжали пользоваться и примитивными мотыгами. Выращивали ячмень, пшеницу, просо, горох и сезам. Разводили крупный рогатый скот – буйволов и горбатых быков, а также овец, коз и свиней. Коневодство жителям хараппских поселений было неизвестно. Ремесло представлено разнообразными специальностями: гончарное дело, ткачество, камнерезное, ювелирное дело и т. д. Даже в древнейший период истории Хараппы существовали связи с иными регионами. Археологические находки указывают на торговые контакты между Индией и городами Месопотамии (Аккад, Лагаш, Иссин), осуществляемые через Дильмун (совр. Бахрейн). Поддерживались связи с Северным Афганистаном, Южной Туркменией и Ираном.
Характер источников позволяет делать самые общие предположения относительно социальной структуры и политического устройства эпохи Хараппы. Анализ материальных памятников указывает на далеко зашедшую имущественную и социальную дифференциацию. Внешний облик и структура поселений говорят о наличии государственной власти. Характер же ее, как и степень централизации, нам не известны. Скорее всего, на столь обширной территории существовало не одно государство, а несколько некрупных государственных образований, родственных с этнокультурной точки зрения и поддерживающих отношения друг с другом.
Культура и религиозная ситуация. Искусство Хараппы известно по произведениям мелкой пластики. Едва ли крупные памятники не сохранились; скорее, их попросту не было. Мелкогабаритные скульптурки – от примитивных терракотовых фигурок до высокохудожественных изображений (стеатитовый поясной портрет мужчины – «правителя-жреца», миниатюрная бронзовая фигурка женщины – «танцовщицы»); стеатитовые печати с надписями и изображениями животных и растений; орнаменты на керамике – вот и весь материал. Однако и на его примере хорошо просматривается исключительная самобытность хараппского искусства, опровергающая предположения о каком-либо внешнем влиянии.
Представления о религиозных верованиях жителей хараппских городов строятся на анализе материальных источников и на аналогиях с более поздними культами Южной Азии. В настоящее время не представляется возможным говорить о существовании единой системы верований, единого пантеона, тем более единой жреческой организации. Однако некие общие черты, характерные для всего ареала распространения хараппской культуры, выделить можно.
Как и в большинстве древних обществ в обществе индских городов были широко распространены культы плодородия, о чем говорят многочисленные терракотовые фигурки с гипертрофированными половыми признаками. Есть основания предполагать существование культов растений (например, священного и для индуизма дерева агиваттха), культов животных (буйвола), возможно, традиций поклонения небесным светилам (в глиптике часто встречаются астральные символы).
Странные комбинированные зооморфные образы или антропоморфные создания с зооморфными чертами могут быть интерпретированы как боги или полубожественные персонажи. К ним можно отнести и рогатое существо, сидящее в йогической позе и окруженное с четырех сторон света животными (часто характеризуется как прото-Шива – прообраз одного из богов индуистского пантеона) или так называемую «богиню дерева» (женщина, помещенная в развилку дерева ашваттха). Многие существа из-за специфики материала и начертания практически не поддаются интерпретации.
Характер источников не позволяет уверенно говорить о существовании каких-либо традиций культовой архитектуры. Но некоторые исследователи склонны видеть в крупных строениях, располагавшихся в городских цитаделях, храмовые комплексы. Обнаруженный в цитадели Мохенджо-Даро бассейн по аналогии с индуистской традицией рассматривают как свидетельство существования практики культовых омовений.
Язык и письменность. Версии о языковой принадлежности носителей хараппской культуры строятся на анализе надписей на печатях. Работа по их дешифровке не завершена. Но даже окончательная дешифровка вряд ли приведет к ошеломляющим открытиям. Надписи лаконичны (10–20 знаков) и однотипны (предположительно, имя владельца печати и календарно-хронологические данные), среди них отсутствуют билингвы. Однако о ряде особенностей хараппского письма говорить можно. Очевидно, оно имело пиктографические истоки и являлось классическим вариантом иероглифики. Видимо, хараппская письменность автохтонна. Анализ надписей из разных областей дает основания предполагать существование единообразных орфографических норм во всем ареале распространения письменности. Надписи выполнялись на стеатите при помощи резца. После гибели Индской цивилизации система письма была утрачена.
Анализ надписей дает возможность делать некоторые выводы и о хараппском языке. Позиционно-статистический анализ текстов позволяет видеть в хараппском языке предка современных дравидийских языков. В настоящее время работа по его реконструкции строится на сопоставлении с живыми языками дравидийской семьи.
Археологический материал демонстрирует с начала II тысячелетия до н. э. упадок Хараппской культуры. Нет оснований говорить о некоей внезапной катастрофе как в силу данных археологии, так и по причине обширности территории, охваченной кризисом. Общая варваризация культуры выразилась в постепенном упадке городов, утрате ремесленных навыков (выходит из употребления металл, огрубляется керамика), исчезновении письменности и памятников искусства.
По всей вероятности, к гибели Хараппскую культуру привела совокупность причин: природные катаклизмы (наводнения), изменения природно-климатических условий региона (вырубка лесов, превращение в пустыни некоторых областей Северо-Западной Индии; сильный тектонический толчок, приведший к повышению уровня воды в Инде). В силу этих причин некоторые области стали попросту непригодны для ведения поливного земледелия. Не исключено проникновение на территорию Индии варварских племен через северо-западные границы. Наконец, свою роль могли сыграть определенные события политической истории, которая остается неизвестной.