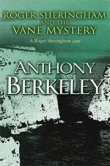Текст книги "Мисс Исландия"
Автор книги: Аудур Олафсдоттир
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
– Говорят, это извержение вулкана на глубине ста тридцати метров и столб дыма поднимается на шесть километров, – делится новостями папа, размешивая сахар.
Затем расспрашивает меня о моем парне.
– Он поэт?
– Да.
– Сочиняет без рифмы?
Я задумываюсь.
– Использует аллитерацию, но не конечную рифму. А еще работает в городской библиотеке.
Упоминать, что он хочет уйти из библиотеки и устроиться ночным сторожем, я не стала.
А папа хочет узнать, сочиняю ли я.
– А ты пишешь стихи, Гекла?
– Пишу. Но не так много, как хотела бы.
– В детстве ты придумывала странные слова. Читала книжку задом наперед. Ты знала названия погодных явлений. Ты говорила:
Сейчас непогодица.
Изморось.
Спорый дождь.
Ведро.
Идущая против ветра. Твой брат хотел заниматься глимой и стать фермером.
Он треплет меня по щеке.
– Это ты переняла от меня. Заниматься писанием.
Папа пьет кофе.
– Ты имеешь в виду описания погоды?
– Не совсем. Я имею в виду, Гекла, что я двадцать пять лет записывал рассказы людей о предзнаменованиях извержений по всей стране, включая сны и необычное поведение животных.
Он доедает торт и счищает сливки с тарелки.
– Этой области геологии уделяют мало внимания. Хочу назвать книгу «Воспоминания о вулканах» и издать ее самому.
Он просит меня позвать девушку и заказать еще кофе.
Я замечаю, что за столиком у окна пьет кофе человек из общества красоты и, не отрываясь, следит за нами.
– Полагаю, Гекла, меня притягивает творение, а не сила разрушения.
Сообщаю папе, что мне предлагали принять участие в конкурсе «Мисс Исландия», однако я отказалась. Неоднократно, но они делали вид, что не слышат.
Он допивает кофе и ложкой вычищает сахар со дна чашки.
– Негоже, чтобы тебя оценивали и обмеривали, как овцу на выставке. Наши славные землячки Гудрун, дочь Освивра, и Ауд Глубокомыслая никому не позволяли потешаться над собой.
Он открывает чемодан, с которым приехал, достает красиво упакованный сверток и кладет на стол.
– Это тебе с днем рождения. От нас с твоим братом. Эрн упаковал. Это книга, «Картины и воспоминания» Асгрима Йонссона.
Я открываю первую страницу.
– Это мемуары художника, который создал самое большое изображение Геклы. Твой дед как раз был дорожным рабочим на востоке, когда Асгрим стоял с мольбертом и рисовал наш древний вулкан и окрестности. Он поставил палатку из большого коричневого паруса, пропахшую плесенью: видимо, ее свернули мокрой. Твой дедушка заглянул поприветствовать художника. Он рассказывал, что лужайка, на которой тот стоял, в дождь превратилась в грязное болото. Тем не менее он почувствовал близость чего-то великого. Думаю, это была красота, Готтскальк, говорил он мне.
Папа тянется через стол за книгой и хочет прочесть мне несколько строк из описания извержения Геклы 1878 года.
Я стою на дворе, двухлетний мальчуган, совсем один. Посмотрев на северо-восток, вдруг вижу, как в воздух взлетают огненные искры, красные чудовища, разрезающие темный небосвод…
Он закрывает книгу, смотрит на меня и хочет знать, как долго я собираюсь мерить шагами столичные улицы и не планирую ли сбежать за границу вслед за другом.
– Полагаю, Гекла, желание уехать у тебя от матери. Она жила с этой тягой в душе, не хотела оставаться там, где была. Могла босиком выбежать на вечернюю росу.
Некоторое время он молчит.
– Однажды твоя мама собралась от меня уйти. Я тогда поехал на юг посмотреть, как извергается твоя тезка, и взял тебя с собой, а она решила, что я слишком близко подвел тебя к горящей лаве.
Папины слова в отеле «Борг»
огненный столб
огненное море
огненно-красиво
огненные искры
огненные сполохи
огненные глаза
огненный шлак
огненная колонна
огненный дождь
Жестокое преступление
На улице шквалистый северный ветер. Проходя мимо американского посольства, замечаю, что звездно-полосатый флаг приспущен. Перед трехэтажным каменным зданием на пронизывающем холоде стоит молчаливая группка людей. Вопреки обыкновению поэт дома, а не в «Мокко». С мрачным видом слушает радио.
Концерт классической музыки прервали срочным сообщением о жестоком преступлении. Не у нас, в мире.
– Сегодня утром в Далласе застрелили президента Кеннеди.
Поэт встает и тут же снова садится.
– На прошлой неделе родился новый остров. В твой день рождения.
На этой неделе гибнет мир.
Он ходит по комнате. По его словам, картина пока неясная, но считается, что за убийством стоит Россия.
– Русских обвиняют во всем. Не только в размещении ракетных установок на Кубе, – добавляет он.
Поэт надевает куртку и идет на собрание молодых социалистов. Один встает и исчезает за дверью вместе с ним. В последние дни четвероногий стал беспокойным. Когда глажу, чувствую шевеление котят.
В машинке нужно заменить ленту, поэтому вечером я не пишу. Вместо этого ложусь в кровать и читаю «Черные перья».
Вернувшись, поэт снимает куртку, расстегивает рубашку и сообщает:
– В России траур. На радио звучит траурная музыка.
Он садится за письменный стол, пишет несколько слов и складывает лист бумаги.
Неужели он откроет окно и запустит бумажный самолетик с важным посланием о кровавом перевороте? Пока поднимается ветер и напирает на окно, молчат птицы и гибнет мир?
Он снимает брюки.
– Мне пришла идея, как начать стихотворение, – говорит он, приподнимая одеяло.
Утром он рвет листок.
Двенадцать страниц
Поэт ушел из библиотеки и начал работать ночным сторожем в гостинице.
Ходить на работу теперь ему дальше, но зато ближе к самому модному ресторану.
Мы с ним встречаемся, как на пересменке, он приходит домой и приподнимает одеяло примерно в то же время, когда мне нужно вставать. Это означает, что я могу сидеть по ночам и писать, поэт мне не мешает.
Он перестал мне читать, перестал говорить: послушай это, Гекла. Теперь, напротив, спрашивает, писала ли я сегодня. И как долго.
– Ты писала?
– Да.
– Сколько страниц?
Я листаю рукопись.
– Двенадцать.
– Ты сильно изменилась с тех пор, как мы познакомились. Если ты не работаешь, ты пишешь. Если не пишешь, то читаешь. Ты могла бы вскрыть вены, если чернильница опустеет. Иногда мне кажется, что ты переехала ко мне исключительно потому, что у тебя не было крыши над головой.
Я обнимаю поэта.
– Скажи мне, Гекла, что ты во мне находишь?
Я задумываюсь.
Он настойчиво расспрашивает.
– Ты мужчина. Телом, – добавляю я.
И думаю: он может протянуть мне перо,
как цветок,
вырвав из черной птицы,
окунуть его в кровь и сказать:
пиши.
Поэт смотрит на меня удивленно.
– По крайней мере, искренне.
Он ложится на кровать в одежде.
– Поэт должен жить в тени и испытывать тьму. С тобой не хватает темноты, Гекла. Ты свет.
Черный
День практически не наступает, в полдень, когда над замерзшим озером выкатывается красное солнце, в просоленное окно ненадолго проникает свет, затем снова темнеет.
– Ему выбрали имя, – сообщает поэт.
– Кому?
– Новому острову. Назвал и Суртсей[23]23
Surtsey – букв. «остров Сурта»; назван в честь мифологического великана, имя которого родственно исландскому прилагательному «черный» (svartur).
[Закрыть].
Он вычищает трубку в пепельницу.
– Говорят, что пока это по большей части еще черный холм вулканического шлака, но уже потекла лава и начал формироваться остров.
А еще поэт сердит, потому что на днях на новый остров без разрешения высадились французские журналисты. И установили флаг. С этим он смириться никак не может.
– Вот что пишут в газете, – говорит он, показывая статью на первой странице: Репортеры таблоида Paris Match без разрешения посетили Суртсей.
– А полосатый быстро сгорел. Огонь из недр земли поджег знамя братства.
Поэт встает.
– Однажды империя – всегда империя, – делает вывод мой коммунист.
Затем он хочет знать, не забыла ли я зайти в мясной магазин.
Сыновья и дочери Одина
Слышу шум на кухне и застаю там нашего соседа-моториста ползающим на четвереньках перед кухонным столом, на котором стоит моя печатная машинка. На нем пижамные штаны в синюю полоску. Под столом вижу черную шубку Одина. Когда моторист поднимается на ноги, насчитываю восемь котят, уткнувшихся в набухшие розовые соски матери, четырех черных, как она, трех полосатых и одного белого. Сосед рассказывает, что, когда он пришел ночью, чтобы сварить себе черносливовый кисель, два котенка уже появились на свет. Говорит, что решил не уходить, пока окот не закончится. Все продолжалось добрых четыре часа, и одного котенка пришлось щелкнуть по носу, потому что он не дышал. Белого, добавляет сосед.
Я наклоняюсь, Один совершенно без сил, глаза закрыты. Провожу рукой по шубке.
Сосед говорит, что у него было немного сливок для киселя и он налил их в кошачью миску.
– Она даже не притронулась, – сокрушается он, мотая головой.
Вслед за мной приходит поэт. Он вернулся с ночного дежурства и ползает рядом со мной, рассматривая мохнатую груду под столом. Несколько дней назад он принес картонную коробку и поставил ее в углу комнаты. Кот понюхал коробку, но не проявил к ней никакого интереса.
Поэт принимает вертикальное положение. Он сделал свой вывод.
– Кот предпочел устроиться под столом, за которым ты пишешь.
Нижеподписавшыйся
По дороге к подруге захожу в магазин игрушек и покупаю Торгерд зеленый трактор с резиновыми колесами.
Подруга встречает меня с ребенком на талии, она явно возбуждена. Случилось то, чего она больше всего боялась: свекровь прислала связку куропаток.
– С оперением и потрохами. Мне кажется, она проверяет, достаточно ли хорошо я забочусь о ее Лидуре.
И теперь подруга в растерянности склонилась над замерзшим комком белых перьев у мойки.
– Дело в том, что мы никогда не ели куропаток на Рождество, я не умею их готовить.
Я рассматриваю птиц.
В родительском доме мы часто имели дело с морскими птицами, и я советую подруге:
– Представь себе, что это тупики. Так и готовь.
– Не пройдет, Гекла. Лидур говорит, что нужно снимать кожу вместе с перьями, а не ощипывать.
Она сажает дочь в детский стул, а сама опускается на табуретку. Ребенок сидит в конце стола и бьет по столу ложкой.
Замечаю, что на окнах нет занавесок. Подруга говорит, что сняла их и положила отмокать, а теперь ей попросту не хочется их выуживать, сушить и гладить.
– Я попросила у Лидура на Рождество фотоаппарат. А еще постоянно думаю о тетради, которую прячу в ведре, – добавляет она тихо.
Подруга надевает ребенку слюнявчик и, пока мешает скир, сообщает мне, что Лидур собирается сменить работу, хочет строить многоэтажные дома в городе.
– Ему нужно было написать заявление, – говорит она, вздыхая. – Теперь это так. Профсоюз хочет, чтобы соглашение заключалось на бумаге. В его заявлении было так много ошибок, что мне пришлось за него переписывать. Он признается, что никогда не умел правильно расставлять запятые. Но если бы только запятые. У него в руках все спорится, но слова он пишет неправильно. Представляешь, он написал: Я, нижеподписавшыйся.
На некоторое время она замолкает.
– Пусть мужчина в твоей книге скажет: роль мужа и отца сформировала меня, придала моей жизни цель и смысл. Пожалуйста, Гекла, сделай это для меня.
Я улыбаюсь и встаю.
Сообщаю ей, что у нас котята, восемь потомков Одина.
– Моторист, наш сосед, возьмет одного котенка, еще одного Сирри, с которой мы вместе работаем. Но мне нужно найти дом для остальных.
Я в нерешительности.
– Там один совсем не похож на остальных. Белый. Вот я и подумала, может быть, ты его возьмешь?
Я застегиваю пальто, и подруга провожает меня до дверей.
– Старкад сейчас выясняет у поэтов. Но из этого вряд ли что-то получится: Стефнир Скальдалэк говорит, что Лакснесс не держит кошку.
Лоно матери
Позади самая длинная ночь, самый короткий день года.
Наша сумка лежит в багажной сетке над нами, а в ней коробка конфет с котятами на крышке. Сосед-моторист вызвался присмотреть за Одином и его потомством на Рождество.
– Мама хочет конфет, – пояснил мне поэт.
Из метели мы въезжаем в черное грозовое облако над лавовым полем в пятнах снега, и мир быстро темнеет; затем дорога идет вверх по склону, и на мгновение проясняется. Когда я прислоняюсь к окну и поднимаю взгляд, видно синее небо.
– У тебя золото в волосах, – говорит поэт.
Мы тут же въезжаем в туман.
Поэт разворачивает вафлю в шоколаде, которую купил в киоске на автовокзале, протягивает мне половинку.
– Я еще не сказал маме, что мы живем вместе. Только то, что ты моя девушка.
Когда день клонится к полудню, поднимается бледное декабрьское солнце. Перед нами сидят два геолога, они достают из чехла бинокль и направляют его на море. Там хорошо виден столб пара, он высоко поднимается в небо, похожий на гигантский кочан цветной капусты, темно-серый внизу и белый наверху. Пассажиров охватывает беспокойство. Сгрудившись на одной стороне, они высовываются в окна.
– Мама отведет нам разные комнаты, поскольку мы еще не обручены, – продолжает поэт.
Еще один поворот, и гаснет бледная заря, мы въезжаем в дождь со снегом. Здесь и там между сугробов из земли поднимается пар.
Когда мы выходим из автобуса, поселок накрыт запахом ската. Мать поэта встречает нас в дверях, на ней дралоновый фартук с рисунком.
Поэт знакомит нас:
– Гекла, моя любимая.
Ингигерд, моя мать.
Я протягиваю матери поэта руку. Мы приехали вовремя, она как раз выкладывает на блюдо ската и свеклу.
– Она хочет, чтобы ты звала ее Лоло, – говорит поэт, когда его мать уходит обратно на кухню, где снова возится с кастрюлями.
Я осматриваюсь в сумеречной гостиной. На полу ковер во всю комнату, но поверх него во многих местах замечаю лоскутные коврики: один перед красным плюшевым диваном с бахромой, другой перед обитым тканью креслом, еще один у серванта, и перед закрытой витриной, в которой хранится парадный сервиз. На серванте большая фотография в позолоченной рамке, на фотографии мужчина в фуражке. Как выясняется, отец поэта, матрос на «Деттифоссе».
– Какая же девушка… – произносит мать поэта и смотрит на своего единственного сына.
– …малоежка, – заканчивает поэт.
Она стоит в фартуке у стола и следит за тем, как мы едим.
– Мама, ты бы села, – просит поэт.
В конце концов она поддается на уговоры, но к еде практически не притрагивается.
– Чья…
Немного позже следует продолжение вопроса.
…дочь…
…девушка?
Я отвечаю.
– Откуда…
…девушка?
– С запада.
Поэт благодарно смотрит на меня.
– Кем работает…
…девушка?
Не нужно упоминать о творчестве, предупредил меня поэт по дороге.
– Официанткой в «Борге».
– Вы…
– Нет, мама, мы не помолвлены.
– Собираетесь ли…
Поэт улыбается мне.
– Очень может быть, что и окольцуемся.
– Хотите взять?..
Она держит в руке чашку с красными и синими цветами и позолоченной каемкой.
– Нет, в этот раз мы не возьмем сервиз.
Он улыбается мне.
– Возможно, в следующий.
Все попытки матери поэта поддерживать разговор обрываются на середине предложения.
Он не брал…
Я видела…
Старкад был…
Поэт заканчивает предложения за нее.
После ската мать предлагает кофе и открывает банку с персиками.
А девушка не хочет?.. – спрашивает она.
– Хочешь персик? – спрашивает он.
– Да, спасибо, – отвечаю я.
Поев, мы садимся на диван, поэт закуривает трубку и открывает книгу, его мать приносит альбомы, молча кладет мне на колени.
Я аккуратно переворачиваю шелковистые листы, пробегаю глазами по приклеенным зубчатым фотографиям.
Она стоит у меня за спиной и указывает на сидящего на санках мальчика в сапогах и вязаной шапке.
– Старкад…
– Пьетур смастерил…
Когда я просматриваю все три альбома, она приносит обувную коробку.
– Это не разобрано…
– Разные умершие родственники, – поясняет поэт, сидящий в кресле с «Сагой о названных братьях» в руках.
Все фотографии похожи, на них серьезные нарядные люди, снятые еще при жизни. Мать поэта стоит за диваном и комментирует. Пьетур… Кьяртан Торгримссон… Гудрид, сестра бабушки Старкада. Браги…
– Папин брат с востока, – вставляет поэт.
И только один раз мать поэта произнесла целое предложение:
– Она моложе, чем я ожидала.
Мать стелит мне в комнате для гостей, а своему сыну в его старой комнате. Рядом с моей кроватью стоит гладильная доска, на доске разложено рождественское платье. Ночью я аккуратно открываю дверь в комнату поэта. Он не спит, тут же приподнимает уголок одеяла на односпальной кровати и пододвигается, освобождая мне место. У кровати – лоскутный коврик.
Старкад второй
Утром, когда мы приезжаем, мать поэта варит баранину. На голове бигуди. Предлагает нам домашний ржаной хлеб с мясным рулетом. На столе стоит пакет молока. На тарелке выпечка: пряное печенье, рогалики, ванильные кольца, еврейское миндальное печенье и печенье с изюмом. Старшая сестра поэта замужем за моряком и живет на севере. Но на ужин ожидается младшая со своим парнем, тоже моряком.
– Конечно, если дороги не закроют, – говорит поэт, слушая прогноз погоды по радио.
Развесив для матери рождественскую гирлянду, поэт хочет показать мне места своего детства. Наш путь лежит на кладбище, на могилу его отца. На плите надпись: «Пьетур Пьетурссон, 1905–1944».
Некоторое время он молчит. Затем говорит:
– На берегу отец пил и иногда распускал руки.
Рядом с рулевым еще одна могила, совсем маленькая. На плите имя: Старкад Пьетурссон. Родился и умер в тот же год, 1939-й.
– Мой брат.
Он родился на год раньше меня, но внезапно умер в младенчестве. Меня назвали в честь него, и своим существованием я обязан его смерти. Иначе, как говорит мама, я бы не родился. Он Старкад первый, я Старкад второй.
Он поднимает воротник куртки.
– Иногда мне кажется, что я лежу там, а он стоит здесь.
Вы ходили?..
– Вы ходили?..
– Да, мама, мы ходили на кладбище.
– Ты показал?..
– Да, я показал Гекле обе могилы.
– Ты видел?..
– Да, с кладбища виден столб пепла.
Поскольку придут гости, нужно раздвинуть обеденный стол. Поэт вставляет дополнительные секции, затем его мать расстилает трехметровую вышитую скатерть, которую она погладила, пока мы были на кладбище.
– Скажи девушке…
– Эту скатерть сшила мама.
В пять часов, как раз в разгар готовки, электричество мигает, затем гаснет из-за аварии в поселке. А тем временем в духовке ждет каре барашка.
– Так… – говорит мать поэта.
– Да, так каждый год, завершает за нее поэт.
Радио работает от батареек, так что можно следить за сообщениями. Коммунисты не слушают мессу, и поэт зовет меня в свою комнату, хочет показать сборник стихов местного автора, издавшего одиннадцать книг. Он запирает дверь на два оборота.
– Маме ты понравилась.
Он доволен. Вскоре раздается стук в дверь.
– Могу я попросить девушку?..
– Мама спрашивает, не можешь ли ты сложить салфетки.
Она сообщает мне, где будут сидеть мальчики, сын и зять, у них рождественские салфетки будут сложены трубочкой, а у женщин веером.
Дают электричество, и во двор въезжает сестра поэта со своим парнем. Сначала едим густую рисовую кашу с изюмом и корицей. Поэт раскладывает кашу по тарелкам. Когда его мать вылавливает у себя миндаль, на ее лице ничего не отражается.
Кроме салфеток, помогать мне больше не приходится, ни накрывать на стол, ни убираться со стола, ни вносить блюда с каре барашка, ревеневым вареньем, дымящейся красной капустой и карамелизированной картошкой, тем более мыть посуду.
– Поскольку ты…
Она дважды повторяет это за столом.
– Практически моя невестка, – разъясняет поэт.
Я хвалю клубничное мороженое, и сестра поэта, на восьмом месяце, протягивает мне миску мороженого с вафлями. Ее парень немногословен, но хочет знать, на какой машине мы приехали. У него, оказывается, универсал «Ford Taunus», модель 1962 года с радио, на момент покупки проехал всего семнадцать тысяч километров. Продали, по его словам, практически даром. Узнав, что мы приехали на автобусе, он замолкает и закуривает сигарету. Мужчины быстро исчезают в облаке дыма, дочь с матерью убирают со стола, а я роюсь в шкафу и нахожу маленькую книжку стихов Каритас Торстейнсдоттир, которая, как сообщается в предисловии, еще в юности эмигрировала в Америку. Открываю книгу.
Не могу сочинять о Канаде,
Никого не знаю в Канаде,
Я чужая в Канаде,
Вот так мне в Канаде.
– С Рождеством, Гекла, – говорит поэт, протягивая мне сверток. Я разворачиваю рождественскую бумагу, это кулинарная книга Хельги Сигурдардоттир, директора школы домохозяек, «Учитесь готовить». Затем я достаю подарок от папы. Это сборник рассказов Асты Сигурдардоттир. Она со Снайфелльснеса, пишет папа на открытке.
Дождь со снегом
Когда мы засыпаем, температура на улице около нуля. Ночью идет дождь, иногда проливной, под утро начинается дождь со снегом. В полдень быстро подмораживает, наступает гололедица, а во второй половине дня налетает ураган. К ужину ветер стихает и выпадает полметра снега. На следующий день, когда мы как раз планировали вернуться домой, десятиградусный мороз и шквальный ветер. Дороги закрывают, все автобусы отменены до начала наступающего года.
Тем не менее поэт считает, что сможет организовать нам транспорт, и сидит на телефоне, обзванивая нужных людей.
– С Рождеством, это Старкад, – доносится его голос. Наконец он встает и трясет головой.
– По бездорожью никто не едет. Но до нового года не так уж и долго. Несколько дней. Конкретно пять.
Я пробегаю глазами по книжному шкафу в поисках книги, которую еще не читала, и вытаскиваю роман Горького «Мать». Два тома в сером тканевом переплете, перевод сделан с немецкого перевода.
Мы то едим холодную баранину, то пьем кофе с шестью видами печенья, слоеным тортом и безе. На ужин в канун Нового года мать поэта предлагает нам заливное с креветками. В новогоднюю ночь начинается дождь, наутро земля уже бесснежная и десять градусов тепла. Кое-где лежат отгоревшие фейерверки.
Поэт договорился насчет поездки. Ему заметно полегчало.
– Мы спасены, – говорит он.
Семь дней мать поэта называла меня девушкой и обращалась ко мне в третьем лице. На прощание она гладит меня по щеке и говорит:
– До свидания, Гекла, коронованная королева гор. Когда ты приедешь летом, угощу тебя помидорами из теплицы.
Мы едем за снегоочистителем в «виллисе» священника. Они с поэтом друзья детства, в столице ему нужно хоронить тетю. Он в зимних ботинках и вязаной шапке. Поэт сидит впереди, я на заднем сиденье, на коленях у меня коробка с любимым печеньем поэта. В сумке сложенный лоскутный ковер, рождественский подарок его матери.
В городе видим два сломанных ураганом столба и сорванную с крыши трубу, стекла белые от соленого ветра.
Ночью мне снится, что я вижу на улице спину Йона Джона. Я догоняю его, но это не он. Все в красноватом сиянии.
Зачем еще летать, если не для того, чтобы увидеть Бога?
Торгерд прописали очки.
– Я заметила, – рассказывает подруга, – что она подходит к вещам вплотную, чтобы их рассмотреть. Еще она брала Лидура за уши и буквально прижималась лицом к его лицу, чтобы рассмотреть. Ему казалось это странным, но я объясняла тем, что она его редко видит и поэтому обращается как с незнакомым. Однако выяснилось, что у нее сильная близорукость и нужны очки.
Подруга стоит у плиты в белой водолазке и коричневом сарафане от Йона Джона, повернувшись ко мне спиной, пока варит кофе. Я сижу за кухонным столом с ребенком на коленях.
Она хочет еще поджарить тосты в тостере, который Лидур подарил ей на Рождество.
– Мы используем его только для гостей. А их немного. Собственно, только ты. Иногда я покупаю половинку белого хлеба и делаю тосты для себя. Намазываю маслом еще горячие, чтобы оно растаяло.
Как она и рассчитывала, на Рождество они с Лидуром получили в подарок от его родителей телефонный столик. Фотоаппарат она не упоминает, но сообщает, что они подарили свекрови стеганый нейлоновый пеньюар.
– Мне приснился Йон Джон, – говорю я.
– Скучаешь?
– Он хочет, чтобы я приехала. Говорит, что смогу жить у него и писать.
– Я никогда не поеду за границу, Гекла. Как мои мама и бабушка. Что мне там делать? Лидур тоже никогда не был за границей. Я уже встретила своего мужчину и знаю, как сложится моя жизнь вплоть до смерти.
– Меня, наверное, возьмут в стюардессы, – сообщаю я подруге.
Признаюсь, что уже была в офисе авиакомпании и вроде как подхожу.
– Мне сказали, что было бы неплохо сначала принять участие в конкурсе красоты, но это не обязательное условие.
Подруга внимательно разглядывает меня.
– Я знаю, что летать – древнейшая мечта человека и что тебе хочется увидеть облака сверху и звезды вблизи, но я также понимаю, что ты задумала, Гекла. Ты не можешь не явиться на обратный рейс и исчезнуть, как это сделал Йон Джон. Кто тогда будет обслуживать пассажиров?
Подруга явно обеспокоена.
– И вот еще что, Гекла. Не все самолеты возвращаются на землю. Ты же помнишь, что случилось с «Хримфакси» на прошлую Пасху. Теперь остался только «Гуллфакси».
Она наливает кофе.
– К тому же, Гекла, звезды давно мертвы. Свет от них доходит очень долго.
То же самое говорит поэт, когда я прихожу домой от подруги и объявляю, что присматриваю себе другую работу.
Он делает глубокий вдох, надувает щеки.
– Стюардесса? Чтобы уехать за границу? Уйти от меня? К этому гермафродиту?
Вечный Ferguson
– Люди на юге не такие замечательные, как они о себе думают, – первое, что произносит Эрн. – Они не умеют работать.
Брат находится в столице на съезде молодежного движения Прогрессивной партии и заодно решил посетить увеселительные заведения. Он позвонил, и мы договорились встретиться воскресным утром во Дворце фермеров, где он остановился по приглашению партии. Брат окончил сельскохозяйственное училище, собирается осушить землю и расширить овчарню нашего отца, сделав ее самой большой в округе. Он сидит за покрытым белой скатертью столом, в костюме и парадных ботинках, волосы уложены бриолином, галстук лакричного цвета. У него все еще проблемная кожа. Я сажусь напротив. Брат слишком молод, чтобы покупать алкоголь и ходить по злачным местам, родился в тот же день, когда сбросили бомбу на Хиросиму. Поэтому он принес свою бутылку водки в кармане пиджака и время от времени подливает из нее в стакан колы.
– Моя цель, чтобы все овцы приносили по три ягненка, – говорит он, осушая стакан.
Заказывает себе суп из цветной капусты и еще один стакан колы. С трубочкой.
Я заказываю кофе.
– Развлекался? – спрашиваю я.
Брат признается, что обошел несколько заведений и собирался найти себе девушку, но никуда не попал. И вообще он не в восторге от того, что увидел на юге.
– Женщины одеваются теперь как девчонки. И выглядят тоже. Грудь маленькая, бедра узкие, талии почти нет, икры плоские. Может, лучше дать объявление, что на ферму требуется экономка? – говорит он и делает глоток из стакана. – Но никакой фифы. Она должна быть энергичной и водить трактор.
Затем он переходит к оптовым торговцам.
– Они тратят валюту на иностранное печенье и товары для выпечки. Иными словами, выбрасывают на ветер вместо того, чтобы развивать наше сельское хозяйство.
Мне приходит в голову, что им с поэтом есть что обсудить.
И следующий вопрос брата как раз о поэте. Он хочет знать, верно ли, что я живу с коммунистом.
Не дожидаясь ответа, спрашивает, действительно ли я пишу роман.
Я киваю.
– Моя сестра – единственный поэт, вышедший из овчарни.
Я улыбаюсь.
Вечность для моего брата – прочный трактор, а время – ягненок, которого осенью приводят на бойню.
Он заметно опьянел.
Наконец брат встает, на нетвердых ногах, просит вызвать ему такси, собирается погулять. Вместо этого я отвожу его в номер и помогаю раздеться. Он не возражает и падает на кровать. На этот раз обладатель пояса Греттира уедет домой без невесты.
– Я слышала, как ты родился, – говорю я брату, снимая с него ботинки.
– Мне не хватает мамы, – бормочет он неясно.
– Мне тоже.
Тогда я вдруг вспоминаю, насколько мой брат был озабочен смертью после того, как умерла мама. Даже если я просто кашляла, ему казалось, что я уже при смерти.
– Я ходил на спиритический сеанс, – раздается голос из-под одеяла. – Вместе с папой. Мама пришла и сказала, чтобы я не беспокоился. Своим голосом. Все будет хорошо. Большинство овец принесут двух ягнят, некоторые даже трех.
Он лепечет.
– Тебя она тоже упоминала. Сказала, что некоторые рождаются сами по себе… Как ты. Просила передать тебе привет и сказала… что нужно… носить в душе хаос… чтобы родить танцующую звезду… Что бы это значило…
Коробка из-под зимних ботинок
Выйдя из «Борга», я сразу вижу поэта, который ждет меня у памятника национальному герою, и понимаю: что-то случилось. Он торопится ко мне с серьезным видом.
– Гекла, – только и произносит он, обнимая меня.
Но сразу выпускает из своих объятий и отводит взгляд.
– Один.
Говорит медленно, тщательно взвешивая каждое слово.
– Что с ним?
– Его сбила машина.
– Он мертв?
– Да. Женщина, которая живет рядом, рассказала, что выходила из молочного магазина и наткнулась на раненого кота, лежавшего на краю дороги. Вроде как видела красный грузовик, уезжавший с места происшествия. Кто-то позвонил в полицию, они приехали и усыпили его. Ей показалось, что это может быть Один, она пришла ко мне в «Мокко» и все рассказала. Объяснила, что узнала его по белому пятну у глаза.
– Он умер не сразу?
– Не совсем сразу.
Поэт снова меня обнимает.
– И что они с ним сделали?
– Рикэй разрешила похоронить его в клумбе с фиалками. После недавних заморозков это было нелегко, но в конце концов у нас получилось. Мы положили его в коробку из-под зимних ботинок ее мужа. Обычная не подошла, – добавляет он тихо.
Ночью мне снится, что машина сбивает кота, я слышу, как хрустят кости и ломаются позвонки, вижу, как дрожащее животное выползает из-под машины с внутренностями наружу и окровавленным хвостом, ищет убежища в мерзлой земле клумбы, чтобы там умереть.
В ужасе просыпаюсь и сажусь в кровати. Поэт нащупывает в темноте, кладет на меня руку.
К утру выпал снег, и клумба, в которой похоронен Один, покрылась белым ковром.
Мир белый и чистый. Как сон. Как давно ушедшее воспоминание.
– Весенний снег, – говорит поэт.
Некоторые ночные сторожа ничего не сторожат, кроме ночи
Поэт собирается уйти с работы ночным сторожем и устроиться корректором в газету, как Эгир Скальдайокуль.
Он лежит в кровати с подушкой на голове. Я приподнимаю подушку, и он жалуется на головную боль.
– Я устал писать по ночам, Гекла.
Он садится и смотрит на меня.
– Правда в том, что мне не приходит в голову, о чем писать. Никаких идей. Меня ничего не волнует. Ты знаешь, что значит быть обычным? Нет, ты не знаешь. На твоих страницах течет бурная река жизни и смерти, я же лепечущий ручей. Мне невыносима сама мысль о том, что я средний поэт.
– Ты пьян?
– Будь так добра, поделись со мной словами из твоего рога изобилия. Твоими отточенными словами, они как камнепад, который обрушивается на спящие дома.
Он снимает брюки.
– Слова избегают меня, бегут от меня прочь, с попутным ветром, как гребень черных туч. Мне всего-то нужно пятнадцать слов для стихотворения, но я не могу их найти. Я под водой, надо мной соленый, тяжелый и холодный океан, и слова не достигают берега.