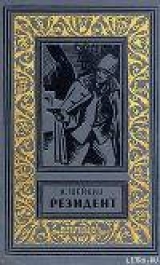
Текст книги "Резидент"
Автор книги: Аскольд Шейкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
ГЛАВА 18
Обоз тянулся к Воронежу четыре дня. Пешком можно было б дойти быстрей, но Мария все эти дни пластом лежала на телеге.
Ехали тревожно. На ночь выставляли дозоры. Народ в деревнях волновался. В одном селе хозяин большого двора злорадно говорил Марии:
– Мы что? Мы – ничего. Нам что белые, что красные. Власть любая от бога. А вот только бают – в Воронеже на домах такие слова вывешены: «Товарищи пролетарии, спасайся кто может». Али врут люди?
Он говорил и жадно следил за выражением Марииного лица.
Но зато в другом селе обоз взбудоражила весть: в Германии революция! И как будто речь шла о событии кровном, давно ожидаемом, все поздравляли друг друга и радовались.
Последний переход совершали ночью и под утро остановились в трех верстах от Воронежа. Мария чувствовала себя уже почти совсем здоровой и сразу пошла в город.
Осень была теплая. На деревьях еще держалась багряная листва. Расцвеченный косыми лучами солнца Воронеж предстал пред ней с одного из взлетов дороги россыпью тысяч позолоченных светом домишек – мирный и праздничный.
«Спят. Рано еще», – решила она и, как только могла скорее, пошла по дороге, не успокоившаяся, а, напротив, еще более встревоженная безмятежностью города.
Вдруг протяжно ударили залпы: «Бах… бах… бах…» И только замерло эхо, церкви отозвались колокольным звоном: «Тиль… тиль… тиль… бум… бум… бум…» Город был по-прежнему пустынен, а звон все не умолкал. «Налет, что ли, господи? – думала Мария. – Может, наши из него вовсе ушли? Или это у них каждый день начинается так?»
Мария стремилась теперь быстрее пробраться к центру, под защиту стен больших высоких домов. Внезапно она увидела забор, сплошь залепленный объявлениями. Она торопливо стала читать первые попавшиеся ей на глаза:
«Женщина! У тебя нет мужа, если он сбежал из Красной Армии!»
«Если красное знамя реет,
Если люди дорвались до света,
Это дело красноармейца —
Первой опоры Совета…»
«Коллегия отдела детского питания Совдепа выдает детям до 14 лет бесплатные завтраки в бесплатной столовой. Желающие могут записаться в отделе социального обеспечения, причем требуется представить удостоверение об имущественном и семейном положении от фабрично-заводской, профессиональной и т. п. организации».
«Тут еще советское все!» – со слезами радости решила она и пошла дальше.
Теперь ей стали попадаться люди. Почти все мужчины были с красными бумажными цветками в петлицах и красными лентами на фуражках, немало было и женщин в ало-красных платках. И Мария снова стала недоумевать: «Всегда у них так?»
За ее спиной застучали копыта лошади. Мария отступила к заваленке деревянного домика, а верховой в широкой и длинной синей блузе, проскакав мимо, остановился на перекрестке, где уже толпились люди, привстал в седле и закричал:
Гей, да на площади, на улицы, люди труда,
На праздник дней великих Октября, все, все туда,
Где гордо реет коммуны красное знамя,
Знамя битвы труда с капиталом, восстания пламя…
Прокричав это, он рванул повод и поскакал дальше. Мария проводила его изумленными глазами. «Да, видимо, это у них каждое утро так! – опять подумала она, но уже утвердительно и с радостным восхищением. – В самом деле, чего же праздновать, когда казаки на город идут? А может, отбили их?..»
Два голоса переговаривались за забором.
– Диво какое, – дребезжал старушечий голос. – Советы празднуют, и в церквах звонили…
– Празднуют пролетарии, рабочие. Это им звонят, – отвечал голос молодой и звонкий.
– Дуреха какая! Целый год в няньках, а до сих пор неотесанная. Чего ж празднуют?
– Не знаете? Празднуют потому, что власть себе год тому назад взяли.
– Ах ты дрянь! Тебе еще покажут власть!
Колокольный перезвон уже утихал, но на смену ему близилась музыка. Мария огляделась. Дом напротив украшал кумачовый плакат: «Да здравствует всемирная коммуна!» Возле него стояли красноармеец и женщина. Мария подошла к ним. Солдат объяснял женщине:
– Коммуна – это, матушка, когда собственности не будет. У тебя, к примеру, есть хлеб, вот ты и дашь мне пожрать.
– Тебе-то чего ради дам?
– А у меня будет, я тебе дам!
– Хле-еба, – протянула женщина. – У меня дома трое на пшене сидят. Ты уж первый дай, – она увидела узелок в руках Марии и спросила строго: – У тебя хлеб? На деньги даешь али меняешь?
– Вы меня спрашиваете? – растерялась Мария. – У меня нет ничего, что вы! У вас тут праздник очень большой. Я правильно поняла?
Женщина ей не ответила, да это уже и не было нужно, из-за угла вышла колонна людей с оркестром и красными флагами, а по бокам колонны бежали мальчишки. Под уханье труб и барабана раздавалось:
Друзья, вперед, друзья, вперед!
Союз наш пусть растет и крепнет…
Повинуясь чувству окрыляющей радости единения, Мария пристала к колонне и вместе с ней вышла на широкую улицу, украшенную красными флагами и полотнищами. На тротуарах здесь теснились люди. Но в колоннах пели, размахивали флажками, а эти люди были молчаливо-задумчивы, безучастны. Одеты они были гораздо лучше, чем те, что шли по мостовой. То тут, то там высились инженерские фуражки с молоточками. В колоннах пели:
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов…
И чем больше хмурых зрителей теснилось у домов и заборов, тем громче, решительней пели в колоннах.
– Этот праздник у вас такой замечательный, – начинает Мария, обращаясь к мужчине в шинели, который шагает рядом с ней.
Он перебивает ее:
– Туда смотри!
Они проходят мимо высокого здания. На нем красные полотнища, а в окнах большие портреты. Он указывает на один из них:
– Наш Ильич! Наш Ленин!
На портрете мужчина в кепке. Больше Мария ничего не успевает разглядеть. Людской поток уносит ее.
– Ленин? – повторяет она. – Это сам Ленин?
Мужчина в шинели бросается к колонне соседей и начинает вырывать древко одного из плакатов. Мария смотрит туда и ничего особенного не замечает: те же красные флаги и лозунги, такие же люди в рядах. Она читает плакат: «Долой Брест», «Адлер – освобожден, Либкнехт – на свободе. Выпустите Марию Спиридонову!»
«О чем это все? – думает она. – Кто все эти – Брест, Адлер, Спиридонова? Разве на сегодняшнем празднике могут быть недовольные? И какой плакат там вырывают из рук?»
Перед той колонной было полотнище: «Партия левых социал-революционеров», – но вырывали не это, а другое, на котором было написано: «Долой соглашательскую политику с империалистами!»
В людскую массу протискивается грузовой автомобиль, обтянутый красной материей. Какой-то человек кричит с него:
– Эй, что вы творите! Спешите на площадь! Оставьте в покое товарищей левых эсеров со всеми их лозунгами!
С автомобиля в колонны вихрем летят листовки.
Мария покидает ряды: надо выполнять поручение Ельцина.
Улицу, указанную на пакете, она нашла быстро и удивилась: здесь стояли ветхие деревянные домики, мостовая заросла травой, голые ветки старых яблонь свешивались через заборы.
Но когда она отыскала и дом, то по-настоящему испугалась. Это был не штаб и не контора, а кривобокая землянка в два подслеповатых окошка, в глубине дворика, заросшего ржавыми лопухами. Узенькая тропка вела от калитки к покосившейся двери.
Она постучала.
На пороге показалась старушка, до пяток закутанная в серый платок.
– Мне Антонину Сергеевну Зубавину, – сказала Мария нерешительно, уже уверенная в том, что произошла ошибка.
Старушка спокойно, не выражая ни радости, ни огорчения, смотрела на нее.
– Мне нужно Дорожникова, – произнесла Мария.
Старушка оживилась:
– Заходите! Заходите! Отдохните с дороги…
– Я лучше позже зайду, – сказала Мария и, быстро повернувшись, почти выбежала из дворика.
«Надо штаб искать, – думала она. – Там и про Степана спросить. Какого-нибудь командира встречу, ему и скажу. Надо было сразу так».
Впрочем, все устроилось иначе. Один красноармеец пригляделся к ее узелку, к неясно выпиравшей из него ручке гранаты, остановил Марию и в сопровождении толпы любопытных привел в большое здание с часовым у входа. Там она попала в кабинет к командиру по фамилии Трофимовский и, теряясь под его звенящими окриками, кое-как рассказала о судьбе отряда и о последнем распоряжении Ельцина.
Трофимовский пожал плечами, куда-то вышел, а когда вернулся, то уже совсем другим тоном, с улыбкой сказал, что Дорожников скоро придет. Только тут Мария подняла глаза на Трофимовского и увидела, что он очень молод, одет в кожаную куртку и галифе, что темно-коричневые волосы его вьются, а над верхней губой у него тонкие усики. Она поняла, что своей улыбкой он извиняется перед ней, и тоже улыбнулась.
Минут через двадцать пришел мужчина в черном потертом костюме. С Марией он поздоровался за руку, а Трофимовского, как старый знакомый, просто облапил за плечи и, когда тот качнулся, сказал:
– Но-но, не шарахайся, Виктор Сергеевич. Теперь нас с тобой Брестский мир разделяет, как раз то, что вы соглашательством с империалистами величаете. А коли Германия как империалистическое государство рухнет, что будет разделять?
Трофимовский норовисто вырвался из его рук и, уходя, ответил:
– Вы демагогию бросьте, тоже мне – товарищ Дорожников, – фамилию эту он произнес с ударением. – Свою политику по отношению к крестьянству вы куда денете?
Мария и Дорожников остались одни. Он придвинул к себе ее узелок, лежавший на столе, накрыл его ладонью и спросил так же простецки, как только что разговаривал с Трофимовским:
– Послушай, милая, мне твое лицо очень знакомо. Ты не луганская?
– Что вы! – воскликнула Мария, сразу же совершенно доверяясь ему. – Я из своего города никуда не уезжала. Это, может, вы брата моего знали – Степана Полтавченко. Он на меня похож. Он в шахтерском полку.
Лицо Дорожникова расплылось в улыбке:
– Постой, постой… Как же я тебя зараз не признал! Мы ж с тобой, родная, даже встречались однажды!
Мария встревожилась:
– Я вас не знаю, – проговорила она, глядя на него, и вдруг поняла, что уже действительно видела его когда-то.
Да. Видела. Глаза его видела, нос. Но только было это все у того самого нищего, которого она встретила, когда шла с Леонтием к Цукановской шахте! Но разве ж такое могло быть?
Спорить Дорожников не стал.
– Хорошо, пускай… И того довольно, что я с твоим Степаном и верно в одном полку служил!
– Степа здесь?
– В отъезде он. Дней через десять вернется, а ты пока подождешь. На паек поставим, ты не печалься! Обижать тоже не будем. Здесь на фабрике его жена работает. Ольгой зовут. Она, правда, кубанская, ну да вместе с ним отступила.
Мария всплеснула руками:
– Степка женился!
Дорожников внимательно посмотрел на нее – ей показалось, что он словно бы вдруг заподозрил ее в чем-то – и встал:
– А ты и не знала? Вот же как! – он взвесил в руке узелок, развязал его, отделил пакет от гранаты, сунул его в боковой карман, гранату осмотрел, попробовал, не съезжает ли предохранительное кольцо, положил в карман брюк, еще раз внимательно посмотрел на Марию. – Хочешь, я тебя к ней домой провожу?
– Ой! Да пойдемте ж! – воскликнула Мария. – Может, она и про Степу что знает?
– Одну минуту только, – Дорожников протянул руку к телефону. – Я позвоню, чтобы за пакетом пришли…
* * *
Ольги не было дома, но ее каморка в длинном и низком бараке оказалась открытой, и они вошли туда. Там стояли две узкие кровати, застланные серыми солдатскими одеялами, столик, покрытый газетой. Над столиком, рядом с зеркальцем, висели две фотографии. На одной Мария, на другой Степан под руку с невысокой, крепкого сложения и красивой женщиной в солдатской гимнастерке и стриженой. Ниже был наклеен плакат с постановлением Второго Кубанского съезда Советов от 14 апреля 1918 года. Марии бросились в глаза слова, обведенные красным карандашом: «Женщины-труженицы, мы восторгаемся вашей доблестью. Вы доказали перед всем миром, что вы, неприлично одетые и плохо воспитанные, выше умом и сердцем против одетых в шелка и бархат и получивших высшее светское образование. Слава вам, слава павшим! Живые, к новым битвам и победам… Да здравствует Красная социалистическая армия! Да здравствует социализм!»
Мария прочитала эти слова, и, когда потом снова взглянула на фотографию Степана с женой, ей показалось, что Ольга говорит всей своей позой и выражением лица: «А вот я такая и есть – неприлично одетая и не получившая высшего светского образования».
Дорожников тоже почитал постановление, посмотрел на фотографии, потом на Марию, сказал:
– На улице она. Такая разве дома усидит? Мы ж годовщину Октября празднуем. Назло всем врагам. Пошли и мы, что ли? Или устала? Еще бы! Ты ж всю ночь ехала, потом шла… Ложись лучше и спи с полным правом!
И как только дверь закрылась за ним, она повалилась на одну из коек.
* * *
Проснулась она, когда уже за окном было темно. Вышла на улицу. На углу светилась какая-то цепочка. Она подошла: разноцветные электрические лампочки горели на улице. На улице! Просто так! Такого она еще не видела.
Потом небо прочертили ракеты. Но что это такое, она уже знала.
Снова промчались наездники в синих блузах.
– Все! – кричали они. – Все на площадь Третьего Интернационала! Туда скрылась гидра контрреволюции! Спешите поймать и сжечь гидру!
Площадь Третьего Интернационала была совсем рядом. Странно, но в этом городе Мария никого не боялась. Ни от кого не сторонилась.
Она вышла на площадь. Грузовые автомобили, украшенные под огромные лодки, стояли здесь. В одной сидел Стенька Разин с товарищами. Это была праздничная лодка. Вокруг нее то и дело раздавалось «ура». В другой – сидели Краснов, Вильгельм, австрийский генерал и буржуй в цилиндре и фраке. Посреди площади на помосте высилась громадная ящерица о трех головах.
– Вот она самая – гидра! Бей ее, братцы! – кричали, сгрудившись возле этого помоста, красноармейцы. – Побьем да домой и поедем!..
Толпой Марию принесло к лодке с Вильгельмом. Он крутил усы.
– Покручивай! – кричали из толпы. – Скоро от тебя останутся рожки и ножки!
Длинный парень в белой рубахе и картузе, взобравшись на борт лодки, кричал почти в самое лицо Вильгельму:
– А где твой трон, гражданин Вильгельм? А? Ну где, гада ползучая?
Вильгельм молчал.
– Не сидеть тебе на нем больше! – торжествовал парень. – Не видеть его! Скоро отправят к Николашке. Небось соскучился?
– Соскучился! – выкрикнул Вильгельм и приложил к глазам платок.
– А ты знаешь, где сейчас Николашка твой? На том свете! И тебя отправим туда, раз соскучился, – не унимался парень, чем-то настолько похожий на Федорку, что Мария вдруг изумленно спросила себя: «Да не он ли это?»
Сегодня все могло быть. Оказался же Дорожников тем самым нищим, которого она встречала в своем родном городе!
Вдруг раздались крики «ура», площадь осветилась: загорелась гидра контрреволюции.
– Братцы, – услышала Мария молодой взволнованный голос. – А воевать-то с кем теперь, коли гидру спалили?.. Ой, да какая ж это чудная жизнь без войны будет!..
К Марии, смотревшей, как полыхает, прорываясь сквозь огромные, словно обручи, ребра гидры, огонь, подошел Дорожников, сказал с улыбкой:
– Здравствуй. Как тебе у нас? Нравится? Очень даже?.. Но чего ж это ты – такая красивая – и вдруг в одиночестве?
«Следил он за мной, что ли, все это время? – подумала Мария. – Но зачем я нужна-то ему?»
И в то же время ей было приятно, что здесь, в этой праздничной толпе, хоть кто-то знает ее, проявляет к ней интерес.
ГЛАВА 19
Поздно вечером 29 октября (11 ноября по новому стилю), Семен Варенцов только прилег на диване за ширмой в своем кабинете, как его снова подняли: из Новочеркасска прибыл курьер, привез пакет из атаманской канцелярии от генерала Родионова.
Растерев щеки руками, чтобы скорее сбросить с себя дремоту, Варенцов принял пакет, отпустил курьера. И долго сидел, перечитывая содержавшиеся в пакете две бумаги. Спать уже не хотелось.
«Донской епархиальный совет, принимая во внимание, что протоиерей Георгий Благовидов невольно оказался располагающим сведениями, являющимися высокой государственной тайной, соглашается с предложением об изоляции вышеупомянутого священнослужителя. Вместе с тем епархиальный совет доводит до сведения надлежащих лиц, что местом такой изоляции может являться только Соловецкий монастырь, куда о. Благо-видов и должен быть помещен без права совершать богослужения. Исполнение оного, как не подлежащее публичности, указанием атаманской канцелярии возлагается на контрразведывательное отделение…»
Соловки! Где эти Соловки! В Соловках давно сами монахи организовали трудовую коммуну. До Соловков тысячеверстное пространство Советов! Уж если даже он знал это, так неужели там, в Новочеркасске, все настолько потеряли голову?… Красные отбили удар на Воронеж. Как дальше повернется все дело, совершенно не ясно. Фронт держится, но истекают кровью казачьи войска, а эти там, в Новочеркасске, играют в мудрых и всемогущих. Подумать только! Ну какой тайной владеет Георгий Благовидов? На исповеди услышал бред выжившего из ума старца. Этот бред вдруг приняли за истину, соединили с «делом Бурдовина», и вот приказ: «Сослать попа в Соловки». Сослать на Луну!
А может, потому и сослать, чтобы не раскрыл, откуда все пошло? Краснов уже несколько раз говорил на заседаниях Войскового Круга о неких «новых технических средствах». Вот и надо запрятать концы.
Вторая бумажка была о том же.
«Ускорьте дело механика Бурдовина. Ответ нужен до 24-х часов. От него зависит планирование текущих операций по обороне железнодорожных подходов…»
Так и есть. Доболтались об этих «новых технических средствах».
Варенцов отшвырнул бумаги и приказал привести Бурдовина.
* * *
И вот он перед ним: седой, съежившийся, в пиджачке, в латаных брючонках. Тоже мне – чудотворец!
– Садитесь, – Варенцов кивает на стул.
Конвоиры уходят.
– Последний раз беседуем, – Варенцов говорит холодно, презирая себя за ту роль, которую играет в этой истории. – Одно из двух: или секрет свой раскроете, или…
Бурдовин, закрыв глаза, крутит головой:
– Не знаю я. Ничего не знаю.
– Вы подумайте, – продолжает Варенцов. – Вы можете Дон спасти. Услуга такая, что стоит задуматься.
Он говорит это, а сам уже в который раз думает: «А может, и верно не знает? В Новочеркасске профессора есть! У них спросили бы! Может, я и в самом деле невозможного требую? Я ж тогда перед ним дурак дураком! – он искоса приглядывается к Бурдовину: обросшее худое лицо, плотно сжатые губы, запавшие глаза. – А что, если и действительно никакого секрета у него нет?»
Но теперь эти мысли – не утешение. Приказ категорический: во что бы то ни стало заставить Бурдовина. «От этого зависит планирование текущих операций».
– Собирайся. Домой поедешь, – встретив недоверчиво враждебный взгляд Бурдовина, Варенцов умолкает.
Сколько он работает в контрразведке? Шесть месяцев. А он уже люто ненавидит всех этих шахтеров, слесарей, токарей, машинистов. И теперь он ясно понимает, почему: с ними всегда неизвестно, что они на самом деле не знают, не умеют, не могут, а что просто не хотят, не считают нужным исполнить. Бурдовин такой же. Он всегда подозревал это, но теперь знает точно.
– Аппараты соберешь и – на позиции. Бронепоезда красных не остановишь, как тогда, в Сергинской балке, тут же и кончишься. И сам, и дети, и старики. Всех соберем! – Варенцов почти с наслаждением увидел, что Бурдовин откидывается назад руками и головой, заходится в немом крике.
«Вот-вот, – думает он. – Стоит лишь хорошо приказать, стоит лишь найти человека, который сумел бы хорошо приказать, и все наладится. Ты, Семен, – такой человек».
Это была ложь, но такая необходимая ему сейчас, что он поверил в нее.
«Потому-то тебе и дали приказ из Новочеркасска… Но ведь тебе и про Соловки дали!..»
– А… а далеко красные? – спрашивает Бурдовин.
– Ждешь? Им все хочешь оставить?
– Хоть верьте, ваше благородие, хоть нет – это ж вы чуда просите. А я простым сплавлением металлов занимался. Чуда просите, – повторяет Бурдовин. – Силы-то нет, вам только тот и хорош, кто брешет да треплется. Так и меня обрехали, проклятые!
«Списать, – думает Варенцов. – Немедленно. Поставить на этом точку. Хватит дурачить себя! Это же самое страшное, когда себе самому начинаешь не верить».
* * *
На следующий день он поехал в Новочеркасск к генералу Родионову. Узнав о расстреле Бурдовина, тот поднялся из-за стола:
– Ты погубил Дон, – сказал он. – Ты отдал нас большевикам!
Однако в голосе его Варенцов не почувствовал настоящего гнева и, пожалуй, потому только решился возразить.
– Я Дон погубил? – спросил он. – Разговорами все хотят чудо творить, – он не заметил, что повторяет слова Бурдовина. – Все сулят: помощь придет, помощь придет, а от кого? От германцев? От французов? От англичан? Грабить все только горазды.
Родионов вдруг хватил кулаком по столу.
– Правильно! Всегда они нас продавали!
Варенцов вышел в коридор, оперся плечом о стену: «Та-ак. Что ж происходит? Как это все понять?»
Адъютант Попова выглянул из двери:
– Семен Фотиевич! Срочный документ поступил. Зайдите немедленно ознакомиться…
* * *
Под утро он вернулся в город, с вокзала приехал на извозчике прямо домой, не снимая шинели и фуражки, вошел в столовую. Фотий Фомич завтракал. Варенцов швырнул на тарелку с закуской сложенный вчетверо лист.
– Читайте, папаша! – не сказал, а крикнул он и с размаху бросился на мягкий стул.
Фотий Фомич достал очки, взял лист.
«Телеграммы. По официальным сообщениям, полученным поздно вечером, 29 октября в 11 часов утра заключено перемирие на западно-германском фронте. Германия приняла все условия мира, предъявленные союзниками».
Фотий Фомич поджал губы:
– Ну что ж…
– Дальше читайте!
«За границей. Отреченье германского императора. По полученным в Новочеркасске официальным сведениям, император Вильгельм и кронпринц отреклись от престола. Союзники предъявили требование Совнаркому о немедленной полной капитуляции всех красных».
Фотий Фомич опустил руки с листом сообщения и задумался.
Варенцов вдруг ужаснулся:
– Что же вы молчите, папаша! Вырежут нас большевики, – он наклонился к отцу. – Между двух стенок окажемся: революция в Германии. Совет там организован, большевики власть берут.
Фотий Фомич отбросил лист с телеграммами:
– Когда случилось?
– Несколько дней уже. Специально телеграммы задерживали.
– С Леонтием Шороховым говорил?
Варенцов смотрел на отца, не понимая.
– Я же просил тебя намек ему сделать: «Если сватов не зашлешь, следствие будет, куда брат скрылся». Шуткой намекнуть.
– Так он же не казак, папаша! В хохлы родную дочь отдаете!
– А мы его к себе в дом возьмем. С нами будет жить. И в казаки припишем. Не сейчас, а то припиши – вы его в солдаты забреете, – он тяжело вздохнул. – Я б и тебя сейчас с радостью в иногородние переписал.
– Чего с ним говорить теперь! Протрата у него. За бесценок все продает.
– Давно начал?
– С неделю.
– На какие рубли продает?
– На николаевские!
– Так какая же это протрата? Да ему из Новочеркасска про эти ваши телеграммы кто-то раньше, чем вам всем, сообщил. Только и дела! – Фотий Фомич пододвинул сыну стакан. – Чего хмурый такой? Выпей, полегчает! – он ткнул пальцем в телеграммы. – Про союзников – правда? Или сами придумали? Сами, конечно. Донское агенство постаралось… Эти телеграммы куда?
– Для «Городского листка».
– Задержи.
– Как это задержи, папаша? Это не николаевские времена, когда полицмейстер телеграммы по своему произволу задерживал. Вы в Донском государстве живете!
Фотий Фомич взорвался:
– Донское… Государство… Нету государства Донского. Что я, слепой? Ни законов, ни денег. Как же! Монополию на пшеницу установили: десять рублей пуд! Сами увидите: кто ж это за ваши деньги по десять рублей пшеницу продаст? Что купишь на ваши деньги?.. То и дело в газетах пишете: «В Турции революция! В Португалии революция! В Германии беспорядки! Болгарский король отрекся!..» С таким, как Леонтий Шорохов, породниться – это потом дело спасти. Парень не трепаный, не пьяница, из себя хорош, Дуське нравится…
– Да поймите, папа, завтра же из Новочеркасска «Донские ведомости» с почтой придут!
– До завтра задержи. Чтобы сегодня в городе официально не знали.
– Что вы затеяли, папаша?
Фотий Фомич молча кусал желтый кривой ноготь на большом пальце правой руки, отдавленном еще в молодости шахтным воротом.
– Что вы затеяли, папаша? – Повторил Варенцов.
Старик не отвечал.
– Я стыжусь того, что я сын ваш! – зашипел Варенцов. – Это родина моя! Вы ее предать хотите? Хотите панику сеять?
Фотий Фомич презрительно взглянул на него:
– Крой меня! Крой! Мало я за тебя взяток давал, чтобы ты в своей контрразведке остался?
– Какие взятки?
– Одиннадцать тысяч стоило, чтобы тебя после Сергинского взрыва в полк не перевели. И не донскими бумажками, вроде тех, которыми братья Парамоновы в Ростове пожертвовали по пять тысяч с носа – тоже мне, миллионщики! «Катериненками»! Они раз в десять дороже ходят!
– Вы врете, батя!
Фотий Фомич деловито встал, повернулся в красный угол, к иконам, перекрестился:
– Истинный крест, – он опять сел и обратился к сыну: – У нас с тобой есть родина – великий Дон. А капиталу родина там, где его не обесценят. Весь наш капитал сейчас в расписках германского казначейства.
Варенцов смотрел перед собой застывшими глазами.
– Я согласен и тут помирать. Но чтобы весь мой труд и твой труд в труху?.. Задержи телеграммы – продадим хоть чего-нибудь. Не задержишь – нищими будем.
Варенцов смял телеграммы, сжал их в кулаке:
– Кому деньги давали?
– За что?
– З-з, – судорога свела его рот.
Он знал: отец заплатил кому-то из окружения Попова и Родионова. Потому-то бурдовинское дело и раздували. Попов, конечно, еще и себя спасал, гнев атаманский отводил, ну и возможно, что вполне искренне принимал желаемое за действительное. Таким же образом, вероятно, и атаман поступал. Верил в то, во что хотел верить.
– Кому за меня деньги давали? – снова спросил он.
– О! Мало ль кому! За деньги теперь на Дону все можно купить. Хочешь – и небо продадут, и воду, и степь. Бродячее государство стало. Такого и при Николае не было. Тогда земля тверже золота по ценам стоила. А теперь только и дорого то, что с собой унести можно, – он внимательно посмотрел на сына. – Обидно? Ударил больно? А ты выпей. Легче будет.
– А разве не обидно, папаша? Я когда в контрразведку пошел, верил: мне самое святое доверили. Разве доверили? Куплено!
Здесь же, за столом, Варенцов и заснул. Его перенесли в спальню. Фотий Фомич запер телеграммы в несгораемый ящик и поспешно покинул дом.
* * *
Вечером в ресторане «Московский» Варенцов встретил знакомых офицеров. Ресторан числился образцовым, по требованиям военного времени это значило, что подавали в нем только легкое виноградное вино, но нервы всех были так напряжены из-за слухов о революции в Германии и уходе немецких войск из России, что когда кто-то из офицеров предложил пойти «попугать» большевиков в следственной тюрьме, это подхватили с радостью.
Подчиняясь приказу Варенцова, тюремный караул пропустил их. Ворвались в первую попавшуюся камеру – тюрьма была раньше семинарским общежитием, на тюрьму походила только толстыми стенами да решетками на окнах с разбитыми стеклами – начали стрелять в лежащих на полу людей.
В соседних комнатах запели «Интернационал», разломали нары и досками стали выбивать решетки на окнах. Кто-то крикнул уже во дворе тюрьмы: «Да здравствует революция!» Тогда к варенцовской компании присоединилась охрана. Стреляли не разбирая, кто бежит, кто нет.
Варенцову все это показалось вдруг непереносимо мерзким. Он ушел.
Около здания купеческого клуба он увидел Леонтия.
– А-а, ш-шурин! – приветствовал его Варенцов.
– Это вы шурином будете, – ответил Леонтий с обычной своей легкой улыбкой. – Не обязательно моим, а чьим-нибудь.
– А твоим нет? Породниться не хочешь?.. И пр-ра-вильно! Дуська – чистоплюйка, а по мне уж… Цена мне одиннадцать тысяч! Покупай! – он рванул Леонтия за шалевый воротник бобрикового пальто. – Р-радуешься, подлец? Нич-чего. Германцы уйдут – англичане, французы помогут. А мы им – дулю.
– Мне пока радоваться нечему, – ответил Леонтий.
Он взял Варенцова за руки.
– Отпусти, – прохрипел тот.
– Не надо, Семен Фотиевич, – продолжал Леонтий с прежней мягкостью в голосе, но рук не отпускал. – Чему мне радоваться? В каждой избушке свои пирушки.
– Ко мне пойдем! Батька побежал революцию в Германии обгонять, а мы выпьем!
– Что вы сказали? Какая революция?
Варенцов укоризненно покачал головой:
– А ты и не знал? Ну чего брешешь? Ты раньше всех в городе это знал, когда распродажу повел. Нам ведь все известно. У тебя там, – он махнул рукой на юг, в сторону Новочеркасска, – рука есть. Ну скажи, скажи…
– Есть и рука, – ответил Леонтий, с радостью глядя не в ту сторону, куда указал Варенцов, а в другую, на запад.
Варенцов разглядел эту радость на его лице и спросил:
– Радуешься, что добро свое спас? Шкуры вы, шкуры. Ну и я тоже – шкура.
Леонтий пожал плечами – уже спокойный, слегка улыбающийся, уверенный в себе.







