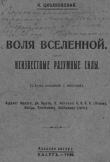Текст книги "Мир как воля и представление"
Автор книги: Артур Шопенгауэр
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
Таким образом, знание – это абстрактное сознание, это – закрепление в понятиях разума того, что познано иным путем.
§ 11
В этом отношении действительной противоположностью знания является чувство, почему мы и должны здесь его рассмотреть. Понятие, обозначаемое словом чувство, всегда имеет только отрицательное содержание, а именно: нечто, данное в сознании, не есть понятие, не есть абстрактное познание разума. Чем бы оно затем ни было, оно всегда относится к понятию чувства, неизмеримо-широкая сфера которого заключает в себе самые разнородные вещи; и мы до тех пор не поймем, как они сходятся между собой, пока не узнаем, что они совпадают только в этом отрицательном отношении, в том, что они не абстрактные понятия. Ибо в указанном понятии мирно располагаются друг подле друга самые различные, даже враждебные элементы, например, религиозное чувство, сладострастие, моральное чувство, физические чувства – такие, как осязание, боль, чувство красок, звуков, их гармонии и дисгармонии; далее, ненависть, отвращение, самодовольство, честь, стыд, чувство справедливого и несправедливого, чувство истины, эстетическое чувство силы, слабости, здоровья, дружбы, любви и т. д. и т. д. Между ними нет решительно ничего общего, кроме той отрицательной черты, что они – это не абстрактное познание разума. Но еще поразительнее, что под понятие чувства подводится даже наглядное, априорное познание пространственных отношений и всякое познание чистого рассудка, и вообще, о каждом познании, о каждой истине, которые вначале мы сознаем лишь интуитивно, но не уложили еще в абстрактные понятия, говорится, что мы чувствуем их. Для пояснения я приведу из новейших книг несколько примеров, ибо они замечательно подтверждают мое определение. Помнится, в предисловии к одному немецкому переводу Евклида я читал, что приступающих к геометрии надо, не прибегая пока к доказательствам, заставлять чертить все фигуры, ибо в таком случае они заранее уже чувствуют геометрическую истину, прежде чем доказательство приведет их к полному познанию. Точно так же в «Критике учения о нравах» Ф.Шлейермахера говорится о логическом и математическом чувстве (стр. 339), о чувстве равенства или различия двух формул (стр. 342). Далее, в «Истории философии» Теннемана (стр. 361) мы читаем: «Чувствовалось, что ложные заключения были неверны, но нельзя было обнаружить ошибки».
Пока у нас не установится правильного взгляда на понятие чувства и пока мы не заметим того отрицательного признака, который один только и существен для него, – до тех пор это понятие, благодаря чрезмерной широте своей сферы и своему чисто отрицательному, совершенно одностороннему и весьма незначительному содержанию, постоянно будет давать повод для недоразумений и споров. Так как у нас есть еще почти равнозначащее слово ощущение (Empfindung), то было удобно пользоваться им как разновидностью для выражения физических чувств. Что же касается происхождения этого понятия чувства, непропорционального относительно всех других, то оно несомненно следующее. Все понятия (а только понятия и выражаются словами) существуют исключительно для разума, исходят из него; следовательно, они сразу ставят нас уже на одностороннюю точку зрения. А с такой точки зрения ближайшее кажется ясным и определяется положительно, более же отдаленное сливается и вскоре получает в глазах наблюдателя лишь отрицательный характер. Так, каждая нация называет все другие чужеземными, грек всех остальных именует варварами, для англичанина все, что не Англия и не английское, – continent и continental; верующий называет всех других еретиками или язычниками; для аристократа все другие – roturies [разночинцы], для студента все остальные – филистеры, и т. п. В той же односторонности, можно сказать – в том же грубом невежестве гордыни повинен, как это ни странно звучит, и самый разум, потому что он включает в одно понятие чувства всякую модификацию сознания, если только она не принадлежит непосредственно к его способу представления, – иначе говоря, не есть абстрактное понятие. Эту вину разум, не уяснив себе своего образа действия путем глубокого самопознания, должен был до сих пор искупать ценою недоразумений и блужданий в собственной области, ведь была придумана даже особая способность чувства и строились ее теории.
§ 12
Знание, в качестве контрадикторной противоположности которого я только что представил понятие чувства,[64]64
Контрадикторная противоположность – отношение между противоречивыми суждениями (понятиями), когда они оба вместе не могут быть одновременно ни истинными, ни ложными: одно из них истинно, другое ложно; третьего не может быть. У Шопенгауэра – в переносном смысле: применительно к отношению взаимоисключения между рациональным и чувственным познанием, образующегося в теории из-за расплывчатости самого понятия чувства.
[Закрыть] это, как уже сказано, – всякое абстрактное познание, т. е. познание разумом. Но так как разум всегда возвращает познанию лишь нечто уже воспринятое иным путем, то он, собственно, не расширяет нашего знания, а только придает ему другую форму. А именно, то, что было познано интуитивно, in concrete, благодаря ему познается в абстрактном и общем виде, а это несравненно важнее, чем высказанное в такой форме кажется на первый взгляд. Ибо прочное сохранение познанного, возможность его передачи, уверенное и широкое применение на практике всецело зависят от того, что познанное сделалось знанием, получило абстрактный характер. Интуитивное познание всегда относится только к частному случаю, касается только ближайшего и на нем останавливается, ибо чувственность и рассудок могут одновременно воспринимать, собственно, лишь один объект. Всякая продолжительная, связная, планомерная деятельность должна поэтому исходить из основных принципов, т. е. из абстрактного знания, и ими руководствоваться.
Так, например, познание, имеющееся у рассудка об отношении между причиной и действием, само по себе гораздо совершеннее, глубже и содержательнее, чем то, что можно мыслить об этом in abstracto: только рассудок познает наглядно, непосредственно и совершенно, как действует рычаг, палиспаст, шестерня, как сам собою держится свод и т. д. Но вследствие только что затронутого свойства интуитивного познания – обращаться лишь к непосредственно данному, одного рассудка недостаточно для построения машин и зданий; здесь должен приняться за дело разум, заменить созерцания абстрактными понятиями, сделать их путеводной нитью в своей деятельности, и если они верны, то успех обеспечен. Точно так же в чистом созерцании мы в совершенстве познаем сущность и закономерность параболы, гиперболы, спирали, но чтобы сделать из этого познания верное приложение к действительности, его необходимо сначала превратить в абстрактное знание. При этом хотя оно и потеряет наглядность, но приобретает зато достоверность и определенность абстрактного знания. Таким образом, все дифференциальное исчисление не расширяет, собственно, нашего знания о кривых, не содержит ничего сверх того, что уже было в чистом созерцании их; но оно изменяет характер познания, превращая интуитивное в абстрактное, что оказывается необычайно плодотворным в применении. Здесь, однако, необходимо упомянуть еще об одном свойстве нашей познавательной способности, – его не могли заметить до тех пор, пока не было вполне уяснено различие между наглядным и абстрактным познанием. Свойство это заключается в том, что отношения пространства как таковые нельзя непосредственно перенести в абстрактное познание, но для этого пригодны только временные величины, т. е. числа. Только числа могут быть выражены в точно соответствующих им абстрактных понятиях, но не пространственные величины. Понятие тысячи так же отличается от понятия десяти, как обе временные величины отличаются в созерцании; в тысяче мы мыслим число, в определенное количество раз большее десяти, и мы можем для созерцания во времени произвольно разложить эту тысячу на десятки, т. е. счесть ее. Но между абстрактными понятиями мили и фута, без наглядного представления о них и без помощи числа не существует точного различия, соответствующего самим этим величинам. В обоих понятиях мыслится только пространственная величина вообще, и для того чтобы достаточно различить их, необходимо либо призвать на помощь пространственное созерцание, т. е. покинуть уже область абстрактного познания, либо же помыслить это различие в числах. Таким образом, если мы хотим иметь абстрактное знание о пространственных отношениях, то их нужно перенести сначала во временные отношения, т. е. в числа. Поэтому только арифметика, а не геометрия является общей наукой о величинах, и геометрия должна быть переведена в арифметику, если ее хотят сделать удобной для изложения другим и сообщить ей точную определенность и приложимость на практике. Правда, и пространственное отношение как таковое можно мыслить in abstracto, – то, например, что синус увеличивается соответственно углу; но если требуется указать величину этого отношения, необходимо число. Необходимость переводить пространство с его тремя измерениями во время, имеющее только одно измерение, если мы хотим иметь абстрактное познание (т. е. знание, а не просто созерцание) пространственных отношений, – эта необходимость и делает столь трудной математику. Это станет очень ясно, если сравнить созерцание кривых с аналитическим вычислением их, или хотя бы только таблицы логарифмов тригонометрических функций – с созерцанием изменяющихся отношений между частями треугольника, выражаемых этими таблицами. То, что созерцание вполне и с предельной точностью схватывает здесь с первого взгляда, например, как уменьшается косинус с увеличением синуса, как косинус одного угла является синусом другого, обратное соотношение между уменьшением и увеличением обоих углов и т. д., – все это потребовало бы огромной ткани чисел и утомительного вычисления, чтобы выразиться in abstracto. Можно сказать: какие муки должно вынести время со своим одним измерением, чтобы передать три измерения пространства! Между тем это необходимо, если мы хотим ради практических целей, чтобы пространственные отношения были фиксированы в абстрактных понятиях: первые могут выразиться в последних не непосредственно, а лишь через посредство чисто временной величины, числа, которое одно непосредственно пригодно для абстрактного познания. Замечательно еще и то, что, если пространство вполне подходит для созерцания и при помощи своих трех измерений позволяет легко обозреть даже сложные отношения, оказываясь, однако, недоступным для абстрактного познания, то время, наоборот, легко укладывается в отвлеченные понятия, зато очень мало дает созерцанию: наше созерцание чисел в их самобытной стихии, чистом времени, без привлечения пространства, едва доходит до десяти, – за этими пределами мы имеем уже только абстрактные понятия, а не наглядное познание чисел; с другой стороны, с каждым числительным и со всеми алгебраическими знаками мы соединяем точно определенные абстрактные понятия.
Заметим, кстати, что некоторые умы находят себе полное удовлетворение только в наглядном познании. Наглядно представленные основание и следствие бытия в пространстве – вот то, чего они ищут; евклидовское доказательство или арифметическое решение пространственных задач их не удовлетворяет. Другие умы, наоборот, требуют абстрактных понятий, только и пригодных для пользования и изложения: у них есть терпение и память для абстрактных тезисов, формул, доказательств в длинной цепи умозаключений и для вычислений, знаки которых являются заместителями самых сложных абстракций. Последние умы стремятся к определенности, первые – к наглядности. Разница характерна.
Высшая ценность знания, абстрактного познания, заключается в том, что его можно передавать другим и, закрепив, сохранять: лишь благодаря этому оно делается столь неоценимо важным для практики. Иной может обладать в своем рассудке непосредственно наглядным познанием причинной связи между изменениями и движениями физических тел и находить в нем полное удовлетворение; но чтобы знание его могло быть сообщено другим, его нужно сначала закрепить в понятиях. Даже для практических целей познания первого рода достаточно, если его обладатель берет его применение всецело на себя и притом в действии вполне выполнимом, пока наглядное познание остается еще живым; но такого познания недостаточно, когда есть нужда в чужой помощи или когда даже собственные действия должны совершиться в разные промежутки времени и, следовательно, требуют обдуманного плана. Например, опытный игрок в бильярд может только в рассудке, только в непосредственном созерцании обладать полным знанием законов столкновения эластических тел между собою, и этого ему совершенно достаточно; но действительным знанием этих законов, т. е. познанием in abstracto, обладает только ученый механик. Даже для устройства машин достаточно такого чисто интуитивного познания рассудком, если изобретатель машины сам ее строит, как это часто делают талантливые ремесленники без всяких научных сведений. Если же, наоборот, для выполнения механической операции, машины, здания есть нужда в нескольких людях и в их сложной работе, начинающейся в разные моменты времени, то руководитель подобной совместной деятельности должен составить себе in abstracto ее план, и она возможна только при помощи разума. Замечательно, однако, что в деятельности первого рода, там, где кто-нибудь должен выполнить известное действие единолично и без перерывов, знание, применение разума, рефлексия часто могут даже мешать, например, при игре в бильярд, фехтовании, настройке инструмента, пении. В таких случаях деятельностью должно непосредственно руководить наглядное познание, рефлексия же делает ее неуверенной, рассеивая внимание и сбивая человека с толку. Вот почему дикари и необразованные люди, мало привычные к размышлению, выполняют известные физические упражнения, например, борьбу с животными, метание стрел и т. п., с такой уверенностью и быстротой, которые недоступны для рефлектирующего европейца, – именно потому, что рефлексия заставляет его колебаться и медлить. Он старается, например, определить подходящее место, улучить надлежащий момент между обеими неверными крайностями; человек природы находит все это непосредственно, не думая ни о чем постороннем. Точно так же нет для меня проку в том, что я умею определить in abstracto, в градусах и минутах, угол, под которым надо накладывать бритву, если я не знаю его интуитивно, держа бритву в руке. Так же мешает разум и пониманию человеческого лица: и оно должно совершаться непосредственно рассудком, недаром говорят, что выражение, смысл физиономии можно только чувствовать, т. е. они не растворяются в абстрактных понятиях. Каждый человек обладает своей непосредственной интуитивной физиогномикой и патогномикой, но один распознает эту signatura rerum [означенность вещей] отчетливее, чем другой. Учить же и учиться физиогномике in abstracto нельзя, ибо оттенки здесь столь тонки, что понятие не может опуститься до них. Поэтому абстрактное знание так относится к ним, как мозаичная картина к Ван дер Верфту или Деннеру: подобно тому как при всей тонкости мозаики границы камешков всегда явны и поэтому невозможен постепенный переход от одного цвета к другому, так и понятия, в своей неподвижности и резких очертаниях, как бы тонко ни раскалывать их ближайшими определениями, никогда не могут достигнуть тонких модификаций созерцаемого, между тем именно в последних и заключается вся сущность указанной мною для примера физиогномики.[65]65
Я поэтому держусь того мнения, что точность физиогномики не может идти дальше установления нескольких вполне общих законов, например, таких: по лбу и глазам можно прочесть интеллектуальное, по губам и нижней половине лица – этическое проявления воли; лоб и глаза взаимно уясняют друг друга, и каждая из этих черт, наблюдаемая без другой, понятна только вполовину; гениальность никогда не бывает без высокого, широкого, прекрасно округленного лба, но последний часто бывает и без нее; по умному выражению тем вернее заключать об уме, чем некрасивее лицо, и по глупому выражению тем вернее заключать о глупости, чем лицо красивее, ибо красота как соответствие человеческому типу уже сама заключает в себе выражение духовной ясности, безобразие же имеет противоположный характер и т. д.
[Закрыть]
Именно это свойство понятий, которое делает их похожими на камешки мозаичной картины и благодаря которому созерцание всегда остается их асимптотой, – это свойство является причиной того, почему с их помощью нельзя достигнуть ничего хорошего в искусстве. Если певец или виртуоз будет руководиться рефлексией, он останется мертв. То же относится к композитору, к художнику и даже к поэту; понятие всегда бесплодно для искусства и может управлять только техникой его, сфера понятия – наука. В третьей книге мы подробнее исследуем, почему настоящее искусство всегда исходит из наглядного познания, а не из понятия. Даже в обращении, в личной приветливости обхождения понятие играет только ту отрицательную роль, что сдерживает грубые вспышки эгоизма и животности, почему вежливость и является его созданием, достойным всяческой похвалы. Однако привлекательность, грация, пленительность в обращении, любовь и дружба не должны вытекать из понятия, иначе Намеренность расстраивает все.[66]66
Гете. Торквато Тассо II, 1. – Пер. С.Соловьева.
[Закрыть]
Всякое притворство – дело рефлексии; но долго и без перерыва его не выдержать: nemo potest personam diu ferre fictam,[67]67
Никто не может долго носить личины.
[Закрыть] говорит Сенека в книге De dementia; большей частью оно тогда распознается и не достигает своей цели. В трудные моменты жизни, когда нужны быстрые решения, смелые поступки, скорая и верная сообразительность, разум, конечно, необходим; но если он получит преобладание и своими сомнениями задержит интуитивный, непосредственный, чисто рассудочный выбор в понимании должного, он вызовет нерешительность и легко может все испортить.
Наконец, и добродетель и святость тоже исходят не из рефлексии, а из внутренней глубины воли и ее отношения к познанию. Разъяснение этого относится к совершенно другому месту настоящей книги, здесь же я позволю себе заметить только то, что нравственные догматы могут быть одни и те же в разуме целых народов, но поступает каждый индивид по-своему; и наоборот, поступки, как говорится, основаны на чувствах, т. е. как раз не на понятиях, – если иметь в виду их этическое содержание. Догматы занимают досужий разум; поступок в конце концов идет своим путем, независимо от них, и совершается он большей частью не по абстрактным, а по невысказанным максимам, выражением которых является именно сам человек в его целостности. Поэтому, как ни различны религиозные догматы народов, у всех добрый поступок сопровождается невыразимым довольством, а дурной – бесконечным отвращением; первого не колеблет никакая насмешка, от последнего не разрешит никакое отпущение духовника. Однако отсюда не следует, что для осуществления добродетельной жизни не нужно участие разума, но только он – не источник ее. Его функция подчиненная: он хранит однажды принятые решения, стоит на страже принципов, противодействуя минутным слабостям и сообщая последовательный характер нашим поступкам. К этому же, в конце концов, сводится и его роль в искусстве: здесь он так же бессилен в существенном, но помогает выполнению замысла, ибо гений проявляется не каждую минуту, а произведение все же должно быть завершено во всех частях и округлено в одно целое.[68]68
Сюда относится 7 гл. II тома.
[Закрыть]
§ 13
Все эти соображения как о пользе, так и о вреде применения разума должны уяснить, что хотя абстрактное знание и представляет собой рефлекс наглядного представления и основывается на нем, оно тем не менее не настолько совпадает с последним, чтобы всюду могло изменять его; напротив, между ними никогда нет полного соответствия. И хотя, как мы видели, многие из человеческих деяний осуществляются только с помощью разума и по обдуманному плану, однако некоторые из них лучше совершать без такой помощи. Именно то несоответствие наглядного и абстрактного познания, благодаря которому последнее лишь приближается к первому, как мозаика к живописи, лежит в основе весьма замечательного явления, которое, как и разум, свойственно исключительно человеку, но все объяснения которого, несмотря на все новые и новые попытки, до сих пор остаются неудовлетворительными: я имею в виду смех. В силу этого происхождения смеха мы не можем обойтись здесь без его объяснения, хотя оно и явится новой задержкой на нашем пути.
Смех всегда возникает из неожиданного осознания несовпадения между известным понятием и реальными объектами, которые в каком-либо отношении мыслились в этом понятии, и сам представляет собой лишь выражение этого несовпадения. Последнее часто происходит оттого, что два или несколько реальных объектов мыслятся в одном понятии и тождество его переносится на них; и вот тогда полное несходство их во всем остальном обнаруживает, что данное понятие подходило к ним лишь с какой-то одной стороны. Так же часто внезапно ощущается и несовпадение уникального реального объекта с тем понятием, под которое он в одном отношении подводится правильно. Чем вернее поэтому подводятся такие реальности под известное понятие в каком-нибудь одном отношении и чем больше и очевиднее их несоответствие с ним в других отношениях, тем сильнее вытекающий из этой противоположности эффект смешного. Всякий смех, таким образом, возникает по поводу парадоксального и потому неожиданного подведения – все равно, выражается оно в словах или в поступках. Таково вкратце правильное объяснение смешного.
Я не буду останавливаться здесь на передаче анекдотов, которые могли бы в качестве примеров поддержать мое объяснение, ибо оно столь просто и понятно, что не нуждается в них, и подтверждением его точно так же может служить любое из смешных воспоминаний читателя. Но опору и вместе с тем разъяснение наша теория находит в существовании двух родов смешного, на которые оно распадается и которые понятны именно из нашего толкования. Либо в сознании возникают два (или несколько) очень различных реальных объекта, наглядных представления, и их намеренно отождествляют в единстве понятия, обнимающего оба предмета: этот род смешного называется остротой. Либо, наоборот, понятие первоначально находится в сознании, и от него переходят к реальности и к воздействию на нее – поступку; объекты, во всем различные, но одинаково мыслимые в этом понятии, рассматриваются и трактуются одинаковым образом, пока перед изумленным и пораженным деятелем не обнаружится их полное различие в остальных отношениях: этот род смешного называется глупостью. Итак, все смешное – это или остроумная выдумка, или глупый поступок, смотря по тому, совершился ли переход от несовпадения объектов к тождеству понятия или наоборот: первое всегда делается намеренно, последнее всегда происходит непроизвольно и по внешнему принуждению. Изменять же для виду исходный пункт и выдавать остроту за глупость составляет искусство придворного шута и Гансвурста:[69]69
Гансвурст (нем., «Ганс-колбаса») – комический персонаж немецкого народного театра.
[Закрыть] отлично сознавая различие объектов, он все-таки объединяет их тайным остроумием в одно понятие и, исходя из него, испытывает от обнаруживающегося затем различия объектов то изумление, которое он сам же и приготовил себе. Из этой краткой, но удовлетворительно изложенной теории смешного вытекает, что (оставляя в стороне случай шута) остроумие всегда должно выражаться в словах, глупость же преимущественно в поступках; впрочем, она проявляется и в словах, когда она лишь высказывает свое намерение, не осуществляя его в действительности, или обнаруживает себя в одних только суждениях и мнениях.
К глупости относится также педантизм. Он происходит от того, что человек, не очень доверяя собственному рассудку, не решается предоставить ему в каждом отдельном случае непосредственное познание должного, всецело отдает его под опеку разума и хочет руководиться последним, т. е. всегда исходить из общих понятий, правил, принципов и строго держаться их в жизни, в искусстве и даже в этическом поведении. Отсюда свойственная педантизму приверженность к форме, манере, выражению и слову, которые заменяют для него существо дела. Здесь скоро обнаруживается несовпадение понятия с реальностью, обнаруживается, что понятое никогда не опускается до частностей, что его всеобщность и строгая определенность никогда не могут вполне подходить к тонким нюансам и разнообразным модификациям действительности. Педант поэтому со своими общими принципами почти всегда оказывается в жизни слишком узким; он не умен, безвкусен, бесполезен; в искусстве, где понятие бесплодно, он порождает нечто безжизненное, натянутое, манерное. Даже в морали решимость поступать справедливо или благородно не везде может осуществляться согласно абстрактным принципам; во многих случаях бесконечно тонкие нюансы обстоятельств вызывают необходимость в непосредственно вытекающем из характера выборе должного, между тем как применение чисто отвлеченных принципов, пригодных лишь наполовину, отчасти дает ложные результаты, а отчасти и совсем невозможно, так как они чужды индивидуальному характеру действующего лица, от которого никогда нельзя отрешиться. Вот почему и бывает непоследовательность. Мы не можем вполне освободить Канта от упрека в поощрении морального педантизма, поскольку условием моральной ценности поступка он считает его происхождение из чисто разумных абстрактных принципов, помимо всякой склонности или минутного порыва. В таком упреке заключается и смысл шиллеровской эпиграммы «Угрызение совести».[70]70
Эта эпиграмма звучит следующим образом:
Сомнение совести
Ближним охотно служу, но – увы! – имею к ним склонность.Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я? Решение
Нет другого пути: стараясь питать к ним презреньеИ с отвращеньем в душе, делай, что требует долг. (Шиллер И.Х.Ф. Собр. соч: В 8-и т. Т. I. – М.; Л., 1937. С. 164).
[Закрыть] Когда, особенно в политике, речь идет о доктринерах, теоретиках, ученых и т. п., то имеются в виду педанты, т. е. люди, которые знают вещи in abstracto, но не in concrete. Абстракция заключается в мысленном устранении частных определений, тогда как на практике именно они играют важную роль.
Для полноты теории надо упомянуть еще незаконный вид остроты – игру слов, calembourg, pun; сюда же относится и двусмысленность, l’équivoque, главная сфера которой – непристойность. Как острота насильственно подводит под одно понятие два различных реальных объекта, так игра слов, пользуясь случаем, облекает в одно слово два различных понятия: контраст возникает тот же, но только гораздо бледнее и поверхностнее, ибо проистекает не из существа вещей, а лишь из случайности наименования. При остроте тождество – в понятии, различие – в действительности; при игре слов различие – в понятиях, а тождество – в действительности, представляемой звучанием слова. Сравнение, пожалуй, было бы слишком прихотливым, если бы мы сказали, что игра слов так относится к остроте, как парабола верхнего обращенного конуса к параболе нижнего. Словесное же недоразумение, или quid pro quo, – это невольный calembourg, и оно относится к последнему так, как глупость к остроумию; поэтому тугой на ухо, подобно глупцу, часто дает повод для смеха, и авторы плохих комедий пользуются им для возбуждения смеха вместо глупца.
Я рассмотрел здесь смех только с психологической стороны; по отношению к физической отсылаю к сказанному в «Парерга», т. II, гл. 6, § 96, стр. 134 (первое изд.).[71]71
Сюда относится 8 гл. II тома.
[Закрыть]
§ 14
От этих различных соображений, которые, надеюсь, вполне уяснили разницу и отношение между познанием разума, знанием, понятием – с одной стороны, и непосредственным познанием в чисто чувственном математическом созерцании и восприятии посредством рассудка – с другой; далее, от эпизодических замечаний о чувстве и смехе, к которым нас почти неизбежно привел разбор замечательного соотношения наших познавательных сил, – я возвращаюсь теперь к дальнейшему анализу науки, этого третьего преимущества (наряду с языком и обдуманной деятельностью), какое дает человеку разум. Предстоящее нам общее рассмотрение науки будет относиться отчасти к ее форме, отчасти к обоснованию ее суждений и, наконец, – к ее содержанию.
Мы видели, что, за исключением основы чистой логики, всякое знание вообще имеет свой источник не в самом разуме: приобретенное на ином пути, по своему характеру наглядное, оно только укладывается в разуме и этим переходит в совершенно другой род познания – абстрактный. Всякое знание, т. е. познание, поднявшееся до осознания in abstracto, относится к науке в собственном смысле как часть к целому. Каждый человек из опыта и наблюдения над встречающимися ему отдельными явлениями приобретает знание о разных вещах; но к науке стремится только тот, кто задается целью достигнуть полного познания in abstracto какой-нибудь определенной области предметов. Выделить эту область он может только с помощью понятия; вот почему во главе каждой науки находится понятие, и в нем мыслится та часть из совокупности вещей, о которой наука обещает дать полное познание in abstracto: таковы, например, понятия пространственных отношений, влияния неорганических тел друг на друга, свойств растений или животных, последовательных изменений земной поверхности, изменений человечества в его целом, строения языка и т. д. Если бы наука хотела приобретать знания о своем объекте посредством изучения каждого отдельного предмета, мыслимого в ее понятии, пока постепенно не было бы изучено все, то для этого, с одной стороны, не хватило бы никакой человеческой памяти, а с другой, – нельзя было бы дойти до уверенности в полноте узнанного. Поэтому она пользуется той разъясненной выше особенностью сфер понятий, что они содержат одна другую, и тяготеет преимущественно к наиболее широким сферам, какие только вообще лежат внутри понятия ее объекта. Определив взаимные отношения этих сфер, она тем самым определяет и все мыслимое в них вообще и может, выделяя с каждым разом все более узкие сферы понятий, все точнее и точнее охватывать это мыслимое своими определениями. Отсюда и становится возможным для науки всецело обнимать свой предмет. Этот путь, которым наука приходит к познанию, путь от всеобщего к особенному, отличает ее от обыкновенного знания; вот почему систематическая форма является существенным и характерным признаком науки. Объединение самых общих сфер понятий каждой науки, т. е. знание ее высших принципов, служит неизбежным условием для ее изучения; как далеко идти от таких принципов к более частным положениям, это зависит от нашей воли и увеличивает не основательность, а только объем учености. Число высших принципов, которым подчиняются все остальные, в разных науках очень различно, так что в одних из них больше субординации, в других – координации; в этом отношении первые требуют большей способности суждения, а последние – большей памяти. Уже схоластикам было известно,[72]72
Суарес, Disput. metaphysicae, disp. III, sect. 3, tit. 3.
[Закрыть] что так как умозаключение требует двух посылок, то никакая наука не может исходить из единственного, далее уже не выводимого главного принципа: каждая наука должна иметь несколько таких принципов, по крайней мере – два. Преимущественно классифицирующие науки: зоология, ботаника, а также физика и химия, поскольку они сводят всю неорганическую деятельность к немногим основным силам, содержат больше всего субординации, наоборот, история, собственно, не имеет ее совсем, потому что общее заключается в ней лишь в обзоре главных периодов, из которых, однако, нельзя вывести отдельных событий: последние подчинены первым только хронологически, по своему же понятию координированы с ними; вот почему история, строго говоря, это знание, а не наука. Правда, в математике, как ее строит Евклид, только аксиомы представляют собой недосказуемые главные положения, а все доказательства подчиняются им в строгой последовательности. Однако такое построение не связано с сущностью математики, и на самом деле каждая теорема начинает собой новую пространственную конструкцию, которая сама по себе независима от предыдущих и может быть познана, собственно говоря, совершенно независимо от них, сама из себя, в чистом созерцании пространства, где даже самая запутанная конструкция в сущности так же непосредственно очевидна, как и аксиома; подробнее об этом будет сказано ниже. Между тем каждое математическое положение остается все-таки всеобщей истиной, применимой к бесчисленным отдельным случаям, и ей свойствен также постепенный переход от простых положений к сложным, вытекающим из первых; таким образом, математика во всех отношениях – наука.