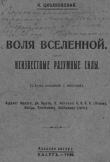Текст книги "Мир как воля и представление"
Автор книги: Артур Шопенгауэр
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
Он не может безучастно видеть лишений других, в то время как его самого окружают избыток и излишества, подобно тому как никто не станет терпеть в течение целого дня голод, чтобы завтра иметь больше, чем нужно. Ибо для того, кто совершает подвиги любви, пелена Майи стала прозрачной, и мираж principii individuationis рассеялся перед ним. В каждом существе, а, следовательно, и в страждущем он узнает себя, свою личность, свою волю. Для него исчезло то заблуждение, в силу которого воля к жизни, не узнавая самой себя, здесь, в одном индивиде, вкушает мимолетные и призрачные наслаждения, а зато там, в другом индивиде, терпит страдания и нужду, и таким образом причиняет муки и претерпевает муки, не сознавая, что она, подобно Фиесту, жадно пожирает собственную плоть,[286]286
Согласно древнегреческому мифу, Фиест ел мясо собственных детей, поданное ему его братом Атреем в отместку за то, что он соблазнил жену последнего.
[Закрыть] а затем здесь ропщет на незаслуженное страдание, а там бесчинствует, не боясь Немезиды; и все это лишь потому, что она не узнает себя в чужом явлении и не видит вечного правосудия, одержимая principio individuationis, т. е. тем способом познания, где царит закон основания. Исцелиться от этого призрака и ослепления Майи и творить дела любви – это одно и то же. Но последнее есть неизбежный симптом истинного познания.
Противоположностью угрызениям совести, источник и смысл которых я разъяснил выше, является чистая совесть, удовлетворение, испытываемое нами после каждого бескорыстного поступка. Происхождение ее таково: подобный поступок, вытекая из того, что мы непосредственно открываем наше собственное существо также и в чужом явлении, в свою очередь подтверждает это открытие, т. е. открытие того, что наше истинное Я заключается не просто в нашей собственной личности, этом частном явлении, но и во всем, что живет. Это расширяет сердце, подобно тому как эгоизм суживает его. Ибо в то время как эгоизм сосредоточивает наше участие на отдельном явлении собственного индивида, причем познание не перестает показывать нам неисчислимые беды, непрерывно грозящие этому явлению, отчего страх и забота становятся основным тоном нашего настроения, – сознание, что все живое по своей внутренней сущности есть то же самое, что и наша собственная личность, это сознание распространяет наше участие на все живое: сердце от этого расширяется. Ослабленное таким образом внимание к собственной личности в корне подтачивает и ограничивает тягостную заботу о ней: отсюда та спокойная, уверенная радость, какую дарят нам добрые помыслы и чистая совесть; отсюда более сильное проявление этой радости при каждом добром поступке, ибо он удостоверяет для нас самих источник такого настроения. Эгоист чувствует себя окруженным чуждыми и враждебными явлениями, и все свое упование он возлагает на собственное благополучие. Добрый живет в мире дружественных явлений: благо каждого из них – его собственное. Если поэтому знание человеческого жребия вообще не наполняет радостью его души, то постоянное убеждение, что его собственная сущность находится во всем живом, сообщает ему все-таки известное равновесие и даже светлое настроение. Ибо заботливость, распространенная на бесчисленные явления, не может так удручать, как сосредоточенная на одном явлении. Случайности, которые поражают совокупность индивидов, уравновешиваются, тогда как случайности, выпадающие на долю отдельного индивида, приносят счастье или несчастье.
Итак, если другие устанавливали моральные принципы, выдавая их за предписания добродетели и обязательные законы, а я, как уже сказано, не могу этого делать, ибо не в состоянии предписывать вечно свободной воле какой бы то ни было обязанности или закона, то, с другой стороны, в общем строе моего рассуждения некоторым соответствием и аналогией такому замыслу является та чисто теоретическая истина, простым развитием которой можно считать все мое сочинение, – истина, что воля есть в себе каждого явления, но сама она как таковая свободна от форм явления, а потому и от множественности; эту истину по отношению к человеческой деятельности я не умею выразить более достойным образом, чем уже упомянутой формулой Веды: «Tat twam asi!» («Это – ты!»). Кто может в ясном сознании и с твердым и глубоким убеждением сказать ее самому себе по поводу каждого существа, с которым он сталкивается, тот этим самым приобщается всякой добродетели и праведности и находится на верном пути к спасению.
Но прежде чем пойти дальше и показать в заключение, как любовь, источником и сущностью которой мы считаем постижение principii individuationis, ведет к освобождению, т. е. к полному отречению от воли к жизни, от всякого желания, и как другой путь, не так легко, но зато чаще приводит человека к тому же самому, – я должен сначала высказать и объяснить одно парадоксальное положение – не потому, что оно – парадокс, а потому, что оно истинно и необходимо для полноты всей моей мысли. Вот оно: «Всякая любовь (αγάπη, caritas)[287]287
«Агапе» (греч.) – «жертвенная, братская» любовь; «каритас» (лат.) – сострадательная любовь-жалость; и первая и вторая включают в себя элемент подлинного бескорыстия; поэтому их синонимичное объединение возможно в рамках протипоставления «эросу» – любви-страсти.
[Закрыть] – это сострадание».
§ 67
Мы видели, как из постижения principii individuationis вытекает, в меньшей степени, справедливость, а в более высокой – подлинно благие помыслы, выражающиеся в чистой, бескорыстной любви к другим. Там, где она достигает высшего предела, чужая индивидуальность и ее судьба отождествляются с собственной; далее этого любовь не может идти, ибо нет основания предпочитать чужую индивидуальность собственной. Однако, если благу или жизни большого числа чужих индивидов грозит опасность, это может перевесить заботу о собственном благе отдельного лица. В таком случае человек, отмеченный высшей добротой и благородством, все свое счастье и всю свою жизнь принесет в жертву для блага многих других людей: так умер Кодр, так умерли Леонид, Регул, Деций Мус, Арнольд Винкельрид, так умирают все те, кто добровольно и сознательно идет на верную смерть за своих близких, за свое отечество. На этой же ступени находятся и те, кто добровольно принимает на себя страдания и смерть во имя того, что служит для блага человечества и составляет его право, – во имя всеобщих и важных истин и ради борьбы с великими заблуждениями: так умер Сократ, так умер Джордано Бруно, и не мало героев истины нашли себе такую смерть на костре, от рук духовенства.
По поводу высказанного раньше парадокса я должен напомнить теперь, что мы признали страдание существенным признаком жизни в целом, неотъемлемым от нее. Мы видели, как всякое желание вытекает из потребности, нужды, страдания, мы видели поэтому, что всякое достигнутое удовлетворение – это только устраненная мука, а не положительное счастье, и хотя радости обманывают желание, представляя себя положительным благом, но на самом деле их природа отрицательна и они означают лишь конец страдания. И все, что доброта, любовь и благородство делают для других, сводится к смягчению их мук, и следовательно, то, что может побуждать к добрым делам и подвигам любви, – это лишь познание чужого страдания, непосредственно понятого из собственного страдания и приравненного к нему. Но из этого видно, что чистая любовь (αγάπη, caritas) по своей природе является состраданием, – все равно велико или мало то страдание, которое она облегчает (к нему относится каждое неудовлетворенное желание). Поэтому в полную противоположность Канту, который все истинно доброе и всякую добродетель согласен признать таковыми лишь в том случае, если они имеют своим источником абстрактную рефлексию, т. е. понятие долга и категорического императива, и для которого чувство сострадания – слабость, а вовсе не добродетель, – в полную противоположность Канту мы нисколько не поколеблемся сказать: голое понятие для настоящей добродетели так же бесплодно, как и для настоящего искусства; всякая истинная и чистая любовь – это сострадание, и всякая любовь, которая не есть сострадание, – это себялюбие. Себялюбие – это έρως, сострадание – это αγάπη. Нередко они соединяются между собою. Даже в истинной дружбе всегда соединяются себялюбие и сострадание: первое состоит в наслаждении от присутствия друга, индивидуальность которого соответствует нашей, и оно почти всегда составляет большую часть; сострадание же проявляется в искреннем сочувствии радости и горю друга и в бескорыстных жертвах, которые мы ему приносим. Даже Спиноза говорит: «Благоволение есть не что иное, как желание, возникшее из сострадания» (Этика, III, теор. 27, короллар. 3, схолия). Подтверждением нашего парадокса может служить то, что самый тон и слова языка, на котором говорит чистая любовь и ее ласки, совершенно совпадают с тоном сострадания; заметим, кстати, что по-итальянски сострадание и чистая любовь выражаются одним и тем же словом: pieta.[288]288
Pieta (итал). – милосердие как слияние двух понятий, самозабвенной любви-сострадания и сознательной любви-верности (благочестивой преданности); образ скорбящей Божьей Матери.
[Закрыть]
Здесь уместно также рассмотреть одну из поразительнейших особенностей человеческой природы – плач; как и смех, он относится к тем проявлениям, которые отличают человека от животного. Плач вовсе не есть прямое выражение страдания: ведь очень немногие страдания вызывают слезы. По моему мнению, никогда и не плачут непосредственно от ощущаемого страдания: плачут только от его воспроизведения в рефлексии. Даже от ощущаемого нами физического страдания мы переходим просто к представлению о нем, и собственное состояние кажется нам тогда столь жалостным, что если бы страждущим был другой, то мы, по нашему твердому и искреннему убеждению, оказали бы ему помощь, исполненные любви и сострадания. Теперь же мы сами – предмет собственного искреннего сострадания: от души готовые помочь, мы сами и нуждаемся в помощи, чувствуя, что переносим большее страдание, чем могли бы видеть в другом; и это удивительно сложное настроение, где непосредственное чувство страдания лишь двойным окольным путем снова становится объектом восприятия, так что мы представляем его себе в виде чужого страдания, сочувствуем ему, а затем вновь неожиданно воспринимаем его как непосредственно собственное страдание, – это настроение природа облегчает себе странной физической судорогой. Плач, таким образом, это – сострадание к самому себе, или сострадание, возвращенное к своему исходному пункту. Он поэтому обусловлен способностью к любви и состраданию, а также фантазией. От того как жестокосердные, так и лишенные воображения люди не очень скоры на плач, и в нем обычно видят признак известной доброты характера: он обезоруживает гнев, ибо каждый чувствует, что тот, кто еще может плакать, непременно способен и на любовь, т. е. на сострадание к другим, ибо последнее описанным выше образом входит в настроение, ведущее к плачу.
Предложенному объяснению совершенно соответствует то, как Петрарка, наивно и верно выражая свое чувство, описывает возникновение своих слез:
I vo pensando; е nel pensar m’assale
Una pieta si forte di me stesso,
Che mi conduce spesso,
Ad alto lagrimar, ch’i non soleva.[289]289
Когда я брожу в раздумьи, мною овладевает такая сильная жалость к самому себе, что я нередко рыдаю, а это вовсе не в моем характере (Петрарка. Канцоньере, 21)
[Закрыть]
Сказанное подтверждается и тем, что дети, испытав какую-нибудь боль, обыкновенно принимаются плакать только тогда, когда их начинают жалеть, и, следовательно, они плачут не от боли, а от представления о ней.
Когда не собственное, а чужое страдание вызывает у нас слезы, то это происходит от того, что мы в своем воображении живо ставим себя на место страждущего или в его судьбе узнаем жребий всего человечества и, следовательно, прежде всего – свой собственный жребий, таким образом, хотя и очень окольным путем, но мы плачем опять-таки над самими собою, испытывая сострадание к самим себе. В этом, по-видимому, заключается главная причина неизбежных, то есть естественных слез, вызываемых смертью. Не свою утрату оплакивает скорбящий: таких эгоистических слез он бы постыдился, тогда как иногда он стыдится от того, что не плачет. Прежде всего он оплакивает, конечно, судьбу почившего, но ведь он плачет и в том случае, когда смерть была для него желанным освобождением от долгих, мучительных и неисцелимых страданий. Следовательно, нас охватывает главным образом жалость к судьбе всего человечества, обреченного конечности, в силу которой всякая жизнь, столь кипучая и часто столь плодотворная, должна погаснуть и обратиться в ничто: но в этой общей судьбе человечества каждый замечает прежде всего свой собственный удел и тем глубже, чем ближе стоял к нему почивший, поэтому глубже всего, когда это был его отец. Если даже старость и недуги превратили жизнь его в пытку и в своей беспомощности он был тяжкой обузой для сына, все же сын горячо оплакивает смерть отца – по объясненной здесь причине.[290]290
Сюда относится 47 гл. II тома. Едва ли надо упоминать, что вся этическая часть, представленная в виде очерка в §§ 61–67, нашла себе более обстоятельное и законченное изложение в моем конкурсном труде «Об основе морали».
[Закрыть]
§ 68
После этого отступления, доказывающего тождество чистой любви и сострадания, обращение которого на собственную индивидуальность имеет симптомом явление плача, я возвращаюсь к нашему рассмотрению этического смысла поведения, чтобы показать, как из того же источника, откуда вытекают всякая доброта, любовь, добродетель и великодушие, исходит, наконец, и то, что я называю отрицанием воли к жизни.
Мы видели ранее, что ненависть и злоба обусловлены эгоизмом, в основе которого лежит то, что познание сковано principle individuationis, теперь же мы убедились в том, что источником и сущностью справедливости, а затем, в ее дальнейшем развитии, источником высших ее степеней, любви и благородства, является то постижение principii individuationis, которое уничтожает различие между собственным и чужими индивидами и тем делает возможной и объясняет полноту благих помыслов вплоть до бескорыстнейшей любви и великодушного самопожертвования ради других.
Когда же это постижение principii individuationis, это непосредственное познание тождества воли во всех ее проявлениях достигает высокой степени ясности, оно немедленно оказывает еще более глубокое влияние на волю. А именно, если в глазах какого-нибудь человека пелена Майи, principium individuationis, стала так прозрачна, что он не проводит уже эгоистического различия между своей личностью и чужою, а страдание других индивидов принимает так же близко к сердцу, как и свое собственное, и потому не только с величайшей радостью предлагает свою помощь, но даже готов пожертвовать собственной индивидуальностью, лишь бы спасти этим несколько чужих, – то уже естественно, что такой человек, узнающий во всех существах самого себя, свое сокровенное и истинное Я, должен и бесконечные страдания всего живущего рассматривать как свои собственные и разделить боль всего мира. Ни одно страдание более ему не чуждо. Все мучения других, которые он видит и так редко может облегчить, о которых он узнает окольными путями, которые он считает только возможными, все они воздействуют на его дух как его собственные мучения. Уже не об изменчивом своем счастье и личных невзгодах думает он, как это делает человек, еще одержимый эгоизмом; нет, все одинаково близко ему, ибо он постиг principium individuationis. Он познает целое, постигает его сущность и находит его погруженным в непрестанное исчезновение, ничтожные устремления, внутреннее противоборство и постоянное страдание, – и всюду, куда бы он ни обращал взор, он видит страждущее человечество, страждущих животных и преходящий мир. И все это ему теперь так же близко, как эгоисту – его собственная личность, и разве может он, увидев мир таким, продолжать утверждать эту жизнь постоянной деятельностью воли и все теснее привязываться к ней, все теснее прижимать ее к себе? Если тот, кто еще находится во власти principii individuationis, эгоизма, познает только отдельные вещи и их отношение к его личности и они поэтому служат источником все новых и новых мотивов для его желания, то, наоборот, описанное познание целого, сущности вещей в себе, становится квиетивом всякого желания. Воля отворачивается от жизни; теперь она содрогается перед ее радостями, в которых видит ее утверждение. Человек доходит до состояния добровольного отречения, резиньяции, истинной безмятежности и совершенного отсутствия желаний. Если и нас, иных людей, еще объятых пеленой Майи, временами, в минуты тяжких собственных страданий или живого сочувствия чужому горю, – если и нас тоже посещает сознание ничтожества и горечи жизни и мы испытываем желание всецело и навсегда отречься от вожделений, притупить их жало, преградить доступ всякому страданию, очистить и освятить себя, то скоро мираж явления снова обольщает нас, его мотивы вновь приводят в движение нашу волю, и мы не можем вырваться на свободу. Очарование надежды, приманки действительности, отрада наслаждений, блага, которые выпадают на долю нашей личности среди печалей страдающего мира, в царстве случая и заблуждений, влекут нас обратно к этому миру и снова закрепляют наши оковы. Поэтому и говорит Христос: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство небесное».[291]291
В русском синодальном издании: «… удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19,24).
[Закрыть]
Если уподобить жизнь арене, усыпанной пылающими угольями с немногочисленными прохладными местами, – арене, которую мы неуклонно должны пробежать, то окажется, что объятого призрачной мечтою утешает прохладное место, которое он занимает как раз в данную минуту или которое рисуется ему вблизи, и он продолжает свой бег по арене. Тот же, кто постигая principium individuationis, познает сущность вещей в себе и вместе с ней познает целое, – тот уже не восприимчив к такому утешению: он видит себя одновременно во всех местах арены и сходит с нее. С его волей совершается переворот: она уже не утверждает своей сущности, отражающейся в явлении, – она отрицает ее. Симптом этого заключается в переходе от добродетели к аскетизму. Человек уже не довольствуется тем, чтобы любить ближнего как самого себя и делать для него столько же, сколько для себя, – в нем возникает отвращение к той сущности, которая выражается в его собственном явлении, его отталкивает воля к жизни, ядро и сущность этого злосчастного мира. Он отвергает эту являющуюся в нем и выраженную уже в самом его теле сущность и своей жизнью показывает бессилие этого явления, вступая с ним в открытую вражду. Будучи по существу своему явлением воли, он, однако, перестает чего бы то ни было хотеть, охраняет свою волю от какой-либо привязанности, стремится укрепить в себе величайшее равнодушие ко всем вещам. Тело его, здоровое и сильное, вызывает гениталиями: половое влечение, но он отрицает волю и не слушается тела: ни под каким условием он не хочет полового удовлетворения. Добровольное, полное целомудрие – вот первый шаг в аскезе, или отрицании воли к жизни. Аскетизм отрицает этим утверждение воли, выходящее за пределы индивидуальной жизни, и тем показывает, что вместе с жизнью данного тела уничтожается и воля, проявлением которой оно служит. Всегда правдивая и наивная природа говорит нам, что если эта максима станет всеобщей, то человеческий род прекратится, а после того, что было сказано во второй книге о связи всех явлений воли, я думаю, можно было бы принять, что вместе с высшим явлением воли должно исчезнуть и более слабое ее отражение – мир животных: так полный свет изгоняет полутени. С полным уничтожением познания и остальной мир сам собою превратился бы в ничто, ибо без субъекта нет объекта. Я отнес бы сюда даже то место из Вед, где говорится: «Как в этом мире голодные дети теснятся вокруг матери, так все существа жаждут священной жертвы» (Asiatic researches, т. VIII. Colebrooke, On the Vedas, извлечение из Самаведы; можно найти также в Miscellaneous Essays Colebrooke’a, т. I, стр. 88). Жертва означает вообще резиньяцию, и остальная природа должна ожидать своего освобождения от человека, который одновременно является жрецом и жертвой. Следует упомянуть и о том крайне примечательном обстоятельстве, что эту же мысль выразил удивительный и непредставимо глубокий Ангелус Силезиус в двустишии, озаглавленном «К Богу все возносит человек»:
А еще более великий мистик, Майстер Экхарт, изумительные творения которого стали, наконец, доступны благодаря изданию Франца Пфейфера (1857) говорит (стр. 459) совершенно в нашем смысле: «Я подтверждаю это Христом, ибо Он сказал: ‘И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе’ (Ев. от Иоан. 12, 32). Так и добрый человек должен все вещи возносить к Богу – их первоисточнику. Учители подтверждают нам, что все твари созданы ради человека. Испытайте на всех тварях то, что одна тварь на потребу другой: скоту – трава, рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес. Так доброму человеку на потребу все твари: добрый человек возносит к Богу одну тварь в другой». Он хочет этим сказать: за то, что человек в себе и вместе с собою искупает и животных, он пользуется ими в этой жизни. Мне кажется даже, что трудное место в Писании (Рим. 8, 21–24) должно быть истолковано в этом смысле.
И в буддизме нет недостатка в выражении той же мысли: например, когда Будда еще в качестве бодхисатвы[293]293
Будда – имеется в виду основатель буддизма, индийский принц Сидхадха Гаутама (Шакьямуни – «мудрец (из племени) Шакья»; 623–543 или 560–480 до н. э.). – Бодхисатва – тот, кто принял решение стать буддой (просветленным); стремящийся выйти из бесконечной цепи перерождений (сансары) и спасти все живые существа от страданий.
[Закрыть] велит в последний раз оседлать коня, чтобы бежать из отцовской резиденции в пустыню, он обращается к коню со следующим стихом: «Уже давно ты со мною в жизни и смерти, теперь же ты перестанешь носить и влачить. Только еще раз унеси меня отсюда, о Кантакана, и когда я исполню закон (стану Буддой), я не забуду тебя» (Foe Koue Ki, trad. p. Abel Remusat, стр. 233).
Аскетизм выражается, далее, в добровольной и преднамеренной нищете, которая наступает не только per accidens, при раздаче имущества для облегчения чужих страданий, но служит здесь целью сама по себе и должна быть постоянным умерщвлением воли, чтобы удовлетворение желаний и сладость жизни вновь не возбудили воли, самопознание же прониклось отвращением к ней. Человек, достигший этого предела, как одушевленное тело и конкретное явление воли все еще продолжает чувствовать склонность ко всякого рода желаниям, но он сознательно подавляет их, принуждая себя не делать ничего того, чего ему бы хотелось, а напротив, делать все то, чего не хочется ему – пусть это и не имеет никакой дальнейшей цели, кроме умерщвления воли. Так как он сам отвергает являющуюся в его личности волю, то он не станет противиться, если другой сделает то же самое, т. е. причинит ему какую-нибудь несправедливость: поэтому он рад всякому страданию, которое приходит к нему извне, случайно или по чужой злобе, рад всякой утрате, всякому поношению, всякой обиде, – он радостно принимает их как повод удостовериться, что он уже больше не утверждает воли, а охотно берет сторону любого врага того явления ее, которое составляет его собственную личность. Поэтому он с беспредельным терпением и кротостью переносит муки и позор, без гордыни воздает добром за зло и не допускает, чтобы в нем когда-либо возгорелось пламя гнева или вожделения. Он умерщвляет как самую волю, так и ее внешность, ее объектность – тело: он скудно питает его, чтобы пышное и цветущее тело не оживляло и не укрепляло воли, выражением и зеркалом которой оно является. Так налагает он на себя пост, прибегает даже к самобичеванию и самоистязанию, чтобы постоянными лишениями и мучениями все сильнее сокрушать и умерщвлять волю, в которой он видит источник злосчастного своего бытия и страданий мира и отвергает ее за это. Когда же, наконец, приходит к нему смерть, разрешающая это явление воли, сущность которой в силу свободного самоотрицания умерла в нем уже давно, кроме слабого остатка ее – одушевленности тела, то он встречает смерть с великой радостью как желанное освобождение. С нею кончается здесь не просто явление как у других, но уничтожается самая сущность, которая еще влачила здесь существование только в явлении и посредством него:[294]294
Эта мысль выражена прекрасным сравнением в древнем философском сочинении на санскрите «Санкхья-Карика»: «Все-таки душа остается некоторое время облеченной в тело, – так колесо гончарного станка, благодаря полученному ранее толчку, еще продолжает вертеться, когда сосуд уже готов. Только когда просветленная душа разлучается с телом и для нее исчезает природа, тогда наступает ее полное освобождение». Colebrooke, «On the philosophy of the Hindus: Miscellaneous essays», т. I, стр. 259. To же в «Sankhya Karica by Horace Wilson», § 67, стр. 184.
[Закрыть] теперь смерть разрывает и эту последнюю хрупкую связь. Для того, кто кончает таким образом, одновременно кончается и мир.
И все то, что я высказал здесь слабым языком и только в общих выражениях, вовсе не есть сочиненная мною философская сказка и возникло отнюдь не сегодня: нет, такова была завидная жизнь многих прекрасных душ и святых среди христиан и, еще более, среди индуистов и буддистов, а также среди последователей других вероучений. При всем различии тех догматов, какие запечатлелись в разуме этих людей, у всех них переменой их образа жизни совершенно одинаково выражалось то внутреннее, непосредственное, интуитивное познание, которое только и может быть источником всякой добродетели и святости. Ибо и здесь обнаруживается столь важное для всего нашего рассмотрения великое различие между интуитивным и абстрактным познанием, сказывающееся повсюду, но слишком мало учитывавшееся до сих пор. Глубокая пропасть разделяет оба вида познания и через нее ведет только философия в том, что касается познания сущности мира. Ведь интуитивно, или in concrete, каждый человек сознает, собственно говоря, все философские истины, претворить же их в абстрактное знание, в рефлексию, это – дело философа, который не должен и не может заниматься ничем иным.
И здесь, вероятно, впервые, абстрактно и без какой-либо примеси мифа выражена внутренняя сущность святости, самоотречения, умерщвления воли, аскетизма, выражена как отрицание воли к жизни, наступающее после того, как совершенное познание собственной сущности становится для воли квиетивом всякого желания. Непосредственно же это познали и выразили своей жизнью все святые и подвижники, при одинаковом внутреннем убеждении говорившие на совершенно разных языках, в соответствии с теми догматами, которые они однажды восприняли своим разумом и в силу которых индийский святой, святой христианский или ламаистский должны давать себе совсем разные отчеты о своих собственных деяниях, что, однако, для существа дела вполне безразлично. Святой может быть исполнен нелепейших предрассудков, или, наоборот, он может быть философом: это безразлично. Только его деяния свидетельствуют о его святости, ибо в моральном отношении они проистекают не из абстрактного, а из интуитивно воспринятого, непосредственного познания мира и его сущности, и только для удовлетворения своего разума он объясняет их с помощью какого-нибудь догмата. Поэтому одинаково не нужно святому быть философом, а философу быть святым, как не нужно, чтобы очень красивый человек был великим скульптором или чтобы великий скульптор сам был красивым человеком. Вообще странно требовать от моралиста, чтобы он не проповедовал иных добродетелей, кроме тех, какие имеет он сам. Воспроизвести в понятиях в абстрактной, всеобщей и отчетливой форме всю сущность мира и как отраженный снимок предъявить ее разуму в устойчивых и всегда наличных понятиях – вот это и ничто иное есть философия. Напомню приведенную в первой книге цитату из Бэкона Веруламского.
Но именно только абстрактным и отвлеченным, а потому и холодным остается сделанное мною описание отрицания воли к жизни, преображения прекрасной души, резиньяции добровольного страстотерпца и святого. Так как познание, из которого вытекает отрицание воли, интуитивно, а не абстрактно, то и свое полное выражение оно находит не в абстрактных понятиях, а только в деяниях и образе жизни. Поэтому, чтобы лучше понять, что мы философски обозначаем как отрицание воли к жизни, надо познакомиться с примерами из опыта и действительности. Конечно, в повседневном опыте мы их не встретим: nam omnia praeclara tarn difficilia quam rara sunt [ибо все прекрасное так же трудно, как и редко],[295]295
Спиноза. Этика V, теор, 42, схол.
[Закрыть] как прекрасно говорит Спиноза. Поэтому, если нам не выпадет на долю особенное счастье быть очевидцами-современниками таких людей, нам придется довольствоваться их жизнеописаниями. Индийская литература, как это видно уже из того немногого, что мы до сих пор знаем по переводам, очень богата жизнеописаниями святых, подвижников, так называемых саманов,[296]296
Саманы (на яз. пали) – бродячие отшельники.
[Закрыть] саньясинов и т. п. Даже известная, хотя и не во всех отношениях заслуживающая похвалы «Mythologie des Indous par Mad. de Polier» сообщает много замечательных примеров этого рода (особенно в 13-ой главе второго тома). И среди христиан нет недостатка в подходящих примерах. Прочтите большей частью скверно написанные биографии тех лиц, которых называли то святыми душами, то пиетистами, то квиетистами, благочестивыми мечтателями и т. д. Сборники таких биографий составлялись в разное время, – например, «Жизнь святых душ» Терстегена, «История возродившихся» Райца; в наши дни появился сборник Канне, где наряду со многим дурным есть кое-что и хорошее, сюда я особенно отношу «Жизнь Беаты Штурмин». Подобающее ей место должна занять здесь жизнь святого Франциска Ассизского – этого истинного олицетворения аскетизма и прообраза всех нищенствующих монахов.[297]297
Святой Франциск Ассизский (Джованни Бернардоне, 1182–1226) – проповедник и поэт, основатель нищенствующего братства миноритов («меньших братьев»), образованного в 1207–1209, впоследствии – орден францисканцев. Сын зажиточного торговца, испытавший в молодые годы болезнь, крушение честолюбивых надежд и положение изгоя; пережил духовный переворот; отказавшись от имущества, проповедовал нищету, смирение, братство со всеми Божьими твореньями, милосердие и мученическое самоотречение в подражание Христу как Страдающему Богу. Согласно преданию, видел на горе Альверно над собой распростертое крестом существо, подобное серафиму; видение ввергло его в экстаз сострадания, после чего Франциск обнаружил следы гвоздей на своих ладонях. Канонизирован в 1228.
[Закрыть] Его жизнь, описанная младшим его современником, знаменитым схоластом святым Бонавентурой,[298]298
Святой Бонавентура (Джованни Фиданца, 1221–1274) – генерал ордена францисканцев (с 1273), первый теолог-францисканец, один из крупнейших представителей поздней схоластики, соединивший ее с мистической традицией, «серафический доктор»; был причислен к лику святых (1482) и к числу десяти величайших учителей церкви (1588). Согласно Бонавентуре, святой Франциск увидел на горе Альверно в огромном зеркале свою душу, способную страдать если не как Бог, то как ангел.
[Закрыть] недавно вышла в новом издании: «Vita S. Francisci a S. Bonaventura concinnata» (Soest, 1843), а незадолго до этого во Франции появилась тщательно выполненная, подробная, учитывающая все источники биография Франциска: «Histoire de S. Francois d’Assise, par Chavin de Mallan» (1845).
Как восточная параллель к этой литературе о монашестве у нас есть в высшей степени интересная книга Spence Hardy «Eastern monachism, an account of the order of mendicants founded by Gotama Budha» (1850). Она показывает нам то же самое явление, но в другом облачении; здесь видно, насколько безразлично для него, исходит ли оно из теистической или атеистической религии. Но особенно я мог бы рекомендовать как характерный, в высшей степени обстоятельный пример и фактическую иллюстрацию изложенных мною мыслей – автобиографию мадам Гюйон (Guion): познакомиться с этой прекрасной и великой душой, о которой я всегда вспоминаю с благоговением, отдать должное возвышенным чертам ее духа, снисходя в то же время к предрассудкам ее разума, – это должно быть для каждого достойного человека настолько же отрадно, насколько упомянутая книга всегда будет на дурном счету у людей пошлых, т. е. у большинства, ибо везде и непременно каждый может ценить только то, что ему до некоторой степени родственно и к чему он имеет хотя бы слабое предрасположение. Это относится как к интеллектуальной, так и к этической сфере. В некотором отношении подходящим примером является здесь даже известная французская биография Спинозы, если воспользоваться в виде ключа к ней прекрасным вступлением к весьма неудовлетворительному трактату «Об усовершенствовании интеллекта» – это место я одновременно могу рекомендовать как самое действенное изо всех известных мне средств для укрощения бури страстей. Наконец, сам великий Гете, каким бы ни был он эллином, не считал недостойным себя показать нам эту прекраснейшую сторону человечества в уясняющем зеркале поэзии: он изобразил в «Исповеди прекрасной души» идеализированную жизнь девицы Клеттенберг, а позднее, в своей автобиографии, сообщил об этом и исторические сведения; кроме того, он даже два раза поведал нам историю святого Филиппа Нери.