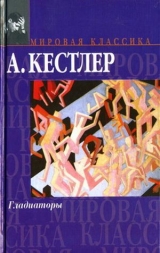
Текст книги "Гладиаторы"
Автор книги: Артур Кестлер
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
V. Новичок
Среди множества новичков, приходивших в город, оказался юноша по имени Публибор. Он сбежал от своего хозяина Гегиона, хотя у него ему жилось вовсе не плохо. Матрона – и та поколачивала его нечасто, когда у нее совсем уж портилось настроение, и в такие моменты другие страдали посильнее, чем он. Однако до его слуха донесся призыв Города Солнца – тогда еще не был заключен союз, запретивший посланцам Спартака вербовать рабов из Фурий. Призыв посеял в его душе семя нетерпения, семя дало росток, и вот молодой раб очутился в городе-лагере.
Там, среди десятков тысяч людей, он был незаметен. Он пришел с нетерпением в душе, с мысленными картинами новой жизни, расписанной гонцами Спартака в те дни, когда им еще можно было улавливать новые души. Он шагал по новым чистеньким улицам, чувствуя изумление и испуг; никто не обращал на него внимания. Все были очень заняты, всем было некогда: люди строили, стучали молотками, и не с кем было поделиться своей жгучей радостью: вот он, он пришел в Город Солнца!
Войти в ворота оказалось нелегким делом. Ворота охраняли суровые стражники, надменные, как все люди в форме. «Эй, парень, ты куда?» – окликнули они его презрительно.
Он честно ответил, что пришел жить вместе с ними по новым законам Луканского Братства, что до утра этого дня оставался рабом и вот сбежал из Фурий, от хозяина.
Однако его искренность не сделала надменных стражников дружелюбнее; они как были, так и остались враждебны. Неужели они не поняли его слов? Нет, кажется, они все поняли, но все равно сказали ему: вход воспрещен, возвращайся, откуда пришел, к своему хозяину, ибо ни один раб из Фурий не может быть допущен в город, так сказано в договоре, подписанном с советом Фурий; вот и ступай, покуда цел.
Однако Публибор отказывался уходить. Он все кричал, что они его не понимают, что это страшное недоразумение: ведь он раб и хочет жить в городе рабов, где правит справедливость и добро. Когда же солдаты, сперва смеявшиеся, а потом уставшие от его криков, попытались отогнать его силой, он уцепился за воротный столб и стал кричать, что было мочи: не смейте, хочу к Спартаку, он обязательно меня примет! И слезы из глаз. А был он юноша робкий и незлобивый, никогда в жизни не устраивавший такой кутерьмы, поэтому ему было ужасно стыдно собственных воплей. К воротам стекалось все больше людей, полюбопытствовать, в чем причина шума, так что в конце концов одному из стражников пришлось, сплюнув, тащить его в город, к командиру стражи.
Юному Публибору только того и надо было; он утер слезы и снова сделался робок и податлив. Далеко шагать не пришлось: хижина командира находилась всего в нескольких шагах от внутренних укреплений. Это была деревянная лачуга с матерчатой крышей, прожигаемой солнцем. Вокруг лачуги стояло и сидело плотной кучей немало народу; все они от усталости глядели в землю. Среди них были и дети, и кормящие матери; рядом бездельничала охрана. Часовой, приведший Публибора, поговорил с одним из солдат и ушел обратно на свой пост. Публибору было велено ждать вместе со всеми. Он уселся в пыль, довольный, что все-таки проник в город.
Время шло, солнце палило все сильнее, люди, сидевшие в пыли вокруг Публибора, переговаривались между собой и утоляли голод тем, что принесли с собой; мамаши кормили грудью надрывающихся младенцев. Здесь, под охраной солдат, собралось несколько сот человек; время от времени в хижину вызывали новую партию людей. Те, в кого тыкали пальцем, радостно торопились внутрь. Больше их не видели: они уходили в другом направлении.
– Это все новенькие? – обратился Публибор к мужчине, сидевшему с ним рядом. У того было заостренное птичье личико с длинным носом и близко посаженными стреляющими туда-сюда глазками; бродяга, решил Публибор. Остролицый жевал хлеб с луком и не обратил внимания на вопрос. Вместо него отозвалась женщина с болезненным желтым лицом.
– Ты не из каменоломни? – спросила она, покачивая на колене страшненького младенца, не выпускавшего из ротика ее дряблый сосок.
– Нет, – ответил Публибор, – я из Фурий.
Он с готовностью рассказал бы ей больше, но она сразу отвернулась и принялась усердно качать ребенка. Его ответ ее не интересовал.
Бродяга перестал есть.
– Раз ты из Фурий, значит, тебя отправят восвояси, – предупредил он. – Они здесь не хотят неприятностей с Магистратурой. Спартак нынче смирный.
– Нет, меня оставят, – уверенно сказал Публибор. – Спартак не прогоняет тех, кто хочет к нему присоединиться.
– У Спартака есть заботы поважнее тебя, – возразил бродяга, ни секунды не смотревший в одну точку. – Вчера он принимал послов Митридата, сегодня у него переговоры с людьми Сертория. Так до тебя ли ему? Эту тоже отправят, – шепотом закончил он, указывая на желтолицую женщину.
– Нечего болтать, – добродушно буркнул один из солдат охраны, вытирая пот под шлемом. – До каждого дойдет черед.
В хижину повели очередную партию. Женщина повернулась к Публибору.
– Тех, кто с каменоломен, они оставляют, – сообщила она как-то торопливо и снова отвернулась, не нуждаясь в ответе. Не переставая качать ребенка, она отняла у него левый сосок и сунула в ротик правый. Ребенок как будто спал, не обращая внимания на ползающих по лицу мух.
– Еще бы не оставлять тех, кто с каменоломен! – воодушевился бродяга, указывая на широкоплечих мужчин с блестящими от пота голыми торсами, сидящих спокойно в углу. – Уж для этаких молодцов дело всегда найдется! А такие, как я, для их Государства Солнца не годятся. Старые ведьмы и подавно. Смотри, у нее грудь, что у дряхлой козы вымя, молока в ней сто лет как не бывало.
Публибору стало так же тревожно, как до того перед воротами.
– Сюда стекается так много народу? – спросил он испуганно.
– Много – не то слово. – Бродяга обвел жестом всю окрестность – поля, горы, море. – Но троим из четырех приходится уходить несолоно хлебавши…
– Я думал, в Городе Солнца найдется место для всех бедных и униженных, – сказал Публибор.
Бродяга скорчил рожу.
– Шутки шутишь? – И снова стал жевать свой хлеб.
Однако все кончилось благополучно. К вечеру Публибор был вызван в хижину вместе с другими новенькими; солдаты забыли доложить, что он пришел из Фурий, и ему, молодому и сильному, разрешили остаться. Он был принят в Луканское Братство. Назавтра должно было начаться обучение военному делу, к тому же его записали в плотницкую бригаду, строившую курятники; но остаток дня оказался ничем не занят, так что новичок отправился бродить по улицам новорожденного Города Солнца.
Все люди здесь были ему братьями, но все до одного оказались ужасно заняты, и ни у кого не находилось для него времени. Он был слишком робок, чтобы самому завести разговор, но с радостью преодолел бы свою робость, если бы кто-нибудь его поощрил. Но поощрения не было. Он задержался у кузницы, где два перепачканных с ног до головы парня примерно его возраста раздували меха, третий, постарше, держал на наковальне раскаленную железку, а четвертый взмахивал над головой тяжелым молотом и со звоном опускал его. От звона можно было оглохнуть, от разлетающихся искр ослепнуть. Публибора радовала мысль, что и кузнецы – его братья. Он вглядывался в их лица, считая, что они должны быть озарены счастьем: ведь они свободны и живут по новому Закону! Но они косились на свою заготовку, как на врага, и помалкивали; кузнец с щипцами сплюнул и выругался. Неужели они не ценят перемену в своей жизни, неужели уже забыли, как жили раньше? Публибор несмело поприветствовал их, в ответ один из четверых оглянулся и безразлично сплюнул. Слюна была черной. Публибор заспешил дальше.
Жилые хижины и палатки по большей части пустовали: время было рабочее. Склады вытянулись по линейке – заостренные пирамиды, ослепительно белые и безрадостно серые на немилосердном солнце. Сараи, мастерские и трапезные были деревянные, из толстых бревен, привезенных на белых буйволах с гор; постройки еще пахли лесом, из стыков текла смола. Публибор свернул на широкую улицу, плавно поднимающуюся вверх по склону; на холме были видны просторные шатры из шкур, и среди них самый большой шатер, под пурпурным стягом на высоком шесте у входа. Публибор остановился, сердце его омыло горячей волной, глаза наполнились слезами. Но подходить ближе не хотелось из-за хмурых толстошеих стражников. Публибор побрел назад.
Снова шел он по улицам, между саманных домов и мастерских, снова заглядывал в лица, ища в них хотя бы лучик радостного возбуждения. В квартале африканцев – чернокожих гигантов с толстыми губами, короткими курчавыми волосами, круглыми незлобивыми глазами – ему улыбались, но хриплых звуков, издаваемых этими людьми, он понять не мог. Сколько же на свете разного люду! Неужто и эти – его братья? Неужто и они мечтают о Государстве Солнца? У них другие боги, другие тела, другие мозги… Один тащил на плече дерево с содранной корой, до того тяжелое, что даже три таких юнца, как Публибор, не сдвинули бы его с места. Гигант остановился, посмотрел на Публибора сверху вниз отчасти дружески, отчасти с опаской. Улица была пуста, солнце жгло по-прежнему.
– Тяжело, – сказал Публибор. – Тяжело?
Гигант величественно указал на горы – решил, наверное, что паренек спрашивает, где растут такие деревья.
– Тяжело, тяжело, – повторил Публибор смущенно и сделал вид, словно поднимает с земли тяжесть.
Гигант испуганно помотал головой: нет, дерево он ему не отдаст. Он издавал какие-то звериные звуки, скулил, казалось, вот-вот зарыдает. Боится, что у него отберут бревно, боится плюгавого Публибора? Юноша был поражен. Наверное, раньше с ним до того плохо обращались, что он опасается любого, кого ни встретит. Публибора посетила удачная мысль.
– Спартак! – крикнул он и, улыбаясь, показал пальцем в направлении шатра под флагом, уверенный, что это-то будет чернокожему понятно. Но тот ни с того ни с сего ударил его в грудь и пустился бежать. На бегу он оглядывался и испуганно вращал глазами.
Волна радости, несшая Публибора с самого момента бегства из дома Гегиона, постепенно схлынула. Он устал от бесцельного шатания по улицам и не мог избавиться от ощущения нереальности происходящего. Нелегко было вырваться из паутины повседневности и привычек; всего за час до бегства ему еще казалось, что у него не хватит отваги для такого поступка. И потом, в решающие мгновения перед воротами, ощущение, что все происходит во сне, не покидало его, так что сцена со стражниками и его собственные пронзительные вопли мало его тронули. И только теперь, когда радость утихла, сменившись замешательством, он приготовился к неожиданностям. Он уже едва не валился от усталости, когда его окликнул женский голос.
Молодая женщина сидела на пороге длинного деревянного барака и обирала длинными худыми пальцами зерна с кукурузного початка. Внутри работали другие женщины, тоже не терявшие времени зря. Он оказался перед одной из больших общественных кухонь, стряпавших для трапезных.
Публибор не понял слов женщины, но его поразил тембр ее голоса – хрипловатый и одновременно приятный, звенящий, как прикосновение дорогой ткани. Он остановился, покраснел и сказал виновато:
– Я новенький.
– Вижу, – сказала девушка с улыбкой, не отрывая взгляд от початка. Она сидела, склонив голову, поэтому он не видел ее глаз, только ресницы, овал лица и растрепавшийся узел волос. Она обращалась к нему по-гречески.
– Как же ты видишь? – спросил он.
Вместо ответа она улыбнулась; зерна падали с очередного початка в миску. Бросив обобранный початок в ведро, она взяла следующий; о Публиборе она, казалось, забыла. Пришлось задать ей новый вопрос:
– Ты давно в Братстве?
– Что?
– Я говорю, ты в Братстве давно?
Она мелодично рассмеялась и откинула голову. Наконец-то он увидел – на долю секунды – ее глаза.
– После Нолы я в… Братстве.
Он не понимал, что тут смешного, поэтому задал вопрос, естественно вытекавший из предыдущего:
– Ты довольна?
Теперь она обошлась без смеха, отделавшись одной улыбкой.
– Дай-ка мне еще початок. Не этот, большой. – Она снова посерьезнела и стала быстро ссыпать зерна в миску.
Публибор чувствовал, что превращается в посмешище и что лучше продолжить путь. Но вместо этого он сказал:
– Наверное, ты сбежала от своего хозяина там, в Ноле?
– Его убили, – ответила она, не прерывая своего занятия.
– Ты радовалась, когда его убили?
– Чему тут радоваться?
– Ну как же, теперь ты свободна. Раньше хозяин мог сделать с тобой все, что ему вздумается.
Казалось, она сейчас снова рассмеется, но она всего лишь удивленно посмотрела на него.
– Это верно, мог.
– Мог, например, тебя выпороть, – продолжил Публибор.
– За что же меня пороть?
– Мог бы, если бы захотел, – упрямился Публибор.
– Разве это так ужасно?
Он задумался. Он сам не знал больше, что думает, чего хочет. Чтобы долго не молчать, он спросил:
– Свобода – разве это не чудесно?
– Какая разница? – проговорила она безразлично. – Мне ведь все равно приходится работать. Свободен тот, кому не надо работать.
– Раньше ты работала на хозяина, а теперь мы трудимся на себя. Разве это одно и то же?
Она взяла новый початок.
– Нет, не одно и то же, – буркнула она устало.
Он еще постоял перед ней, не находя, что бы еще сказать. Наконец, хмуро попрощался и побрел прочь. Она не подняла голову и не ответила на его прощание. Кукурузные зерна, повинуясь ее тонким пальцам, градом сыпались в миску.
Он все больше уставал, а потом и проголодался. Надо было спросить у девушки, как добраться до трапезной плотников; больше он ни к кому не смел обратиться со своим вопросом. Он забрел в кельтский квартал, состоящий из крытых соломой домиков, сложенных из грубых глиняных кирпичей; здесь было не слишком чисто. Он вспомнил белые веранды и сады на крышах Фурий, тени от колонн; казалось, все это было давным-давно, много лет назад. Сейчас его хозяин, старик Гегион, возвращается, наверное, с утренней прогулки, забавляется с собакой и по-детски отвечает на ворчание матроны по поводу его, Публибора, отсутствия. Здесь, на внешнем кольце, улицы были почти пусты: все либо работали, либо ели; встречались только потные толстяки в грубых блузах, с лохматыми усами и придирчивыми взглядами – варвары из Галлии. Публибор добрел до широкой открытой площади у внешней стены, недалеко от Северных ворот. Площадь была совершенно пуста; он решил пересечь ее и спросить у часового при Северных воротах, как пройти в трапезную, как вдруг у него замерло сердце. В левом углу площади, рядом со рвом, он увидел три деревянных шеста с поперечинами, на которых висели люди. Головы они уронили на грудь, ребра их выпирали, грозя прорвать кожу. Руки и ноги были противоестественно вывернуты, кисти рук привязаны к поперечинам, так что они походили на птиц, подвешенных за крылья. Никогда прежде Публибор не видал распятых и был всеобщим посмешищем, так как отказывался посещать казни. Сейчас он привалился к стене от испуга; в следующее мгновение его вывернуло. Когда он открыл глаза, один из распятых медленно поднял голову и посмотрел на него. Темный бесформенный язык выполз изо рта и медленно заскользил по зубам – сначала вправо, потом влево; взгляд прирос к Публибору. Тот царапал ногтями стену, в горле пересохло, он то ли давился, то ли хрипел, то ли рыдал. Потом лицо распятого, особенно кожа вокруг глаз и рта, покрылось морщинами – видимо, то была попытка улыбнуться. Он несколько раз сглотнул – об этом свидетельствовали судороги горла; потом закрыл глаза и опять уронил голову; сперва он попытался пристроить подбородок на плече, но голова быстро свесилась на грудь.
Кто-то дотронулся до руки Публибора. Он испуганно оглянулся и увидел не выходящего из тени стены стражника.
– Что ты тут делаешь?
Публибор не смог ответить. Он таращил глаза на стражника в форме римского солдата и в низко надвинутом шлеме.
– Небось, новичок? Ступай себе, нечего здесь болтаться.
– Почему? – выдавил Публибор, указывая подбородком на три шеста и дрожа всем телом. – Почему с ними так поступили?
Стражник пожал плечами и ничего не ответил. Его взгляд тоже был устремлен на распятых; через некоторое время он отвернулся и вытер с лица пот.
– Это ради дисциплины, для острастки других, – проговорил он. – Если дать им попить, они еще протянут. Так что ступай подобру-поздорову.
И снова Публибор побрел по улицам города. Он сам не знал, сколько времени слонялся – ему казалось, что это продолжалось вечность. Ему чудилось, что распятый все еще смотрит на него, снова и снова он видел распухший язык, елозящий по зубам – сначала вправо, потом влево. Но когда уставшие ноги окончательно отказались его держать, а желудок стало жечь голодным огнем, видение померкло. «Это ради дисциплины, для острастки других», – звучало в ушах объяснение стражника, человека, знающего, что к чему. Что ж, раз Спартак распинает людей, значит, у него есть на то свои причины. Постепенно Публибор успокоился и даже набрался храбрости, чтобы спросить дорогу к трапезной.
Так он оказался в только что сколоченном длинном деревянном бараке. Стыки свежих досок еще были покрыты смолой, как и во всех постройках города. Садясь на скамью, за бесконечно длинный неровный стол, становясь частичкой бесконечно длинного ряда утоляющих голод, касаясь локтями локтей своих соседей по обеим сторонам, он почувствовал, что снова все в порядке, что праздничная радость, охватившая его при входе в город, вот-вот вернется. Работников кормили густым супом из кукурузы и лука; на каждые шесть человек приходилось по большой миске, из которой они поспешно хлебали большими ложками.
Помещение было так велико, что одновременно суп могла хлебать сотня таких шестерок. Люди за длинным столом насыщались по большей части молча. Пот от дневных трудов высыхал на телах медленно, усталость не проходила; и все же в бараке стоял мерный гул голосов. Пятеро, с которыми Публибор делил миску, то и дело цепляли ложками его ложку, но воздерживались от брани. Публибор уже любил всех пятерых братской любовью, но не осмеливался к ним обращаться, чтобы не ляпнуть глупость, чем, судя по всему, занимался весь истекший день.
Человек, сидевший напротив него, резко отличался одеждой от остальных четырех: на нем была тряпка, в которой при некотором воображении еще можно было узнать тогу, обматывавшая его несколькими слоями; разлетающиеся рукава все время норовили оказаться в супе. У этого едока было изможденное птичье лицо, немного похожее на лицо бродяги у ворот, но выражавшее внутреннюю боль; его живые глаза резко контрастировали с общим впечатлением крайней изможденности. Он первым обратился к юному новичку.
– Ну, каков на вкус хлеб свободы? – спросил он, стуча ложкой о край миски.
– Отлично! – с готовностью откликнулся Публибор. Именно такими он и воображал беседы в Братстве; правда, его несколько насторожила напыщенность обращения.
– Вижу это по твоим глазам, – сказал Зосим. – Скоро ты объешься.
– Уже объелся, – с улыбкой молвил Публибор, откидываясь.
– Пока что это лишь телесное насыщение, – сказал Зосим. – Душа же твоя по-прежнему полна высоких чувств и больших ожиданий. Погоди, это пройдет.
Теперь лишь один Зосим продолжал есть, окуная ложку в суп с видом мученической алчности. Остальные праздно слушали.
– Душа забывчивее тела, – продолжил он, наставительно помахивая ложкой. – Оглянись, и ты увидишь людей, испытывающих глупое и напрасное удовлетворение после дня трудов; что им до голодных братьев по всей Италии? Увы, жажда их утолена первой же каплей из чаши свободы; они давно забыли, о чем мечтали, пока голодали на Везувии. Спартак – тот называет себя императором, якшается с сильными мира сего, вступает с ними в союзы. Подожди немножко, новичок, и глаза твои раскроются; пока же они склеены липкой жижей чувств.
Публибор не знал, что на это отвечать: он и вправду был новичком. Но его удивляло, что и остальные за столом помалкивают, не проявляя к разговору ни малейшего интереса. Сосед Публибора, рыжеволосый детина с выражением неизбывной тоски по родным фракийским горам в глазах, неуклюже встал со скамьи, дружелюбно кивнул сотрапезникам и побрел прочь. Барак постепенно пустел. Но Зосима несло:
– Вот уже два месяца мы торчим здесь, строим себе домишки, словно все проблемы человечества уже разрешены. Где же восстание наших италийских братьев? Они рассказывают друг дружке перед сном сказки про Спартака и гордятся, что в Италии появился город рабов. Когда хозяин отвешивает им пинки, они орут: погоди, вот придет Спартак, уж он тебе покажет! В этом они находят утешение, так что ничего больше не происходит. Увы, мы не одерживаем новых побед, а все потому, что человечество скудоумно и глухо. А мы строим себе домишки да хлебаем суп, забывая о горе других.
Для пущей убедительности Зосим отчаянно жестикулировал; закончив свою речь, он бессильно уронил руки. Ни от кого не дождавшись ответа, он вздохнул и доел из миски остатки супа. Юный Публибор находил его обжорство чрезвычайно забавным; при этом у него создалось впечатление, что речь ритора насыщена нешуточным страданием.
Барак окончательно опустел, не считая компании в углу, кидавшей кости из кожаного стаканчика. Публибор был сонным от усталости: никогда еще ему не выдавалось таких насыщенных дней. Когда ритор завел новую тираду на тему о Городе Солнца, он уже его не слушал. Точно так же девушка с кукурузными початками не слушала его, Публибора. Глаза его, склеенные, по выражению ритора, липкой жижей чувств, сами собой закрылись, и он уснул сидя.








