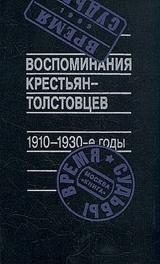
Текст книги "Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910-1930-е годы"
Автор книги: Арсений Рогинский (составитель)
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
В 1939 году меня вызвали на этап, одного из лагеря ст. Тайга. Привезли в Кемеровскую тюрьму. Там уже был Иван Васильевич Гуляев. Мы были рады друг другу, обнялись, расцеловались. Дней через десять опять на поезд, и привезли нас в нашу кузнецкую тюрьму.
Посадили нас с Иваном Васильевичем в одну большую камеру, по обе стороны которой были камеры женские. В одной камере была дырочка в стене. Я спросил сквозь нее: есть ли у вас Ольга Толкач? Мне ответили, что она рядом с вами, но с другой стороны, постучите ей, она ответит.
Тут у меня началась работа и соображения, как постучать Оле. Я постучал ей в стенку, оттуда ответили. И мы с Иваном Васильевичем подумали: это Оля. Иван Васильевич приступил складывать стихотворение Оле, а я вспомнил, как Борис рассказывал, что есть такая азбука для перестукивания через стену. Вспомнилось мне: писать буквы по пять в ряду, ряд над рядом шесть рядов, по порядку алфавита. Но я никогда сам не перестукивался, помнил только, что сначала стучат, какой ряд, а потом – какая буква по счету в ряду. Например, чтобы спросить через стенку: кто? – надо сначала вызвать стуком. Когда ответят, нужно выстучать букву «к» – второй ряд, два удара, пауза маленькая и пятая буква в ряду – пять ударов. Это будет буква «к». Дальше «т» – четвертый ряд, четыре удара и третья буква в ряду – три удара. «О» – третий ряд, четвертая буква. Из стука получится живое слово «кто».
Так же перестукивают и фамилию, и т. д., но для этого надо знать азбуку, выучить ее наизусть и тогда тренироваться, и дело пойдет довольно быстро. В тюрьме времени хватает. У меня был черный мешочек, я распорол его по шву, расстелил на койке, кусочком мыла сделал тридцать клеток. Вместе с Гуляевым написал мылом буквы в клетках и, сверяя по написанному, выстучал: кто? Оттуда ответ: Оля.
Иван Васильевич так и не выучил этой азбуки, но мне помогал: я хожу по камере, а он задает мне буквы, на каком ряду, в каком месте. Все же я передавал целые стихотворения.
В это время в Кузнецкой тюрьме было полно заключенных по 58-й статье. Было много хорошо грамотных партийных; некоторые научились стучать очень быстро. Особенно быстро и хорошо, как на телеграфе, стучал Курганов, секретарь Сталинского райкома.
Из Кузнецкой тюрьмы нас перевели в Первый дом ОГПУ. Сижу там и не знаю, в чем дело? Пишу заявление: одно, два, три – следователю, почему меня держите 6–7 месяцев, ничего не говоря?
Наконец, вызывает меня следователь и говорит, что я еще не осужден, а подследственный, и зачитывает, что по протесту прокурора РСФСР Рогинского приговор выездной сессии Западно-сибирского крайсуда отменен за «мягкостью» (еще в 1937 году). Поэтому те, кого оправдали: Пащенко, Епифанов, Гитя Тюрк и Оля Толкач – были вскоре опять арестованы и сидели более двух лет, пока нас, осужденных уже ранее, соберут из разных лагерей со всех концов Союза.
Последним привезли Бориса, уже в сентябре 1939 года. Во внутренней тюрьме ОГПУ было пятнадцать камер и еще один изолятор, где, вместо койки, стоял гроб. Я сидел в 15-й камере. В 14-й был кто-то один, и я с ним перестукивался от скуки. Он ежедневно передавал, о чем его спрашивал следователь; наконец, передает: приговор – десять лет; еще через два дня передает: «ухожу», и 14-я опустела. Потом слушаю, кто-то ходит по ней, видно, в сапогах. Я вызываю стуком на разговор – не отвечает. Еще вызываю не отвечает, а через два дня отозвался. Я спрашиваю: кто? Он отвечает: Борис. – Откуда? – Из коммуны, – и спрашивает меня: кто? Отвечаю: Димитрий. Так мы стали соседями, только через стенку, и то была радость.
По другую сторону 15-й камеры, за стеной, была столовая сотрудников ОГПУ, слышно было, когда у них бывали гулянки, а на следующий день после их гулянок заключенных кормили лучше: остатками от гулянки. Между 14-й и 15-й камерами была дырка вдоль трубы парового отопления, и я решил написать Борису и передать по этой дырочке. Но тут встал целый ряд затруднений: на чем писать? чем писать? как протолкнуть? Наконец, придумал: писать на тряпочках, разорвал белый мешочек. Чем писать? Чернилами? – В своем сапоге наковырял грязи, развел ее слюной с сахаром, – вот и чернила. В уборной набрал горелых спичек, расщепил их – вот и перо. Писал печатными буквами. Что писал, не помню: наверное, я выучил от Гуляева наизусть несколько мыслей из «Круга чтения» Л. Толстого, и я их передавал как самое нужное. Оставалось просунуть записочку сквозь стенку. В уборной из веника вытащил несколько прутиков, под рубашкой принес в камеру, наматывал на прутик тряпочку с написанным и просовывал в дырочку Борису. А ему стучал: возьми! А иногда по договоренности оставляли записку в условленном месте в уборной. Мне приходилось брать записки от Пащенко, хотя его камера была очень далеко. Однажды во время вечерней поверки я заметил, что дежурный внимательно посмотрел на трубу, по которой мы передавали записки. В следующий раз после передачи я сахаром, разведенным слюной, смазал трубу, поскреб со стены побелку и посыпал по трубе; она быстро высохла и не стало видно никаких следов.
А вот как произошла встреча братьев Тюрк. Гитя около двух лет уже томился в душных, переполненных камерах, через которые непрерывным потоком проходили все новые «жильцы»; приходили и уходили – кто в лагеря, а кто и под пулю. Приходили и уходили, а он всё томился, надрывая свое и так не крепкое здоровье. И вот привезли с Дальнего Востока его брата Гутю и посадили в соседнюю камеру, но они сначала не знали об этом. Вот стихотворение Гити:
Тук, тук, тук!
Где этот стук?
Кто-то стучит за стеной,
Кто-то назойливо хочет узнать,
Кто я такой?
Тук, тук, тук,
Отвечаю на стук.
– Я издалека приехал, друг.
Я устал и хочу отдохнуть
Я приехал на новый суд,
Тук, тук, тук
Снова доносится стук,
Удар за ударом,
Он имя мое выбивает,
В волненье стучу я опять;
Как можете вы меня знать?
Доносятся медленно стуки,
За дверью глушатся шаги,
Дробятся, сливаются звуки:
– Я брат твой, я здесь же, как ты.
Массивно повисли замки,
Железом окованы двери,
Крепки в стенах кирпичи,
Но все же они не сумели
Замкнуть нас в свой каменный круг.
Тук, тук, тук.
Зачем я помещаю в свою жизнь стихи? Да потому, что они, хотя написаны не мною, но отражают, чем все мы жили эти годы неволи. Недаром Толстой и многие мудрецы Востока говорили: «Одна душа во всех», и то, что переживал один из нас, близко чувствовал другой.
Вот еще тюремный стих Мити Пащенко:
Серым светом брызнуло над городом,
Ночь бессонная, уйди, уйди!
Сердце вновь неволею распорото.
Дни, застывшие в моей груди.
Что досуг, когда он, цепенеющий,
Стиснут удалью тюремных палачей.
Сколько молодости, жизни тлеющей
За забором мертвенных ночей.
Я в тюрьме, до гущи натабаченной,
О, измученная горем мать!
Как безумный, жаждой я охваченный
Жаждой жить, свободою дышать.
И за что? за что? в тюрьму заброшенный
Я, полей, труда крестьянский сын,
На земле я, что ли, гость непрошеный?
Сердце доброе, остынь! Остынь!
За время пребывания в тюрьмах и лагерях я испытал и насмотрелся столько дикости, жестокости, что становился в тупик: где же я? Кто же это делает? Неужели это делают представители власти коммунистов, идеал которых – безвластие, безнасильственное общество – дорог одинаково и им, и мне? Неужели это делают те, кто так возмущался произволом и дикостью царских властей над людьми из народа? Но я знаю, что тогда политические, даже революционеры – прямые враги существовавшего строя – и то имели возможность в ссылке писать свои труды, заниматься науками, иметь книги, бумагу. Тогда было кому делать критику о жестоком обращении в тюрьмах; эта критика сдерживала тюремщиков, а теперь? Против кого будешь критиковать? Против коммунистов? Но их идея – сама гуманность. Теперь никто не может выразить протест или неудовольствие о жестоком обращении тюремном и лагерном с людьми. Нельзя даже сказать за самого себя, а не то, чтобы встать на защиту других. Чего стоят одни обыски: раздевайся догола, отойди в другой угол, и в это время щупают, перетирают в руках все швы твоей одежды. – Подойди, подними ногу, повернись задом, нагнись, раздвинь половинки руками. Одевайся. – Письма от родных, которые тебе так дороги в заключении, отбирают, несмотря на то, что они проверены, когда получались. Нет никакого основания их отбирать, но у того, кто делает над тобой обыск, власть неограниченная, а ведь известно: самовластие развращает не одних царей. Не было в этих людях ни стыда, ни совести, ни разума, ни просто ума, а были пропитаны они грубой бессовестностью, матерщиной и нахальством.
Вот и приходилось каждое важное событие, каждый стих из нашей жизни прятать и хранить в мозгу, куда не достигают ревнивые блюстители «порядка», где не могут они копаться в твоих пережиганиях и не найдут, даже если бы череп вскрыли.
Чудесное там Божье хранилище! И как ни строго содержат в тюрьмах, в подчинении и молчании, но добрые мысли, добрые чувства, любовное отношение между людьми – лезут сквозь каменные стены с железными дверями и большими массивными замками. Лезут молча, без слов, чтобы подбодрить духовные, а порой и физические силы, уставшие в этих жестоких, нечеловеческих условиях, где разумных людей держат как диких зверей.
Итак, нас собрали вновь для второго суда. Собрали, но не всех – двоих уже не было: Якова Драгуновского и Анны Барышевой, о которых следователь мне ответил, что «они отправлены в туманные дали». Я тогда вздохнул и понял, куда они отправлены, и следователь понял, что я понял это. Но спросил: «Что ты так вздохнул?» На что я ответил: «А где туманные дали?» Он ответил: «Где-то на Севере».
А когда я ознакомился с делом по нашему обвинению, которое состояло из нескольких объемистых томов, то обнаружил в них две небольшие бумажки уведомление сталинского ОГПУ о том, что Драгуновский в декабре 1937 года был взят в ведение «третьей части», а Барышева взята в ведение «третьей части» в январе 1938 года. Барышева была в Мариинском лагере, а Драгуновский в лагере «Орлова Роза». Я знакомился с делом больше месяца, следователь уже начал сердиться на меня, так как ему все это время приходилось сидеть со мной; но я мало интересовался делом, а старался заучить на память стихотворение, отобранное у И. В. Гуляева, «Живые мертвецы», но так и не удалось мне его записать в свою мозговую библиотеку.
Суд над нами был уже ранней весною 1940 года и, как и первый, шел пять дней. Сроки всем дали большие, но вышки никому не было, хотя мы думали, что без нее не обойдется. Приговор мы обжаловали, и пока мы были кассационниками, нас содержали всех вместе в Мариинском централе, хорошем, крепком, еще царском. Несмотря на то, что тюрьма была обнесена высокой кирпичной стеной, во дворе ее еще были выгорожены маленькие дворики, огороженные высокими досками. Туда нас выгоняли минут на пять, а иногда и меньше – на прогулку. Руки назад и ходи по кругу гуськом, пока часовой не скомандует: повернись! – и идем в обратную сторону, чтобы не закружилась голова.
Об этих двориках Гитя Тюрк сложил такой стих:
Пахнут утренней сыростью доски,
И сегодня здесь, как вчера,
Две скупые зеленые слезки
Две травинки в углу двора.
Утро каждое, грустный и робкий,
После всех пережитых мук,
Рад я встретить в тюремной коробке
Наш сомкнувшийся братский крут.
Как мне дороги бледные лица,
Их улыбки и бодрость слов…
После утверждения кассации нас из Мариинска опять стали раздергивать и рассылать – кого куда. Меня послали в сельскохозяйственный лагерь Орлюк; Гитя с Гутей после некоторого скитания по лагерям встретились в одном, что было для них большим счастьем. Гуляев, Пащенко также остались где-то в системе мариинских лагерей. Оля Толкач попала в лагерь под Новосибирском. Егора Епифанова по кассации отпустили домой, где он недолго прожил и умер от туберкулеза; а Бориса отправили опять на Север.
Как-то я получил от него письмо, в котором он писал так: «Димитрий, я радуюсь, что ты не попал сюда вместе со мной. Ты бы здесь не выжил. У нас здесь за одну зиму в нашей колонии в 1200 человек умерло более 500 человек, а во всем усть-вымьском лагере умерло 36 %. Дай Бог тебе здоровья на долгие годы, пережить тебе всё это и вернуться к своей семье и оставшимся еще в живых друзьям».
В Орлюке 30 мая 1943 года я закончил свой срок, но меня не отпустили, а перегнали в другой лагерь, в Юргу, где я и был закреплен в лагере работать «по вольному найму». Всё это было на основании какой-то директивы № 185. Работал я в должности пчеловода и заведующего подсобным хозяйством.
В 1945 году окончилась война. Наступил 1946 год, и исполнилось десять лет моего заключения. Мне объявили, что за хорошую работу директива с меня снята, и я могу уехать, но ехать можно было не во все места. Меня спросили, куда я хочу. Я сказал: в Киргизию. От друзей Васи Бормотова, Сергея Семеновича Шипилова и Якова Калачева я слышал, что жить там неплохо. Но долго еще я не мог устроиться, переезжал с места на место. Потом во Фрунзе встретился с одним директором хозяйства на озере Иссык-Куль. Он мне сказал: нужен такой человек, как я. Он повел меня в ресторан обедать, за обедом написал удостоверение и сказал, чтобы я ехал в Пржевальск, а дня через два-три за мной пришлют. Через несколько дней за мной действительно приехали и повезли на новое место работы. Дали мне квартиру из четырех комнат с гардинами на окнах и дверях, 90 стульями, столами и с пружинной кроватью, на каких я в жизни не спал. Вот туда-то и приехала ко мне семья, с огромными трудностями вырвавшаяся из Сталинска.
Тося и Виталий учились в Сталинске в сельхозтехникуме. Тосе пришлось бросить учебу и помогать матери с переездом, а Виталию дали перевод во Фрунзе. У Тоси хотя и не было перевода, но ее все же приняли на второй курс техникума. Оба они окончили на отлично. Тося пошла работать на Иссык-Куль, поближе к нам, а Виталий поступил в сельхозинститут во Фрунзе.
Мне не понравилось там жить и я рассчитался, но всё же сделал там большое дело на память о себе: посадил плодовый сад в несколько гектаров, сделал обсадку декоративными деревьями, – это будет память лет на восемьдесят.
В Пржевальске я купил домик, правда, неважный, но с хорошим садиком. На этой усадьбе мы живем и поныне. Сделали новый домик из жженого кирпича. В 1949 году я поступил пчеловодом в Пржевальский леспромхоз и проработал там пять лет. Работа по найму не то что коммуна, но любимый труд среди природы скрашивал мне жизнь. Пасека была от города за шестьдесят километров, в горах. Неудобно было – далеко от дома, и когда через пять лет леспромхоз предложил мне еще куда-то переехать, на другое место, то я уже не захотел и рассчитался. Осенью 1954 года сдал пасеку. У меня там было своих четыре улья, а весной купил еще пятнадцать ульев, нашел себе место у одного киргиза на усадьбе в селе Джеты-Огуз и стал заниматься пчелами. В 1967 году в том же селе купил себе домик-времянку с усадьбой шесть соток, обнес ее дувалом (глинобитной стеной), посадил там сад, более тридцати деревьев, смородины, малины, сделал беседку, увитую плющом. Теперь там настоящая дача, только домик плохой. Я никогда не гнался за личной собственностью и хотел строить жизнь без нее, но не дали. А труд я люблю, и достаток сам лезет ко мне.
В 1958 или 59 году я пригласил к себе из Ташкента Гутю Тюрка (Гитя уже умер в то время в Бийске) заняться пчеловодством. Он приехал со своей семьей, купил себе домик с садиком и занялся пчеловодством. 20 марта 1968 года Гутя скончался от болезни сердца. У меня радикулит, вывезенный еще из лагеря, кругом нас курорты с горячими подземными источниками, но и они не помогают. Уже двадцать два года, как меня освободили из лагеря. Дети выросли и отделились.
Еще несколько слов о коммунах. Коммуны (общины) возникали и до революции. Обычно на помещичьих землях, которые предоставляли для коммун ее владельцы, принявшие идеи коммуны. В то время членами коммун были в большинстве своем интеллигенты, увлеченные этой идеей. Но им трудно было вживаться в крестьянский труд, и в силу этого коммуны существовали недолго и распадались.
После революции организовывалось много коммун, которые вначале приветствовались и поощрялись властью и партией. Много среди этих коммун было несерьезных: получали имущество, проживали его и расходились; но много было и таких, которые убежденно и по-хозяйски брались за дело и крепко становились на ноги. В этих коммунах состав был целиком почти крестьянский, привыкать к труду им было не нужно, оставались трудности преодоления в сознании старых, отживших понятий и взглядов на жизнь.
От всех этих коммун не осталось сейчас ни одной, потому что кому-то, кто сам не работал и участия в жизни коммун не принимал, но считал, что у него есть какое-то право стоять выше людей и заставлять их жить по-своему, пришло в голову закрыть коммуны одним росчерком пера. Ликвидация коммун утверждалась законами и крепкими решетками.
И еще несколько слов о первой коммуне «Возрождение», близ села Бурдино Елецкого района, в которой я жил и которую создавал с товарищами. Строилась она на голом месте, из крестьян-середняков. Свои постройки в селе мы сломали и перевезли на новое место своими силами. Был посажен большой плодовый сад и ней обсажено декоративными деревьями в несколько рядов. Через 7–8 лет многим не верилось, как голое место превратилось в цветущий участок. После коллективизации весь наш поселок был переселен в старое село. Садами несколько лет пользовался колхоз, а во время войны все сады были безжалостно вырублены. В 1962 году, через тридцать один год, я поехал на родину и походил по тем местам, где я с друзьями строил коммуну. Дикая поросль по рядам, где были плодовые деревья. Наверно, и сейчас там так.
Привожу список членов коммуны «Возрождение», единомышленников Толстого, с 1915 по 1930 годы.
1. Стоянов Василий Андреевич. Был арестован в 1922 году в Ростове-на-Дону. Там его жизнь и кончилась.
2. Логунов Александр Васильевич. Тот самый, который возил хлеб Ленину. Уехал из родного села в 1930 году.
3. Астафьев Иван Васильевич. Его жена не хотела идти в коммуну, и он покончил жизнь самоубийством.
4. Волгов Тимофей Семенович. В 1930 году был сослан в Караганду, где и умер от голода.
5. Волгов Тимофей Евдокимович.
6. Ульшин Петр Васильевич.
7. Дорохин Леонтий Иванович.
8. Ульшин Василий Васильевич.
9. Ульшин Иван Дементьевич. – Все эти люди умерли у себя в селе, в Бурдино.
10. Волгов Данила Иванович (умер в Ростове-на-Дону).
11. Иванова Раиса Ивановна – наша учительница, умерла в селе Солдатское.
12. Ульшин Михаил Григорьевич. Умер в Донбассе.
13. Вольских Филипп Егорович. Умер.
14. Моргачев Димитрий Егорович. Переселился в Сибирь в коммуну единомышленников Льва Толстого. Я приглашал своих друзей к нам, но они побоялись Сибири.
И опять я думаю: почему этим людям не дали жить? Люди трудовые, местные, вся их жизнь как на ладони; никогда я от них не слышал, чтобы они стремились или добивались какой-либо своей политической власти, у них на этот счет никаких дум не было и в помине. Казалось бы, цвести их трудам на благо и на пример людям. Так нет, с упорством, достойным лучшей цели, жить и трудиться им не дают. И кто же не дает? Власть рабочих и крестьян с идеалом коммунизма впереди. Мне кажется, однако, что рабочие и крестьяне здесь ни при чем, а действует голое самоуправство чиновников, стоящих над народом, а не служащих ему.
Наша сибирская коммуна «Жизнь и труд», возникшая в декабре 1931 года, росла и крепла год от году и была прикончена к концу 1938 года.
Член коммуны Иван Васильевич Гуляев, состоявший в свое время в дружеской переписке с Толстым, по поводу разгрома коммуны написал стихотворение. Оно начинается словами:
Чем толстовцы провинились
Пред свободною страной.
За что прав своих лишились
Жить в коммуне трудовой?..
И кончается так:
Может, в том лишь провинились
Пред свободною страной,
Что по совести стремились
Жить, как учит Лев Толстой.
С 1936 по 1940 год у нас было арестовано и осуждено шестьдесят пять человек; из них вернулось несколько человек, больные вскоре умерли. А остальные не вернулись к семьям никогда.
С 1941 по 1945 год было арестовано и осуждено за отказ носить оружие и идти на войну из толстовской коммуны и других толстовских объединений более сорока человек; и они не вернулись. А всего было взято более ста человек. Эти люди за искренние убеждения отдавали свои жизни.
Вечная им память!
Заключение
Жизнь прожита. Оглядываюсь на весь пройденный путь. Условием всей моей жизни был труд, труд необходимый, труд любимый, труд по сознанию.
Но труд никогда не был для меня средством наживы, обогащения ради накопления личной собственности. Я привык жить деятельной жизнью, в беспрестанном движении, а теперь силы телесные оставляют меня, и я перешел на положение старческое, непривычное мне, и признаюсь, это приводит меня иногда в уныние, к чувству своей неполноценности, ненужности. Но я преодолеваю это чувство. Всему свое время. Были силы – тратил их, не жалея. Теперь надо пожить стариком. И взглядом старика, много повидавшего, много пережившего, умудренного опытом жизни, оцениваю свой путь и вижу, что я и сейчас не сомневаюсь в том, что дело, которому я отдавал силы, дело объединения людей в направлении братского единения людей на началах свободных, разумных, трудовых – дело истинно хорошее.
Я и сейчас бы, не раздумывая, оставил бы всё и свой обеспеченный, спокойный угол и пошел бы в неизвестность, на труды и лишения, лишь бы участвовать в строительстве такой коммуны, какая была моим стремлением всю жизнь, и к старости еще более укрепилось мнение, что путь этот правильный, достойный разумных людей.
Но есть в моей жизни вопросы, которые тяготили меня всю жизнь, которые так до сих пор и остались не разрешенными мною ни в жизни, ни в моем сознании.
Это вопрос о семье. Как быть? Как должно быть правильно, чтобы никого не подгибать под себя и чтобы самому не подгибаться? Человеку свойственно находить себе пару жить семейной жизнью, и происходит это еще в молодые годы, когда человек еще не особенно углубляется в вопросы о смысле жизни. Но человеку также свойственно не стоять на месте, мыслить, думать о жизни и приходить к каким-то решениям, которые нельзя уподобить одежде: давай сегодня рубаху, завтра другую, а послезавтра и вовсе без рубахи похожу. Нет, если убеждения искрении, тверды, от них не отмахнешься, душа не позволит, потеряешь уважение к себе.
И вот я, молодой человек, живший «как все», хлебнул по горло благ жизни государственной с патриотизмом, военщиной, собственностью, освященными церковью, понял весь этот обман.
Такая жизнь стала мне чужда, я не мог больше верить во всё это, хотя бы мне за это предстояла смерть. И меня потянуло строить и личную и общественную жизнь на других, более человечных началах.
Тесна мне стала жизнь узкосемейная, замкнутая только в кругу своих интересов, благосостояния только своей семьи. Я понял, что никакого благосостояния семьи не может быть отдельно от всего общества, и мне было бы тяжело, я считал бы неправильным, если бы у меня был достаток, а вокруг нужда. Я и другим хотел того же хорошего, что и себе, и верил, что если в обществе будет хорошо, то и мне, и моей семье будет хорошо.
Я понял всё это и стал жить этим, а жене это всё было чуждо. Ей непонятно, зачем заботиться о каких-то посторонних делах, когда у нас есть своя забота, свои нужды, своя семья. Я не виню Марьяну ни в чем. Она хорошая, честная, трудовая женщина, заботливая мать и жена. Но я не могу винить и себя. Но как же согласовать в совместной жизни её понимание с моим? Я знаю, что это больной вопрос, и не только для меня одного. Я знаю, что этим мучаются и мучались многие другие. Я знаю, что во многих семьях и у верующих, и у политических – многие женщины хотя и не очень глубоко понимают мужа, но считают, что он прав, верят ему и не только не спорят, но поддерживают его и защищают от нападок. Жизнь в таких семьях идет много складнее и легче и для мужа и для жены. Но всё же и здесь остается вопрос: а правильно ли это? Хорошо это или плохо – такое добровольное подчинение жены? Но, во всяком случае, и мужу, и жене легче, чем вечное препирательство, недовольство, слезы. Лучше это для них самих, а главное лучше для детей. Я никогда не принуждал Марьяну верить по-моему, да это и невозможно, но в некоторых случаях я проявлял твердость: так, я никогда не разрешал говорить мне плохо о людях. Есть сказать что хорошее – говори, нет – молчи. Слушать плохое о людях, осуждать их я не хочу.
Я иногда думаю: что сказал бы обо всем этом человек, которому я так верю, – Толстой? Я знаю, что он сказал бы: что порядок в жизни, не только в семье, но и в обществе, может быть только тогда, когда люди искренни, разделяют единое – доброе и разумное понимание жизни, имеют единую религию. Тогда всё, что так трудно, даже невозможно разрешить и согласовать, решается само собою. И я согласен с этим, но живем мы сейчас в такую эпоху, когда нет в людях этого общего всем мировоззрения; старое отжило и не имеет силы, а новое еще не сложилось. А отсюда все страдания, тот хаос в жизни, который мы видим во всем мире.
Думаю еще о судах. За мою долгую жизнь меня много раз судили, и большой кусок моей взрослой сознательной жизни я провел как раб, за решеткой, под штыком.
Зачем-то судьям, следователям, прокурорам, ученым юристам надо было представить меня каким-то врагом народа, преступником. Я не знаю, зачем это надо было, может быть, они этим кормятся? Пусть это будет на их совести. Но моя совесть чиста перед народом. Я никогда не стремился к власти над людьми. Все свои силы я отдавал смолоду на благо народа. Всегда я хотел людям только хорошего, только того, что они сами для себя хотят: свободы, мирного труда, и в этом отношении моя совесть чиста. Да и судьи в первое время после революции, когда они были ближе к народу и не совсем еще обюрократились и очиновничились, всё же хотя и судили меня, но признавали мою не злостность, а искренность и, уважая ее, – освобождали. И этим освобождением они возвеличивали себя, показывали, что и они мыслящие люди, а не бездушные чиновники.
На этом кончаю свои записи о моей жизни, хотя жизнь моя здесь на земле еще не кончилась, но конец этот уже близок. Смерти я не боюсь, она меня не пугает. Страшнее быть мертвецом при жизни.
Буду стремиться, прилагать все силы, чтобы почувствовать радость жизни не только в деятельном труде, а и в старческой немощи, в упорном труде в своей душе в том же направлении, в каком шел всю жизнь.







