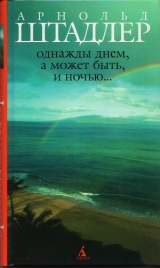
Текст книги "Однажды днем, а может быть, и ночью…"
Автор книги: Арнольд Штадлер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
III
1
Гавана, серый город вроде Хузума, замерла перед его взором и притаилась за его спиной, но по-прежнему оставалась для него самым прекрасным городом в мире. «Когда из твоей Гаваны уплыл я вдаль», как пелось в «Голубке»:
Cuando
sali de la Habana, valgame Dios!
nadie
me ha visto salir si no fui yo
у una linda Guachinanga alia voy yo
que se vino tras de mi que si senor
si a tu ventana llega una paloma
tratala con carino que es mi persona. [86]86
Когда из твоей Гаваны уплыл я вдаль, / Лишь ты угадать сумела мою печаль. / Заря золотила ясных небес края, /И ты мне в слезах шепнула: «Любовь моя! / Где бы ты ни плавал, всюду к тебе, мой милый, / Я прилечу голубкою сизокрылой!» (исп.) – цитируется известная кубинская песня «La Paloma» («Голубка», русский текст С. Болотина и Т. Сикорской).
[Закрыть]
Беспокойно томится сердце наше, пока не успокоится в Тебе [87]87
Блаженный Августин. Исповедь.
[Закрыть].
Маринелли, собственно, подумывал было переехать в отель «Капри», обветшавший, запущенный и едва ли не заброшенный, но потом очутился в «Довиле».
Его даже радовало, что в этой скверной гостинице во время завтрака не играет оркестр, нет шведских столов и телевизора. А вид с любой крыши в Гаване все равно открывается один и тот же.
В одиночестве он сидел на террасе за крошечным столиком, ждал, когда ему принесут яичницу-глазунью, сначала удивляясь, почему же ее не несут, а когда ее наконец приносили, то почему она такая маленькая: неужели из одного голубиного яйца или вообще из яйца какой-то неизвестной птицы. Служащие отеля, которых он так долго жалел и осыпал подарками, присваивали себе часть продуктов и тайком продавали их из-под полы, а не съедали сами. Пока Ренье не открыл ему однажды глаза и не сделал выговор за непомерно высокие чаевые, он даже не подозревал, что так поступают все, кто обслуживает туристов.
Куба на рубеже тысячелетий представляла собой общество, состоящее из двух классов: у одного были доллары, у другого – нет. В кубинском обществе существовали писатели, торгующие дынями, и таксисты и горничные, владеющие домами на море. Только теперь Франц понял, что когда в первый день своего пребывания в Гаване он, изрядно напившись, на радостях стал раздавать двадцатидолларовые банкноты музыкантшам женского оркестра за то, что они сыграли по его заказу «Бесаме мучо», то даже те, кого он облагодетельствовал, справедливо истолковали его поведение как сумасшедший каприз, признак надвигающегося безумия. К тому же он вошел в раж и стал дирижировать, размахивая своим швейцарским перочинным ножиком.
А еще Маринелли радовало, что теперь он избавлен от необходимости слушать за завтраком «Comandante Che Guevara, tu querida presencia» [88]88
Команданте Че Гевара, ты вечно с нами! (исп.)
[Закрыть]. Прошла всего неделя с тех пор, как он – на крыше-террасе отеля «Севилья», где уже за завтраком исполняли музыку и пели (но, к счастью, не танцевали, ведь для танца, в отличие от музыки, нужно место), – потребовал спеть для Розы «Венскую кровь» [89]89
«Венская кровь» (1873) – вальс австрийского композитора Иоганна Штрауса (1825–1899).
[Закрыть], и ее в самом деле спели. Он опустил певице пятьдесят долларов туда, где у стриптизерш, танцующих на столе, оказываются купюры достоинством в один доллар и где кубинские проститутки держат мобильные телефоны, ну, в общем, за декольте. Роза была тронута и всем своим видом показывала, что гордится своим поклонником, истинным венцем, щедрым и галантным.
Так один понял, чего стоит другой. Они поехали на Кубу, чтобы понять, кто чего стоит. И теперь убедились, какие же они ничтожества.
Им еще повезло, что они оказались на Кубе, а не в Монгольской Народной Республике, ведь там официальным гостям ко всему прочему пришлось бы и мерзнуть. «Лучше уж потеть, чем мерзнуть», – в своё время решили писатели и выбрали не Монголию, а Кубу. Да ладно, все-таки кое-что посмотрели, опять же бесплатно.
Как же он устал…
Теперь Маринелли брел вдоль знаменитой гаванской колоннады, за которой ему в последние дни приходилось прятаться от трех венцев, предпочитавших осматривать город поодиночке, а еще от полиции, потому что праздношатающихся пьяниц в почерневших от грязи летних костюмах вытаскивали из толпы даже в Гаване. Вот ему и приходилось прятаться. Это оказалось нелегко, ведь почти за каждым углом притаился полицейский.
В последние дни он бывал только там, куда никто, кроме него, не заглядывал.
К вечеру у него хватало сил только добраться до бетонного парапета у отеля «Довиль» и, сидя там, смотреть на закат.
Здесь Рамона когда-то лежала, положив голову ему на колени, наблюдала, как занимаются любовью другие парочки, которых Франц не замечал, ела банан и мечтала бежать с Кубы.
Еще один ненужный день, опять вставать, куда-то идти… Ему еще предстояло медленно себя доконать.
2
Международная книжная выставка-ярмарка проходила в крепости Морро, и австрийские писатели к шести часам вечера приехали на официальный прием в эту переоборудованную для встреч на государственном уровне тюрьму, в этот ад, некогда обустроенный силами самих заключенных.
Когда-то здесь томились их покойные коллега-писатели, в том числе и те, кто, решительно выбрав свободу, бросился с террасы, на которой они сейчас пили коктейль «сандаунер».
Обычно здесь проходили встречи Кастро с официальными гостями. В зале, где когда-то устраивались показательные судебные процессы, великий лидер принимал вчера другие делегации, но их не пригласили, и все из-за этого растяпы Маринелли, и теперь венцы, мечтавшие увидеть того, у кого аудиенцию получить труднее, чем у Папы Римского, кляли Маринелли на чем свет стоит.
В бывших камерах, где когда-то в страшной тесноте и скученности жили и умирали заключенные, а среди них и писатели, впоследствии ставшие классиками и опубликованные издательством «Зуркамп» наряду с лирикой Мао Цзедуна, размещались павильоны разных стран, и австрийский тоже.
Словно прошлое губкой стерли с доски.
Только смерть всех уравняла.
Роза читала в выставочной нише, размещавшейся в отремонтированной тюремной камере, где когда-то, вместе с еще восьмьюдесятью кубинцами, в чем-то провинившимися перед Кастро, в том числе и с уголовниками, томился ее собрат по перу Рейнальдо Аренас, хотя Роза об этом даже не подозревала. На Гавану им разрешалось смотреть с крыши-террасы, но, впрочем, только раз в неделю; тогда они смотрели на серую Гавану и на море, по которому тосковали не меньше и за которым был чудный рай, Земля Обетованная. Теперь бывшую камеру отремонтировали. Заново побелили, ни единого темного пятна. Посольство наконец позаботилось о том, чтобы для австрийцев устроили этот – единственный – прием. Франц тайком проскользнул туда и подкрался поближе – просто посмотреть на нее и поддержать морально, – и надеялся, что она его заметит.
В зале по десяти рядам кресел были неравномерно распределены человек пятнадцать – двадцать. С кубинской стороны выступил с приветственным словом секретарь Союза писателей, отвечающий за международные отношения. Посол Австрии просила ее извинить – неотложные дела. Писателей ей на всю жизнь хватит, спасибо. Даже от писательских фотографий тошнит. Зато в первом ряду наблюдался второй атташе австрийского посольства, с трудом выдерживавший писателей и писательские выступления и только потому сидевший с более или менее благодушным видом, что делегация вот-вот улетит домой. Ему уже дважды пришлось телефонными звонками в соответствующие органы вызволять одного писателя из тюрьмы, ведь проституция на Кубе запрещена, ее, по официальным данным, даже не существует. Алкоголь привел к дополнительным осложнениям. А потом еще этот Маринелли. Его было приказано не пускать сюда ни под каким видом. Ведь его три дня назад на западном шоссе уволили без уведомления, просто вышвырнули из автобуса, не спросив мнения Розы. Теперь он с несколько безумным видом притаился в углу, но Розе его было прекрасно видно с ее места под куполообразным сводом камеры – вон он, в некогда белом, а теперь измятом, грязном полотняном летнем костюме. Кроме Розы, его никто не заметил. Смотреть на него было страшно. За три дня Франц превратился в бродягу. Когда она увидела, как он там прячется, у нее дрогнуло сердце.
Куба и Австрия были чем-то похожи: и та и другая бывали у всех на устах чаще, чем можно было бы ожидать, исходя из их размеров. И Куба, и Австрия породили исторических личностей, положительных и отрицательных, о которых, возможно, будут говорить и через три тысячи лет, на которых падет блеск этих трех тысяч лет и от которых останутся лишь мурашки по коже у тех, кто о них услышит. И Куба, и Австрия построили автострады, которые вели с востока на запад, и Куба, и Австрия сужались к западу, сходили на нет, ведь Австрия и Куба были горизонтальными странами, томно раскинувшимися, точно возлюбленная, тогда как некоторые страны стояли торчком, словно восклицательный знак. Кроме того, и на Кубе, и в Австрии лучший кофе и лучшие на свете кофейни. Вот только газет в Гаване не было.
В это мгновение Роза начала читать фрагмент своей автобиографической прозы – «Родилась неудачницей, и пошло-поехало», – который она написала, как только Франц исчез из ее жизни по дороге в Виналес:
«Рядом со мной сидела читательница, которая просила меня объяснить один отрывок: „В больнице в Ляйнце [90]90
Ляйнц – район Вены.
[Закрыть]мне сначала удалили опухоль матки размером с детскую голову. Но все – таки не уморили. Мне не показали эту опухоль и не сказали, куда ее дели (а как вообще избавляются от хирургических отходов?), но разве у меня не было права по крайней мере ее увидеть? Разве это не моя опухоль? Ведь позволяли же мне в детстве завернуть молочный зуб в носовой платок и унести его домой из кабинета зубного врача?" А он сфотографировал нас в то мгновение, когда мы разбирали этот фрагмент и размышляли, что он значит. Откуда мне знать? Разве этот текст – по-прежнему часть меня, разве я не напечатала его, не забыла, не потеряла из виду в гуще всех этих строк, страниц и эпитафий?» Роза читала и читала – не для публики, публике больше всего хотелось посмотреть в окно, которого не было, – а исключительно для Франца, словно читает его некролог.
Заметив, что Франц по стене подкрадывается все ближе и ближе, она сделала паузу и сказала: «А сейчас я прочитаю еще один текст, написанный только что…» – банальный зачин из репертуара любого путешествующего писателя.
Речь шла о чем-то сентиментальном, немного смешном и полузабытом: «Объявляют белый танец, ты подходишь к нему и спрашиваешь: „Можно вас пригласить?" – он отказывает, и ты возвращаешься на свое место в жизни, тебе остается только краснеть. Ты, собравшись с духом, с ним заговариваешь, а ничего не получается».
Как Франц ее понимал. В портфеле у него было полтора литра белого бесцветного рома, перелитого в безобидную бутылку из-под воды, чтобы никто не догадался.
3
Он сбежал с писательских чтений. Он во что бы то ни стало должен был поговорить с Розой. Он знал, что она рано или поздно вернется в отель и будет сидеть в кресле, из которого виден боковой вход, и собирался потихоньку прошмыгнуть через него, прокравшись вдоль колонн туда, где надеялся встретить Розу. Его охватила паника, ведь денег у него больше не было, все деньги выманила Рамона, и взять больше неоткуда, потому что он потерял кредитную карточку, а еще потому, что все деньги он истратил. Он промотал все свое состояние. К тому же он, опустившийся бродяга, чудом проскользнувший в холл приличного отеля «Севилья», не решился бы подойти к банкомату. У него оставался только обратный билет. По соображениям стратегии Франц, прячась то за одной колонной, то за другой, пробирался сквозь лес колонн в холле, а оркестр играл «Ти querida presencia» [91]91
Ты вечно с нами (исп.).
[Закрыть]. Роза была его последней надеждой, и если в холле ее не будет – а если она там окажется, это просто чудо, – то таксист, который ждет его у дверей, а по-другому и быть не может, отвезет его прямо в полицию, и тогда… Но Роза была в холле.
Франц обнаружил, что Роза сидит за бокалом «мохито», [92]92
«Мохито» – коктейль из мятного ликера и лимонного сока со льдом.
[Закрыть]и его последний раз в жизни немного помучили Хемингуэем [93]93
Эрнест Хемингуэй (1899–1961) – американский писатель, несколько лет провел на Кубе; покончил с собой.
[Закрыть]. Бедный «мохито»! Считается любимым напитком Хемингуэя и потому попал во все путеводители! Куда бы судьба ни заносила Франца, почти везде существовала или скала, с которой бросался в море лорд Байрон, или море, в котором – купались Шелли или Китс [94]94
Джорж Гордон Байрон (1788–1824), Перси Биши Шелли (1792–1822), Джон Китс (1795–1821) – английские поэты-романтики.
[Закрыть], или любимый бар Хемингуэя с фотографией Хемингуэя на стене. Не стал исключением и бар отеля «Севилья», где под фотографией Хемингуэя Роза сейчас пила любимый напиток Хемингуэя. Вездесущий Хемингуэй, которым Францу полагалось восхищаться потому, что тот с упоением совершал жестокие поступки, а под конец без церемоний расправился с самим собой. Настоящий герой short story [95]95
Short story (англ.) – рассказ, новелла.
[Закрыть]. Впрочем, Франц, может быть, тоже настоящий герой short story. Но в памяти Розы Франц навсегда остался человеком, утратившим самого себя.
Увидев Франца, она тотчас же его простила. Он стоял перед ней, опустившийся бродяга, оборванец: от него все испуганно шарахались, как птицы от пугала. За несколько часов он превратился в нищего в лохмотьях. Едва он взглянул на Розу, как она, забыв о гордости, самолюбии, упреках, бросилась к нему.
Маринелли проскользнул мимо охранников, опасливо покосился по сторонам, сел без приглашения, сделав вид, будто он тоже постоялец отеля – ее спутник, и взмолился: «Если ты не дашь мне пятьдесят долларов, меня арестуют! Ты не знаешь, что значит оказаться в кубинской тюрьме!» В Вене он ей все вернет. Значит, у Розы есть надежда увидеть его дома. Она прошла к банкомату и получила для него пятьсот долларов. «Тебе этого хватит? Отдашь в Вене». Франц всего один раз обнял ее, поцеловал, и с этим они расстались.
Он вышел, сел в такси, заплатил шоферу и теперь в одиночестве брел по набережной Малекон, уже довольно твердо держась на ногах, словно упустил достойный шанс умереть.
Все пропали друг за другом. Сначала свиньи. Потом делегация, умчавшаяся на запад. Потом Рамона и Ренье. У него оставалась только Роза. Ее-то уж он не потеряет. Каким – то образом он, вероятно, все-таки добрался до отеля «Довиль», потому что на следующее утро в одежде, помятой и испачканной, проснулся у себя в номере.
Он встал и, не умываясь, решил пойти на море.
Была только половина седьмого, но он брел по направлению к Малекону и, казалось, взглядом искал в волнах потерпевших кораблекрушение, а на песке – выброшенные морем обломки судна. В открытом кафе напротив уже завтракали первые посетители, европейцы, которые и понятия не имели, что за коварная штука время. Но Франц знал, как трудно бороться с его натиском, и потому двинулся в направлении горизонта.
Раньше его терзала просто тоска. Теперь – тоска по родине. До сих пор это была просто тоска. Сейчас тоска по родине.
Дни начинались с чудного утра, а в Варадеро [96]96
Варадеро – кубинский курорт, знаменитый своими пляжами.
[Закрыть]лежали на пляже прекраснейшие недоступные создания, – пространство вторгалось во время, время в пространство, он уже переставал их различать, теряющий очертания мир беспощадно подчинял его себе и вращался вокруг него.
Маринелли потихоньку пожирала его любовь. Ногти теперь росли с безумной быстротой, волосы тоже, все росло с безумной быстротой, ему даже чудилось, будто дети росли с безумной быстротой и уже перерастают его, как великаны. После него все заполонят другие. А потом выросшие дети, волосы и ногти тоже пропадут неведомо куда.
Он смотрел на самолеты, которые летели домой. Небо над ним было как это голубое море.
Он смотрел на море, раскинувшееся за набережной Малекон.
Проститутке неподалеку от него, которая вообще-то предпочитала мужчин и которую сняли две лесбиянки из Испании, вскоре пришлось раздеться и показать товар лицом – такую судьбу разделяли с ней большинство шлюх обоего пола в этом мире. Ей отчаянно хотелось прикончить своих мучительниц, совсем как Францу недавно Ренье и Рамону, но кровь на свете проливалась так часто, что об этом и в газетах писать перестали.
Франц медленно бродил по набережной Малекон туда-сюда. Только она вела из Гаваны в море.
Он уселся на бетонный парапет и сидел, болтая ногами. Он так долго пил, что уже протрезвел. Малекон! Бетон! Дыры, негативы видимого, негативы материи, крошечные черные дыры.
Он исходил взглядом всю набережную. Нет, скорее избродил, едва переводя взгляд.
«Гавана, 26.02. 11 часов утра, набережная Малекон, —записал он в дневнике, и дальше: – Трагедия фотографа заключается в том, что ему не запечатлеть себя на снимке».А несчастья его происходили оттого, что он не мог уйти от самого себя.
Когда-то он пробовал писать, но забросил свои опыты: писателя из него не получилось. Его способностей достало только на фотографии, которые его не запечатлели. Он стал фотографом по ошибке, наивно полагая, что сможет сфотографировать свой мир. Но в его памяти люди и события остались совсем не такими, как на фотографиях.
Маринелли в Гаване, в перспективе струпья, короста и гной. Сначала все было розовым, веселым и многообещающим, потом стало безмолвно клониться к закату и гибели. А потом сгустились сумерки.
Но, может быть, дома, за завтраком, за первыми булочками с медом, читая в газете последние новости, он снова вернется в свой мир, каким он был, есть и будет, с его бойнями, его жестокими оргиями, его вечным кровопролитием.
Всегда мог найтись кто-то, кто как ни в чем не бывало, без всякого смущения читает вслух последние новости, хотя в одном предложении могли встретиться сталелитейное акционерное общество и смерть. Друг за другом следовали годовой отчет организации «Помощь голодающим на земном шаре», контроль качества потребительских товаров, автомобильный салон в Женеве, Штеффи Граф и выигрыши в лотерею. И что же, это последние новости со всего мира?
А он от смущения всегда выбирал неподходящую тему и невольно создавал неловкую ситуацию. Например, вечно говорил о бедных в присутствии богачей, ездивших в Асти на открытие трюфельного сезона, и о смерти в присутствии живых, подписавшихся на журнал «Фитнес шутя».
Словно слабое, больное, бессловесное существо, которому не дано облечь в слова свои страдания, он смотрел на море, где ему все никак не встречалась смерть.
Ах, Рамона, – а потом сгустились сумерки.
Раньше он пугал и в конце концов заставлял заткнуться своих знакомых, заявляя, что ведет дневник. Кому же захочется очутиться на страницах дневника? А себя самого он заставлял заткнуться, бросая вести дневник. Дневник он задумал как признания человека, утром размышляющего, куда ему податься днем, как признания человека, живущего даже не одним днем, а мимолетными впечатлениями. Даже на пляже. Даже вообразив себя муравьем, в это мгновение посягающим на его полотенце. Каких трудов стоило приморскому муравью взобраться по его шезлонгу и всползти вверх по полотенцу, но тут правая рука, не знающая, что делает левая, стряхивает его вниз. Ему еще повезло, он упал на песок и остался в живых.
А здесь даже муравьи не выживали. Жизнь на набережной Малекон была весьма суровой, и муравьи там почти не водились. Франц понял, что зажат между собственным прошлым и Америкой и ему отсюда не выбраться. «Вот тебе и конец пришел. Это конец, —думал он. – Вот мне и конец».
Он говорил о себе то во втором, то в первом лице. Иногда даже называл себя «мы».
Маринелли с трудом держался на ногах и, сам того не заметив, потерял ботинок. Ему казалось, будто он идет одной ногой по воде, а другой по песку. Он принимал валявшуюся бутылку за свой ботинок и думал, что нужно собраться с силами и его надеть.
«Сегодня я поеду в Шрунс», – сказал он себе под нос.
«Сегодня ты поедешь в Шрцбнс», – сказал он себе под нос.
«Сегодня мы поедем в Сцюксрмкс», – сказал он себе под нос, просто чтобы не молчать, сказать хоть что-нибудь.
Он один знал, как это произносить.
Потом он стал перечислять, да еще по порядку, всех мужчин – признанных обладателей самых больших членов, чтобы не сойти с ума, подобно тому как делал гимнастические упражнения в своей пизанской клетке, чтобы не сойти с ума, Эзра Паунд [97]97
Эзра Паунд (1882–1975) – известный англо-американский поэт.
[Закрыть], а сейчас, в это мгновение, в камере смертников, и другие заключенные.
Он перечислял мужчин – признанных обладателей самых больших членов, как дети во время приступа икоты семерых лысых: семь монстров с большим членом, начиная с незабвенного Ханса Альберса [98]98
Ханс Альберс (1891–1960) – известный немецкий актер.
[Закрыть], за ним следовали Че Гевара и принц Евгений [99]99
Принц Евгений Савойский (1663–1736) – австрийский полководец и политический деятель.
[Закрыть], а из ныне живущих Рингсгвандль [100]100
Георг Йоханн Рингсгвандль (р. 1948) – немецкий рок-музыкант.
[Закрыть], Майкл Джексон и еще двое, имена которых здесь лучше не называть. Он боялся потерять рассудок. В последние недели этого он боялся больше всего, и потому, словно перебирая четки на молитве, повторял имена, в том числе и те, которые произносил мысленно, не вслух. Он попытался вспомнить таблицу умножения до десяти и другие упражнения из легкого, как пух, детства.
Так, одинокий, всеми покинутый, бессвязно говоря сам с собой, он погружался в неприметно, но неумолимо накаляющееся безумие.
Он снова брел по набережной Малекон, то и дело присаживался выпить, откупоривал бутылку и при этом рассматривал собственный живот.
Какое счастье – незачем больше его втягивать! Занимаясь любовью с Рамоной днем, он все время думал о том, что нужно втягивать живот. А ведь живот был еще хоть куда.
Теперь он уже втайне мечтал о зеркалах, которые показали бы его моложе и лучше, чем он был в действительности.
И совершенно напрасно, ведь даже те из его знакомых, кто безошибочно умел определять возраст, иногда спрашивали, сколько ему лет на прошлогодней фотографии.
Тогда он говорил: «Да не помню, давно это было», – и вынужден был примириться с тем, что фотографии лгут и что на самом деле он никогда не был так красив, как на фотографиях, и никогда не будет таким красивым, никогда, до самого конца. Даже на фотографии в гробу я буду красивее, чем был в жизни.
Он объяснял это тем, что не может фотографировать себя сам.
Он пил так долго, что почти успел протрезветь. Ему вдруг захотелось выкурить сигару. «Гаванская сигара» – разве это не синоним рая, по крайней мере судя по картинке на ящике сигар «Ромео и Джульетта»? Он снова поплелся в город. «Беспокойно томится сердце наше, пока не успокоится в Тебе», – писал Блаженный Августин, отринув земную жизнь, которой некогда наслаждался, в которую, должно быть, мучительно жаждал вернуться и которую поэтому столь яростно и красноречиво проклинал, чтобы не умереть от тоски по утраченному времени.
Он вошел в любимый подъезд, словно все как прежде, словно его опять ждет Рамона.
С трудом взобрался на седьмой этаж. По пути, шаркая мимо тех местечек, где Рамона говорила ему «бэби», он уже готов был повернуть назад и отказаться от своей затеи. Лифт так и не отремонтировали. Но Рафаэль, художник и парикмахер, был на месте. У него Франц подстригся и купил натюрморт в стиле Кокошки [101]101
Оскар Кокошка (1886–1980) – австрийский живописец, график и драматург.
[Закрыть], а потом заказал по телефону два ящика «Ромео и Джульетты», которые вскоре доставил посыльный.
Он понюхал все двадцать пять сигар и помял каждую, чтобы убедиться, не подделка ли. Они оказались подлинные.
Франц сидел на парикмахерской табуреточке и курил «гавану», пока вокруг него падали на пол волосы, а Рамона в его видениях становилась все прекраснее. Всматриваясь в даль, он курил сигару за сигарой, словно смерть от табачного дыма – пустяшное дело.
Попутно он слушал, что рассказывает ему Рафаэль о преимуществах социалистической системы, называя цифры и сравнивая Кубу с США, где, за исключением Нью-Йорка, царит почти поголовная неграмотность. «Да и кубинский балет знаменит во всем мире».
Потом последние метры, мимо двери в ее квартиру, на крышу-террасу.
Вид, который еще раз открылся оттуда, был настолько знаком, что у Маринелли перехватило дыхание и захотелось броситься вниз.
Затем он еще раз сходил в Центральный парк и посидел на террасе отеля «Инглатерра».
Мимо прошла одетая как девочка увядшая красотка с букетом цветов. Она покосилась на него и улыбнулась, а Маринелли все гадал, уж не ему ли она улыбнулась.
Может быть, это он на нее покосился.
Теперь он не старался запомнить даже самые прекрасные лица, ведь лица все равно останутся с ним до самого конца. Даже в нем самом. И он закрыл глаза.
Пора было позвонить из Центрального парка, из уголка, что выходил на отель «Плаза» и Художественный музей, за скамейкой, на которой он столько ночей просидел с Рамоной. Из телефонной будки прямо за «их» скамейкой он в последний раз позвонил в Вену. Набрал номер мобильного телефона. Автоответчик передал на Кубу начало «Маленькой ночной серенады». Восемь долларов за минуту, столько же стоит входной билет в Венской филармонии. Это был последний фрагмент венской классики, который он слышал в своей жизни. Но никто не ответил, его попросили оставить сообщение. Вот уже несколько недель он не звонил в Вену. Франц пообещал скоро приехать. Он добавил: «Все хорошо». Если бы Франц был пилотом и сейчас вел самолет, то эти слова оказались бы последней записью в «черном ящике».
В порыве внезапного вдохновения он встал, машинально подошел к одному из желтых такси на стоянке у отеля, сказал: «На пляж Патриса Лумумбы», – и вскоре они уже ехали по улочке, узенькой и кривой, точно такой, на которой за поворотом скрывается его венский дом. И Малекон тоже как будто убегал, тоже тосковал, но точно не знал по чему.
Он любил улочки, узенькие и кривые, словно за любым их поворотом скрывается его родной дом.Только вот как добраться с моря до дома?
Франц много лет прожил так, словно его жизнь – единственный аргумент, который он рано или поздно предъявит смерти.
Но жизнь оказалась маленькой желтой лодочкой, которая однажды днем, а может быть, и ночью появилась на экране, бесследно исчезла с экрана и затонула, просто так, тихо, без свидетелей.
Наконец он собрался, словно в последнее путешествие, на пляж имени Патриса Лумумбы, захватив с собой чемодан и натюрморт в стиле Кокошки. Да и бутылку не забыл. Там он собирался глушить ее любимый напиток до тех пор, пока не остановится его разбитое сердце.
И под конец он смотрел на свою жизнь так, словно ее прожил кто-то другой, а не он, словно его жизнь – это не его жизнь, а кого-то другого.
К этому остается добавить только безмолвие и голубой цвет.
Конечные титры:
А теперь вы, может быть, захотите узнать, что сталось со свиньями и другими людьми и животными, которые появлялись и исчезали, вы ведь не знаете точно, живы ли они еице, и надеетесь, что с ними все хорошо.
Свиней, например, прикончили весьма нетрадиционным способом. Их усыпили большой дозой снотворного и, не дожидаясь, пока они уснут навсегда, перерезали им, мирно спящим, горло и спасли их для свадебного стола, засолив, нарезав на небольшие аккуратные кусочки и немедленно перевезя в деревню, в дом, который купил молодоженам Франц… А потом состоялась свадьба Ренье и Рамоны. Это был настоящий праздник. Ренье и Рамона смогли наконец наесться досыта.
Может быть, они и сейчас счастливы друг с другом.
Сняв Маринелли с должности и бросив его на произвол судьбы, венцы как ни в чем не бывало поехали дальше в Виналес, и мужчины вдоволь запаслись коибами. Из Виналеса они отправили один факс в Австрийское посольство в Гавану, а другой в Вену, министерскому советнику Смолке. Потом они вернулись в Вену, так и не встретившись с Габриэлем Гарсиа Маркесом и не добившись всемирной известности, и еще долгие годы рассказывали о Маринелли и о своей поездке в Гавану. Однако вскоре по возвращении они уже читали в кафе некрологи, где говорилось о том, что «навсегда ушел от нас Франц Маринелли».
Роза была безутешна, а Франца Маринелли похоронили в море, согласно его завещанию, и погребение состоялось на принадлежавшей другу семьи Маринелли – маклеру по продаже недвижимости и владельцу похоронного бюро – роскошной океанской яхте, которая вышла в открытое море из Пирана под Триестом, держа курс на Венецию.
Церемония похорон оказалась на редкость бурной.
Играл специально заказанный оркестр.
Не успела яхта выйти в открытое море, как поднялось небольшое волнение, но, несмотря на шторм, капитан приказал встать на якорь в намеченном месте.
«Наконец волнение достигло десяти баллов, – сообщает один из приглашенных. – Урна из цветного стекла с Мурано, та ваза из дворца на Рингштрассе, свадебный подарок, стоит на столе в салоне на корме верхней палубы.
Она соскальзывает со стола и разбивается на полу, на сизалевом [102]102
Сизаль – субтропический кустарник, из волокна которого изготавливают циновки и ковры.
[Закрыть]ковре, или это был флокати? [103]103
Флокати – род греческого ковра, сотканного по особым старинным правилам.
[Закрыть]
Кое-кого из тех, кто пришел проводить Франца в последний путь, вырвало. Ковер, вместе с прахом и осколками вазы с Мурано, поспешно свернули и из последних сил выбросили за борт.
Бедная ваза с Мурано!»
Пусть это останется Йоргу Броде








