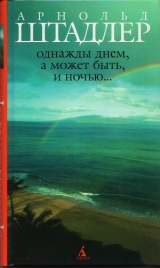
Текст книги "Однажды днем, а может быть, и ночью…"
Автор книги: Арнольд Штадлер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Арнольд Штадлер
Однажды днем, а может быть, и ночью…
* * *
Бледно -голубое море, которое в течение дня будет отливать фисташково-зеленым, а потом примет все оттенки бирюзового,раскинулось, словно это навсегда, словно так будет продолжаться целую вечность. Это было в невесомый, легчайший, утренний час, – потом на фоне неба проступили пальмы и белизна пляжа. А потом сгустились сумерки.
На другое утро на берегу моря лежал, блаженно вытянувшись, какой-то человек, лежал так, словно всю жизнь хотел отделаться от себя самого и вот наконец достиг своей цели, такая умилительная это была картина, лежит и словно спит безмятежным сном. Над Гаваной только что взошло солнце, все было белое, и темно-розовое, и серое, как Хузум. [3]3
Хузум – город на севере Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.
[Закрыть]Апотом сгустились сумерки.В сумерках он уже лежал в зале анатомического театра. Впрочем, это слишком сильно сказано – «лежал». Слишком сильно сказано, слишком сильно, да и «зал анатомического театра медицинского факультета Гаванского университета» – тоже слишком сильно сказано… Зал этот больше напоминал барак, а человек был мертв.
По пляжу имени Патриса Лумумбы шатался бродяга с чемоданом. Он казался человеком, который когда-нибудь скажет самому себе: «Я один из тех, с кем предпочел бы не знакомиться».
Со стаканом, наполненным с виду водой, он ходил туда-сюда, то и дело доливая из бутылки, припрятанной в чемодане под пальмой, из безобидной бутылки. Сначала он еще бродил по пляжу и надоедал купающимся, был с ними вежлив и любезен, независимо от их пола, и приглашал их в Вену. Ну как же, Vienna, точно, знаем – знаем.
Он казался веселым, по крайней мере здесь, на Кубе, которая все последние годы билась в агонии, напоминавшей затянувшееся, мучительное умирание Кастро. В те годы, месяцы, недели, дни, часы, минуты и секунды, которые ему еще остались, бедняга по-прежнему выносил смертные приговоры, словно не может умереть один, словно должен уйти, окруженный людьми, как в ту пору, когда революция только начиналась и он приплыл из Мексики на яхте «Гранма» или когда они с Че, юные боги посреди ликующей толпы, сияющие, с Калашниковыми и сигарами, спустились с гор Сьерра-Маэстра и вышли к Сайта-Кларе, – их просто нельзя было не любить. Кто только в те дни блеска и триумфа не хотел побрататься с Кастро, а теперь ему суждено было свести близкое знакомство со смертью. Вначале это была жизнь, в конце – смерть… Смерти предстояло стать последним доказательством того, что он действительно жил.
Нынче он приказывал ловить тех, кто в ту пору с ликованием встречал героев, триумфально входивших в Гавану, или сам был в рядах повстанцев и кто теперь, в старости, мечтал сбежать в США, от него подальше. А он реагировал на это как психопат, от которого ушла возлюбленная и который одержим единственной мыслью – ее убить. Уж лучше бы убил себя самого. Уж лучше бы покончил с собой. Ему давно следовало бы покончить с собой, тогда все они могли бы выжить.А еще несгибаемый солдат революции, обреченный на вечную, нескончаемую битву за правое дело и вступившие в последнюю, отчаянную стадию борьбы со смертью, губил детей и внуков этих революционеров. Он обращался с ними как со своей собственностью, а с людьми вообще – как с вредными насекомыми. Он выносил смертные приговоры тем, кто стремился от него убежать: на крошечных яликах, на надувных лодках, без горючего, даже без воды и без надежды… Он увлекал их за собой в затянувшееся на много лет умирание, словно времени между его торжеством и его гибелью не существовало. Примерно так думала или чувствовала Куба в тот год, когда Франц Маринелли был обнаружен на пляже имени Патриса Лумумбы, названном в честь благородного и прекрасного, как кубинские герои, африканца, отдавшего жизнь за революцию.
«Я каждый день молюсь Господу, чтобы он забрал его к себе, но Господь меня не слышит!» – об этом молились в ту пору даже самые преданные его сторонники, в том числе бабушка Рамоны, еще верившая в Бога.
Последним и единственным желанием народа было пережить не только революцию, но и самого великого лидера, и то-то бы народ отпраздновал это радостное событие на гаванской площади Революции, но это желание все не исполнялось. Да и Маринелли этого не застал. Так уж повелось, что мы умираем, не успев узнать великую новость, появившуюся во всех средствах массовой информации вечером того дня, утром которого нас не стало. Например, тот, кто вчера умер, сегодня не узнает о смерти человека, который сопровождал его всю жизнь в теленовостях, с которым он, кажется, всю жизнь прожил. Дорогое, великое имя; он узнал бы об этом, если бы дожил до утренних газет, но уже поздно. Понимаете, о чем я?Лишь те, кто пока жив, смогут сказать, кто умер и кто мертв. Мертв, как Франц. Понимаете, о чем я?Это часто мучило и волновало тех, кто пока остался в живых.
Гаванцы и гаванки щеголяли на пляже в эффектно поблескивающих купальных костюмах – все на них было узкое и тесное, было, как и весь остров, чем-то вроде тесной тюремной камеры, но камеры соблазнительной, – смеялись и смотрели на море. А потом они ушли с пляжа домой, он остался один, в какой-то момент устал и прилег отдохнуть. Но что произошло потом? Все было как в жизни. И вот сгустились сумерки.
В кошельке, пополнившем арсенал анатомического театра, среди купюр затесались несколько моментальных снимков. На них была обнаженная женщина. А еще там нашлись две обычные, слегка пожелтевшие фотографии: собаки и другой красивой женщины, вероятно матери.
«Те quiero – Baby de mi vida – Ramona para siempre» [4]4
Я тебя люблю, мой дорогой, – вечно твоя Рамона (исп.).
[Закрыть]– похоже на посвящение.
Сам покойник к этому времени уже немного побледнел и позеленел.
Итак, эта история заканчивается тоже зеленым цветом.
Зеленым, как море, как цвет, который обрело его тело, как цвет зелени, присущий его родной земле, словно он жаждет туда вернуться. Зеленым, как Венский лес, зеленым, как семейство Маринелли, все сплошь охотники, – все зелено. Бабка с материнской стороны с моря, да и дед с отцовской стороны с гор, охотник на кабанов и крупную дичь. Все было зелено, зеленее не бывает, зеленым было даже белье покойника, доставленное фирмой из Граца, специализирующейся на «изготовлении пуговиц и товаров из оленьего рога. Рассылка по Австрии и бывшим коронным землям». [5]5
Коронные земли – коренные владения правившей в Австрии императорской семьи Габсбургов.
[Закрыть]
Честь имею, даже могила была в высшей степени зеленой.
И все носили зеленое нижнее белье, а никто этого и не заметил. И само собой, свадебный костюм тоже был зеленый, темного, совсем темного оттенка зеленого цвета, скатывающегося в ночь, насыщенного зеленого цвета. Может быть, даже свадебное платье было зеленое, даже фата, словно и дальше так всегда будет, до бесконечности.
I
1
«Все наши домашние несчастья, – додумался он наконец, – наверно, оттого, что у нас нет пальм, вот разве что несколько в оранжерее в Шёнбрунне››. [6]6
Шёнбрунн – дворец и парк в Вене.
[Закрыть]
Когда Франц был маленьким, ему купили черепаху. Звали ее Максимилиан Мексиканский, [7]7
Максимилиан Мексиканский – Максимилиан IV Габсбург (1832–1867), австрийский эрцгерцог, брат императора Франца Иосифа. Генерал-губернатор австрийских владений в Мексике, в 1864 г. возведен на мексиканский престол, впоследствии низложен не признавшим его населением Мексики и расстрелян.
[Закрыть]или просто Макс. Поскольку Франц пока не бывал ни в Мексике, ни даже – ни разу – на море, не говоря уже о краях, где эти животные водятся на воле, как в раю, и поскольку он находился на немыслимом расстоянии от свободно – живущих пальм, теряющихся в небесах, он хотел черепаху. А еще потому, что она так здорово втягивала голову.
А еще она классно умела спать и почти не замечала, что происходит вокруг.
Макс якобы приплыл с Кубы морем.
Францу еще в детстве снились Куба и Мексика. Ведь все венские несчастья оттого, что Вена не на море. Но Франц был не так уж несчастен. Он был ребенком и жил там, где жил, так, словно живет где-то в другом месте.
Вокруг него шла война, а театром военных действий была спальня его родителей. Но и он, как его черепаха, почти ничего не замечал, словно бомбы падают и снаряды рвутся не на самом деле, а понарошку. Он то и дело засыпал, а между тем мир был охвачен пламенем. Как и за двадцать лет до его рождения, в развалинах играли кошки и дети, дети в развалинах играли в войну, и все цвело вокруг.
Правда, Франц еще ребенком мечтал убежать, но даже больше, чем рай, его в детстве манили те края, где нет ничего того, что окружало его на самом деле. Больше, чем рай, его манили небеса, которых, может быть, и нет вовсе, как ему уже говорили. Но больше всего он хотел убежать от ночных ссор своих родителей, лежавших в однойпостели. Ночи напролет он слушал, как его мать произносит, шепчет и выкрикивает: «Врет!» Вероятно, она была права.
Это было его первое воспоминание.
Страх, который внушило ему это слово с того самого дня, когда он впервые его услышал, вгрызся в подсознание Франца и вызвал первые детские кошмары, однако его родители здесь, в этом порождающем кошмары месте, выдержали несколько десятилетий, ссорясь и ссорясь, порождая все новые и новые кошмары и зачиная детей. Они и сейчас еще лежали бы в этом сооружении, задуманном как кровать с балдахином, в одной из первых роскошных спален начала шестидесятых, выставочной модели, если бы Франц Иосиф, как обычно бывает, все-таки не умер первым, «ушел от нас», как гласил некролог, а ведь на самом-то деле он умер сидя! Да как такое могло быть? В мире так много лгали, в том числе и из страха смерти. Значит, он умер, однако не здесь и не в постели дома для престарелых с круглосуточным уходом, а при менее почтенных обстоятельствах в Санкт-Пёльтене.
Франц все проспал.
Франц Иосиф, его отец, при жизни не любил ходить пешком. Чаще всего он сидел у себя за кафедрой, стоял на вскрытии в зале анатомического театра, лежал на левом или на правом боку в своем автомобильном фургончике и устраивался рядом, под или на одной из своих женщин и то и дело просыпался. Значит, впервые он действительно ушел. И теперь появилась еще одна вдова, которая восторжествовала над покойником. Незадолго до его смерти она еще успела объявить мужа недееспособным, а вскоре, уже сама объявленная недееспособной, влачила жалкое существование между клеткой с попугаем и аквариумом в самом роскошном венском доме для престарелых. Там она все твердила два слова: «амок» и «бойня», – и сиделкам было невдомек, что же это значит, они только гадали, а что если она пережила бойню в детстве, в ту пору, «когда русские в Вене мыли картошку в туалетах», любую венскую таксистку спросите. Единственное слово из ее лексикона, понятное персоналу дома для престарелых, было «Врет!», хотя они и не знали, кого она имеет в виду. Вероятно, кого-то из них, но им-то зачем беспокоиться, старуха ведь признана недееспособной. Чудом выжила, не иначе, а ведет себя как победительница. В каком-то смысле она действительно была победительницей, ведь она все выдержала, сжила со свету мужа и всегда поступала согласно девизу «Убью, но развода не дам!», которого никогда не скрывала. Но это была пиррова победа.
Клэр была дочерью строительного подрядчика, сооружавшего бункеры и противовоздушные башни [8]8
Противовоздушные башни – построенные в 1940-е гг. по приказу Гитлера, напоминающие средневековые крепости сооружения, с которых предполагалось вести заградительный огонь по вражеским самолетам. Памятники эпохи национал-социализма в Германии и Австрии.
[Закрыть], некоторые из них до сих пор стоят в центре города. Он был не нацистом, а всего-навсего строителем: виллы, бункеры. Таким образом, Ханс Эбер за невероятно короткое время невероятно разбогател и сумел приумножить свое невероятное богатство. Поэтому его дочь Клэр унаследовала от милого папочки дворец на Рингштрассе, конфискованную в пользу истинных арийцев еврейскую собственность.
Но этот дом не принес ей счастья. Ни ей, ни Францу, ни другим – никому из тех, кто жил в этой квартире на улице Штубенринг. Например, у Франца была сестра, позднее вступившая в коммуну Отто Мюля, [9]9
Отто Мюль (р. 1925) – австрийский художник-авангардист, основоположник акционизма и «психофизического натурализма» в живописи, участник хеппенингов, охотно эпатировавший публику. Неоднократно пытался основать в Австрии коммуны, члены которых считали своим долгом порвать с «буржуазной моралью». Подвергался арестам за оскорбление нравственности и антиобщественное поведение.
[Закрыть]чтобы отречься от своих предков и коричневого прошлого родителей. Она всегда стыдилась этого дома, родителей тоже и демонстративно с ними порвала. Позднее она присоединилась к одной коммуне в Берлине, потом к другой – на Ланзароте, [10]10
Ланзароте – живописный остров в архипелаге Канарских островов, облюбованный представителями религиозных сект и борцами против морали общества потребления.
[Закрыть]а потом, когда ей было под тридцать, бросилась с противовоздушной башни в Третьем округе Вены и теперь лежит в фамильном склепе в Гринцинге [11]11
Гринцинг – район Вены.
[Закрыть], рядом с Томасом Бернхардом [12]12
Томас Бернхард (1931–1989) – известный австрийский писатель и драматург.
[Закрыть], совсем рядом.
Напротив, избранный Францем способ скрываться от мира, в который он, несомненно, однажды пришел, заключался в том, что он снова и снова покидал его во сне.
Мать реагировала на мир, обвиняя его во лжи, Франц реагировал на мир, засыпая.
Ее,свою мать Клэр, Франц всегда мог расслышать поблизости, у себя в детской, да и за пределами детской тоже. А от негоне доносилось ни звука. Трудно было сказать, не ушел ли онкуда-нибудь в своей майке в мелкий рубчик. Но если Франц Иосиф действительно был в спальне, то жил и лежал рядом со своей женой, которую со дня свадьбы просто возненавидел. Вероятно, онеще в первую брачную ночь искал способы от нее убежать, лежа не столько на ней, сколько рядом с ней и то и дело попадая не туда (а ведь позднее станет охотиться на крупную дичь), словно охотится на зайца и должен следить за тем, как петляет и скачет его жертва, при том что она лежала безучастно, и вправду немножко похожая на кролика, но на кролика перед удавом, словно это не первая брачная ночь, а конец. А за этим последовала пытка длиною в жизнь.
В его случае все больше напоминало гимнастическое упражнение «упор лежа», он потел, не снял майку, лицо у него покраснело. К счастью, этого нельзя было заметить, потому что в эту брачную ночь действительно была ночь. Тогдашние представления о правилах приличия предписывали выключать свет в спальне новобрачных. Какое облегчение, самым приятным в этом процессе оказалось то, что они были избавлены от необходимости смотреть друг другу в глаза.
Вероятно, двигаясь туда-сюда и нисколько не ощущая ритм этой ночи, он мысленно снова сочинял объявления – «познакомлюсь с…», пока наконец, забывшись подобным смерти сном, не проспал остаток первой брачной ночи. И с ней, наверное, было то же самое: она тоже сочиняла в первую брачную ночь объявления – «познакомлюсь с…», подумывала, как бы от него сбежать, и – тщетно, как в конце концов выяснилось, – жаждала избавиться от того, кто в нее проникал. А когда он вскоре захрапел рядом с ней, она впервые громко произнесла: «Врет!»
В ту пору on уже был знаменитым специалистом по вскрытиям, иными словами, патологоанатомом, добрых пятидесяти лет от роду. Тем не менее он то и дело занимался живыми, хотя и не снимая в процессе майки или футболки; то и дело сближался с людьми, которые еще жили или думали, что живут, или даже думали, что у них впереди – вся жизнь. Он всю свою жизнь занимался покойниками, однако стремился понравиться живым и даже включил слово «любовь» в свой активный словарный запас, короче говоря, всю жизнь считал себя знатоком людей и хорошим любовником, хотя на деле лучше умел обращаться с человеком как с неживой материей и в живых мало что смыслил, а в женщинах совсем ничего, и, как выразилась бы тетушка Мауси, правда, по другому поводу – о садоводстве: «В этом деле был не мастер». Даже газон не сумел бы привести в порядок. Садовник Пётчке выразился бы еще определеннее: «Ежели уж вы и руки к садику не приложили, откуда цветочкам-то взяться?»
Поэтому стоит ли удивляться, что Франц, первенец, несмотря на мезальянс, ставший следствием этой ночи, с самого начала хотел бежать? С момента зачатия бежать от тех, кто его зачал. Наиболее благоприятную дату свадьбы определил астролог Клэр. Она говорила, что хочет покончить с этим как можно быстрее, и смирилась с судьбой в лице Франца Иосифа, а почему, собственно, она остановила свой выбор на нем? Это она сохранила в тайне. Ока же не хотела, чтобы он ее опекал! Да и комплексом Электры явно не страдала. Тем не менее Клэр была на двадцать лет моложе Франца Иосифа.
Его родители тоже хотели бежать друг от друга, еще когда его зачинали. Мать меньше всего хотела в этом участвовать, больше всего она мечтала оказаться где-нибудь подальше, на горном перевале Земмеринг, в Венском лесу или в Пратере, да и отец стал подумывать о бегстве, предчувствуя с первой брачной ночи, как безрадостно Клэр будет исполнять супружеские обязанности. Они предпочли бы очутиться где угодно, только не там, где оставались наедине друг с другом, словно она не хотела ребенка, словно ребенок – досадная помеха, шуточка, небольшое недоразумение, в придачу к недоразумению покрупнее, небольшое недоразумение, что появится на свет ровно через девять месяцев после этой ночи, и ночь не прекращалась ни днем ни ночью.
Вскоре ему тоже захотелось бежать от них подальше. Но сначала ему все-таки пришлось выйти наружу, и вспышка света ослепила его, как выходящего на сцену актера. Сначала, как в драме, истинные страдания были неотличимы от театральных вскриков, а потом, когда он наконец появился на свет, ему еще и имя дали. Его имя Франц Иосиф звучало пышно и торжественно, но на самом деле было всего-навсего именем какого-то мужчины, его отца, человека, который ложился спать в майке, а воскресным утром, читая в постели газету «Прессе», не желал, чтобы его беспокоили. Это было все, что он знал об этом человеке. Больше он, собственно, ничего о нем и не узнал. Вот разве только, что он врет. С другой стороны, как мог вечно врать человек, о котором он почти ничего не знал?
Поэтому еще больше, чем исчезнуть, Францу хотелось стать невидимкой. Он часто закрывал глаза, как поступают дети, верящие, что так превращаются в невидимок, и думал, что теперь-то он спасся от этого монстра в майке в мелкий рубчик, не желающего, чтобы его беспокоили, словно Франц (от «Иосифа» Клэр скоро отказалась) не его сын, а насекомое, докучающее воскресным утром, насекомое, которое, к сожалению, приходится терпеть, как этих гадких мух… Черепаха была его идеалом и символом детских мечтаний: вот исчезнуть бы так же, спрятаться где-нибудь, уйти куда-нибудь с головой. Очутиться где угодно, только не здесь. Это у него осталось навсегда. Когда он вырос, он тоже иногда закрывал глаза и мечтал. Да и голову ему тоже хотелось втянуть. Вроде Макса. До конца.
2
Между тем Францу исполнилось двенадцать лет, а черепаха все еще была жива. Почти целую жизнь она прожила рядом с ним.
Подошло время сдавать нормативы по плаванию вольным стилем. Поэтому Франц и его закадычный друг Майк договорились, что черепашка Макс будет пловцом вольным стилем. Франц и Майк не могли взять черепашку в купальню на Дунае. Поэтому для испытаний они выбрали ванную в доме Франца. Там можно было играть и в другие игры, в которые в купальне не поиграешь. Максу предстояло проплыть за пятнадцать минут дистанцию вольным стилем, а потом совершить прыжок, входя головой в воду с метрового трамплина. Зачет по плаванию проходил в большой, красивой ванне родительской ванной комнаты, которой почти никто не пользовался и которая стала чем-то вроде второй детской. Во время заплыва суша находилась в поле зрения Макса, но он никак не мог до нее добраться, а тем более на нее вскарабкаться, пол ведь совсем скользкий, а потом еще эти скругленные стенки, – целых пятнадцать минут мучиться. Что в это время происходило в душе у Макса, лучше не знать, и Макс испытывал благодарность за то, что это осталось тайной, как и многое другое. Ведь люди смягчают остроту большинства трагических событий, даже невыносимой, страшной смерти и конца света, прибегая к эпитету «естественный».
Прыжок с метровой высоты, возможно, представлял собой пример жестокого обращения с животными, но так проявлялась любовь Франца к Максу. К ней примешивалось немножко садизма, детского, ребяческого, – такова любовь, ничего не поделаешь. Франц подал Майку знак, тот разжал руку, и менее чем за две секунды Макс в свободном падении долетел до воды из точно намеченного места, примерно на высоте помутневшего от времени, потускневшего зеркала с Мурано, на стеклянной полочке перед которым Макс дожидался начала испытаний. Потом, когда Макс получал награду на пьедестале почета, картонной коробке из-под обуви, Франц произнес небольшую речь, очень понравившуюся Майку, и был убежден, что Макс тоже все понимает. В заключение он канцелярскими кнопками приколол один значок «Сдавшему нормативы по плаванию вольным стилем» на черепаший ящик, а другой тут же наклеил универсальным клеем прямо на черепаший панцирь. Его бабушка Ева Бенедетти происходила из династии производителей универсального клея. В детстве Франц на каждый день рождения получал от нее так называемые промышленные тюбики универсального клея, и именно клей составлял основу всех его игр. Слова «защита окружающей среды» тогда, к счастью, были еще не в ходу, все то и дело твердили только о «защите прав человека».
Пусть Франц обращался с черепахой довольно жестоко, он все-таки ее любил. Но однажды черепаха исчезла, и кто-то целую ночь проплакал. Может быть, она и сейчас жива. Ведь черепахи доживают до глубокой старости, хотя повидать на своем веку успевают немного.
Франц всегда думал, что Макс приплыл с Кубы и по национальности кубинец. Его ассистент поднял кубинский флаг, нарисованный Францем на тряпке, а флагшток из рукоятки швабры величественно возвышался посреди ванной комнаты на постаменте из ведра. На панцире Макса рядом со значком «Сдавшему нормативы по плаванию вольным стилем» красовался маленький кубинский флаг, вырезанный из большого Брокгауза. Если бы Франц Иосиф это заметил, он задушил бы своего первенца от брака с Клэр. В этом Франц был твердо убежден.
Кубинский флаг был еще старый, без звезды в центре. Но иногда Макс становился танком в бою с армией США. Чем только не был. Но чаще всего Макс воплощал тоску Франца по миру, не похожему на его собственный.
Больше всего Францу хотелось бы превратиться в черепаху и оказаться где-нибудь в совсем другом месте, куда и самой черепахе, может быть, тоже хотелось попасть, – вот если бы только он мог ее об этом спросить… Лучше всего на море, на каком-нибудь острове вроде Кубы.
Иногда ему больше всего хотелось превратиться в девочку.
В это время Франц сам сдал один за другим нормативы по плаванию вольным стилем, по комплексному плаванию разными стилями и по спасению утопающих и стал носить соответствующие значки на купальных трусиках.
С самого начала он хотел так далеко уплыть, так глубоко нырнуть и так крепко заснуть, чтобы никто никогда не смог до него добраться.
Тем не менее он иногда надевал купальные трусики и, сам того не замечая, жил в гармонии с окружающим миром.
Во время сдачи нормативов по плаванию вольным стилем они с Майком ложились в супружескую постель его родителей и играли в мужа и жену. Францу уже исполнилось лет тринадцать-четырнадцать, и он вполне мог сыграть женщину. Он демонстрировал, как ссорятся его родители, исполнял роль матери и так громко кричал: «Врет!» – что родители могли бы услышать, но их почти никогда не было дома. Он кричал и вопил, словно это все игрушки.
И Майк в конце концов чуть не умер со смеху и откинулся на подушки. А потом Майк набросился на Франца, словно Франц – маленький, забавный песик. Словно они просто играют.
Майк учил Франца плавать комплексным стилем и помогал ему, снова и снова сталкивая его в воду. Может быть, потому, что любил его. Он сталкивал Франца в воду, словно Франц – всего-навсего тело, но вместе с тем прикасался и к его душе, которой было наделено это тело и которая показывалась на мгновение, например, когда Франц улыбался. Или когда он пристально смотрел на что-нибудь. В такие мгновения каждая черточка его лица говорила о том, что у него есть душа, что она просто есть, что она существует.
Последними были тренировки по спасению утопающих, а значит, нужно было дышать изо рта в рот, притворяться мертвым, держать друг друга в объятиях и все такое. В промежутках между тренировками – или до них? – они целое лето пролежали в дальнем углу купальни со своими первыми неприкаянными эрекциями. Может быть, они только потому и записались на плавание? Они валялись на вылинявшем полотенце, таком узеньком и коротеньком, что с трудом на нем помещались, ногам и рукам уже не хватало места, и они лежали на траве, как в постели, в отдаленной части купальни, за соснами, куда не заглядывал тренер. Францу то и дело приходилось прыгать в воду или переворачиваться на живот – как некстати эти глупые эрекции, ненужные движения органа, стремящегося от него прочь, словно убежать хочет и он тоже. Словно некоторые части его тела хотят от него убежать и уже собираются в путь, прямо с утра, стоит ему проснуться. Тогда он, очевидно, впервые почувствовал, что живет не вовремя и не на своем месте, – а потом жить будет поздно.
К этим ощущениям позднего послевоенного ребенка все еще примешивалась боязнь войны, снова и снова рвались бомбы, и он снова и снова просыпался. И это при том, что Вену уже отстроили заново и она вновь засияла в прежнем блеске. Он жил в красивых домах, сплошь набитых людьми, от которых он унаследовал этот страх и что-то вроде шизофрении, раздвоения личности, словно одной жизни и одного сознания ему не хватит. Словно этому страху способны противостоять лишь две жизни и два сознания. Словно однойжизни и одномусознанию этот страх не преодолеть. У его бабушки и дедушки был охотничий домик в Глоггнице [13]13
Глоггниц – живописный город в Австрийских Альпах.
[Закрыть]– слово-то какое трудное, просто пригибало его к земле.
И все-таки эта жизнь была прекраснее всего на свете. Значит, немного полотенца доставалось только животу, бедрам и купальным трусикам, словно они – самое важное во Франце. Голова и ноги не помещались, да к тому же были более всего удалены от особо привилегированных мест на полотенце, от всего, что казалось таким важным и не давало заснуть по ночам, и просто лежали на траве. Франц и Майк были уже достаточно взрослыми, чтобы понести наказание, в чем бы оно ни выражалось: в угрызениях совести или первой несчастной любви.
Его родители ссорились до конца, летом в горах, на перевале Земмеринг, зимой в центре Вены, на Рингштрассе. Они никогда не расставались, пока смерть не положила конец их ссорам.
Или могла бы положить конец ссорам, поскольку Клэр и после смерти Франца Иосифа ночами вопила: «Врет!» – в надежде, что он услышит ее в аду. И только его позорная смерть в Санкт-Пёльтене доставила ей небольшое удовлетворение, несколько смягчившее ее посмертные проклятия, и одновременно стала поводом ввернуть в разговор: «У мужа-то случился инфаркт… В магазине „Гигиена брака"…» Исключительно ради Франца Иосифа она страстно желала, чтобы ад все-таки существовал. Но психоанализ, которым она заинтересовалась после смерти мужа, как раз таки и учил, что этот ад существует лишь в одном месте, а именно находится там же, где и она,в постели, где она и раньше лежала и где теперь вопила: «Врет!» – хотя ее никто не слышал. Психоанализ убедил ее в том, что она, ее жизнь и ад – неразделимы.
Когда его матери, красавице, было под сорок, он по пуговицам на ее жилетах от Шанель научился считать, а по этим двоим,ставшим в нем злосчастной единойплотью, – складывать и вычитать. «Один плюс один – два», – гласил самый простой пример на сложение. Но он не мог в это поверить. Подобный метод сложения противоречил его наблюдениям: двойка ведь меньше единицы. Два – это ничто, ничто или меньше нуля. Однако ему пришлось столкнуться с кое-чем похуже – с вечно живым, неумирающим несчастьем. Где двое, там холодность, отстраненность и раздор, – так он стал думать задолго до того, как впервые услышал слово «шизофрения», знать которое ему было еще рано.
Его шизофрения, его двойная жизнь, ведь то, что в голове, живет своей жизнью, а то, что в штанах, – своей, и расстояние между ними иногда оказывалось таким малым, что его и расстоянием нельзя было назвать. А иногда их разделял целый мир. Где двое, там холодность, отстраненность, раздор, а еще подозрение, что мужчина и женщина не подходят друг другу, – он об этом еще в детстве догадывался, глядя на своих родителей. Бедный ребенок! Из всех католических догматов, начиная с сотворения человека из праха земного, а впоследствии Евы из ребра Адама (вот если бы наоборот, то в этом была бы еще хоть какая-то логика), догмат о сотворении мужчины и женщины и основанный на нем догмат о нерасторжимости брака казались ему самыми загадочными. Его родители не подходили друг другу, как Адам и Ева, ведь его мать была красива, чего об отце никак не скажешь. Она была так красива, что уроды вроде его отца на улице оборачивались. А что еще можно сказать про этого человека, Франц не знал. Разве только, что он все врет. И что тогда он – сын вруна. И что он не хочет стать таким, как тот, кто, кажется, и говорить-то почти не умеет, а если говорит что-нибудь, то отворачивается и обращается к пустоте, словно их здесь и в помине нет, и всю жизнь лжет. «Он же ходячая ложь, – говорила мать, женщина неглупая, но строящая свое представление об этом человеке на основе нескольких элементарных формулировок. – Вечно помалкивает, живет во лжи, всей своей лживой жизнью учит сына лгать».
Так пыталась отвлеченно представить жизнь лжеца мать Франца, запоем читавшая Томаса Бернхарда, над романами которого, начиная со «Стужи» и кончая последней книгой «На вершине. Безнадежность, вздор», она просиживала в постели ночи-длиною-в – жизнь. Самые важные места она всегда читала мужу вслух, чтобы помучить и не дать заснуть. В конце концов книги этого автора перестали выходить. В один прекрасный день они кончились, и тогда она стала перечитывать Бернхарда заново и так читала и читала, пока ее не поместили в самый дорогой дом для престарелых в Австрии. Франц считал, что эти повторяемые в сто первый раз пассажи, в которых особенно ярко самоутверждается автор, великолепны, а впервые побывав в театре, стал еще и путать обрывки фраз, доносящиеся из спальни, с репликами великой трагической актрисы на сцене. Вена ведь была театральным городом, просто воплощением театрального города, а театр, собственно говоря, начинается с жизни, уверяла его несчастная прекрасная мать. Франц думал, что театр – предшественник всякой жизни. Разве он не пришел в мир, который еще до его рождения был театром?
Он часто слышал, как горько мать раскаивается в том, что совершила тот шаг,который, в конечном счете, и привел к появлению на свет его, Франца. Но Франц любил мать; поначалу он больше ничего не любил, вот разве что засыпать. А еще любил материнское молоко, это ведь чудо, о котором лучше не раздумывать. Франц так никогда и не привык к мысли, что однажды днем, а может быть, и ночью его напоили этим молоком в последний раз. Но потом все кончилось, и отныне он жил сам по себе. Теперь у него появилось сознание и ему приходилось повторять: «Я живу». Так называлось это совместное предприятие, состоявшее из того, что в голове, в сердце и в штанах.








