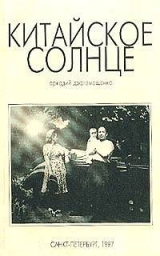
Текст книги "Китайское солнце"
Автор книги: Аркадий Драгомощенко
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Грек с жестянки медленно опускает веко на левом глазу, и я едва успеваю увернуться от летящего прямо мне в лоб цехина. Боль снова оттаивает в зрении, рассекаемом линией, по одну сторону которой мы есть, а по другую – нас не стало, не было, не будет, а есть одно: возможность первого, второго, третьего. Оно делится на две части. Одна принадлежит мне, другая греку, или той, кто мне о нем рассказывает, сидя на постели в махровом халате и белых носках, успешно притворяясь собственной сестрой.
Но в наших отношениях не присутствует и тени вражды. Звезды тускнеют, восток светлеет. Проходят дожди. Закончилась еще одна война. Потому что происходящее есть тайное совещание необходимых сил, и мы оставлены для того, чтобы свидетельствовать об этом в дальнейшем. Но ты, говорит она с долей удивления (скорее, оно мнится читающему это предложение), находишься вне того, что я бы назвала справедливостью. Да, тогда отвечаю я ей, допускаю; наверное потому, что мне не совсем ясно, что ты имеешь в виду. И, вообще, как можно говорить о справедливости, если с утра идет одна и та же карта, если второй день не прекращается мокрый снег, пейзажи впадают в нищету, денег нет, а в руках то и дело оказывается потертая фотография какого-то грека с куском пиццы в руках, стоящего на вечерней улице, когда верхние этажи домов сумрачно дотлевают алым светом, а внизу разлита прозрачная прозелень, которая – пройдет еще несколько минут – превратится в аметистовые дымные сумерки, как то обычно случается в этом месте, на углу Моховой и Пестеля, где ты ощущаешь, как мозг снова становится безлюдным средоточием всех улиц мира, а все вокруг кажется настолько реальным, что невыносимо хочется проснуться. Но идти приходится всегда по одной, независимо от стороны, которую выбираешь. И места.
Справедливо предположить, что в молодости именно такая экспансия представлялась единственной альтернативой тому, смутное осознание чего мы носим в себе задолго до разделения на то и другое. В слюдяные разрывы секунд по каплям втекала луна. Сок белены, лебеда под косой, бормотание гребли, – бесцветнoe горение горла и волосы воды на стеклянном гребне ветра. Знаем ли мы, что мы знаем; как каждый из нас это знает, а затем, после, потом, тогда, точно блуждая в садах синонимии – ступая со ступени на ступень, вниз, третий пролет, упуская с неожиданной легкостью отсутствие опоры под ногами (вереск, едва уловимый хруст подмороженного песка и плеск, означающие теперь тонкое кольцо на безымянном пальце – вот еще одна подробность, уводящая от означающего к синестезии): что означает каждый для имеющегося у него знания? Теплый удар ветра рассеял споры. Столкновение с ветвью, с дождем, металлом, с пеплом. Я проходил здесь по многу раз. Важно понять, каким образом происходит процесс лексического отбора. Выбор того или иного слова есть акт сознания, создающий реальность, к которой, за неимением другого, меня словно сносит течением – странные берега, к которым никогда не пристать. Перераспределение значений, освобождение смыслов: увеличительное стекло в медной оправе, модель фрегата, книга, раскрытая на странице, где краем глаза возможно вырезать беглое: "есть там какое-то дерево, из которого вырезают палки; они весьма красивы и пестротой своей напоминают тигровую шкуру. Дерево это тяжеловесно; если же его бросить на твердую землю, то оно разобьется как черепок", – подальше, за граненым стеклом шкафа, мраморное яйцо о четырех дюймах высоты, метелка из поблекших, некогда раскрашенных перьев, янтарная рыба с раздвоенным спинным плавником, заточенная в фальшивый хрусталь странного прибора, предназначенного для одновременного измерения высоты всех возможных лун. Одним словам отдаем предпочтение (они извлекаются невесть по какой причине из каталогов небытия, то есть – меня), другие остаются контурами лишь самих себя, мольбой перечисления, возникая в сознании тщетным стремлением соединиться с вещью, давно уже порвавшей с блаженным мгновением беспредметности в своем притязании на бытие. Возвращение невозможно. Какой день нам идет одна и та же карта. С Литейного на Маяковского заложили проходной двор. Не забыть. К слову, там никогда его не было. Заведомая ошибка. Ищи другую улицу. Другие окна и голоса.
А со среды на пятницу Диких приснился сон. Крыша не крыша, луг не луг, но идет Диких по плоскому месту, посвистывает и видит под ногами, как плещутся звезды, – дыры, подумал было Диких и был не прав, поскольку действительно шел по лугу, и было ослепительно светло. Так бывает, когда небо затягивается молочной сияющей пеленою, и свет невыносимо ярок по полудню, возникающий ниоткуда и не простирающийся далее собственных границ, и только стелятся тяжкие дремотные травы, а утром, конечно, никакой росы – к дождю как бы все идет, но ни капли не проливается, и все ярче горят очертания предметов, даже не их собственные очертания, а что-то в зрачке, то, что встречается с желто-пурпурным свечением следов, оставляемых вещью в ее движении. И тут откуда ни возьмись этот ребенок навстречу, надоел он Диких изрядно, но пускай, думает Диких, останавливаясь, как того требуют приличия. А дитя, лозой поигрывая, молвит, от света мучительного бессолнечного застясь рукою. А если бы глянуть под руку – увидать каждый бы смог облака, несущиеся с юга с сумасшедшей скоростью, низко… почти что над головой.
– Отгадаешь, Диких, – говорит дитя чужим голосом, – загадку, в живых останешься. – А само губы кривит, будто нет у него охоты такое выговаривать.
– Так ты и мое имя знаешь? – дивится Диких не по наивности, а по лукавству скорее – время затянуть хочет. – А не отгадаю?
– Да как же так! Человек ты бывалый, поживший, многое про жизнь знаешь…
– Ладно-ладно! Полно тебе, загадывай, – решается Диких, и становится ему щекотно под сердцем.
– Ну так вот, скажи нам, когда ты умрешь?
– Я? – говорит Диких. – Я? – И умолкает.
В первый миг почувствовал Диких грусть неописуемую, но уже в следующее мгновение говорит он следующее:
– Постой-ка… Если я правильно понял… Я умру, если не скажу тебе, когда я умру?
– Именно, – говорит дитя.
– Но, если я… будь по-твоему, назову срок, а потом все окажется не так?
Дитя пожимает плечами. Сон с разительной быстротой начинает сокращать свое пространство. Сон уже облегает Диких с неодолимой силой и будто в тесном, светлом мешке оказывается Диких, не в силах пошевелить ни губой, ни рукой. Затем все меркнет, и в сон приходят другие сны. Их много, и они приносят многое (пользу и вред, чаще – ничего), и это многое совершенно не имеет никакой пользы.
Я никогда не стану больше об этом писать, поскольку требование неисполнимо: к какому началу мы относим себя? Ты медленно и терпеливо меня обучала, будто нехотя… избавляться от смирительной рубашки "мы". Легче привыкать к богатству. Трудней отвыкать от нищеты. В последний раз. В первый-сотый раз вчитываясь в написанное, измененное неверным следованием еще более смутному представлению собственного желания, берешься угадывать слабые черты возникающего предмета. Лишь в слабости зрения раскрывается неистощимое величие, но, вернее всего, в восхождении к ослаблению. Он вынужден прибегать к молчанию. Что за нужда! Мы говорим лишь по причине непреложного желания понять то, что нами говорится. В итоге принимаемся (так иногда кажется) догадываться, что "мы" всего-навсего случайно запавшее в здесь и сейчас искаженное слово, правильность которого пытается угадать, выговаривая, исчезновение. Узор слюдяных разрывов. Чаще ночами, когда все уходили в (за) другое время, во (за) время скальпированных сновидений. Было бы куда как просто сказать, что в 11 лет, осенней ночью я увидел сон, в котором мне довелось переспать со своей матерью. Мы погрузили руки во внутренности птицы. Расположение органов было благоприятно. Предлоги, определяющие траектории глаголов. Скорченного, поджавшего колени к подбородку, нагого, меня без потерь и кожи несло, плавно кружа, между отвращением и страхом, одетого кровью, слизью, солью, рвотой. Фотография из анатомического атласа. Я научил петь сирен, я научил их слух цифровой записи, которой предстояло вечно хранить секретные узоры моего странствия, маятник которого рассек тело, исполняя его неуязвимостью, поселившейся ниже сердца сгустком ожидания. Тогда я перестал писать стихи. Слишком мало воска было оставлено моей собственной душе. Поэзия… та поэзия, которая… в ней было слишком мало насилия.
Я предпочел писать так, как мертвые читают книги: от конца к началу, как если бы во рту у них было помещено двойное зеркало, или же как иногда открывает себя зрению время, выворачиваясь наизнанку, превращаясь в сферу безоглядно созерцающего себя глаза. Так гласило их заключение. Базальтовые наледи испещрены киноварными очертаниями давно минувшей охоты, кровавых потеков, застывших карамельным сиянием. "Женское" – чрезмерно подробно. Кости тут же. Расплавленный мед. Насекомые царствовали в садах, как двурогие луны, высота восхода их измерялась янтарным всплеском нескончаемой китайской чешуи квадрата, сияющего на все десять сторон, как крошащееся сухим снегом заклинание. А ледяные дужки очков? А негромкий бой часов, расставлявший координаты цвету, запахам, предощущениям? А наш шепот и слова, ничего ровным счетом не значащие спустя несколько часов или дней? А фортепианные этюды Черни? А георгины, роса на дереве колодезного ворота, отдаленный плеск внизу, сведенный в блистающее кольцо, заключившее наши головы, но ни единого звука, ни единого дуновения ветра, – беспомощность птиц и других вестников. А, наконец, вот, это: "чем меньше опытности было у нас в подобных наслаждениях, тем пламеннее мы им предавались, и тем меньше они нас утомляли"? Сколь волшебно все следовало одно из другого, продолжало друг друга, себе же предшествуя в сознании предощущением иного продолжения в явленности навсегда повисшей в парении глагола настоящего времени. Видео-камера находилась у тебя в комнате. Монитор я оставил у себя; лежа на полу я смотрел, как ты раздеваешься (с потолка капало, еще я смотрел на провода на полу), как ты поглядываешь на камеру, зная, что я, должно быть, неотрывно смотрю на тебя, знающую, что я смотрю на тебя, как ты стаскиваешь с себя платье, все остальное, а потом не ложишься, а продолжаешь стеснительно стоять, испытывая нарастающую неуверенность – тебе предстояло предпринять вполне заурядную вещь (действие, заключенное в скобки, как выражение): кончить перед камерой, как будто для себя самой, оставаясь совершенно свободной от любого ожидания, но, тем не менее, осознающей, что ты "находишься и на моей стороне тоже", рассматривающая себя моими глазами, отдаляясь дальше и дальше от иллюзорного самоотождествления – вот где угадывалось все более крепнущее напряжение: между обрамлением, т. е. мной и пустотой, заменившей твою телесность и чистое намерение. Имеет ли "справедливость" отношение к нашим опытам? Исследование закона является безусловным его изменением. Мена, обмен происходил изнутри, как пламя в пламени. На мгновение ты поворачиваешься к камере бедром, что за этим кроется? – полагаю, смущение. Страх того, что я смогу увидеть татуировку на другом бедре, мельчайшие буквы которой складывались в рассказ о календарях и блужданиях в скрежещущих камнях, живших во рту монотонной речью о будущем, собственном будущем, – а мне что до него, какой нитью следовало меня пришить к самому себе? Ощущение бесполезности или никчемности всей затеи? Мы хотели любви. Это предложение не имеет значения вне предложения. Мы хотели множества слов. Она должна была стать добычей нас, возникающих с совершенно иной стороны повествования. Мы заслуживали того, чтобы увидеть ее лицом к лицу, увидеть, как она возникает из собственного отсутствия, – схватить тот момент, когда ее предпосылки меняют собственную природу: обещания стать чем-то иным, когда режущая слух тишина берется сворачивать пространство. Но где мы были в те минуты? Почему мы ничего не запомнили? Представление самих себя себе – задание было изначально непосильным. Продолжать быть реальностью и одновременно становиться ее же знаком, ничего не скрывающим, но неустанно возводящим себя в непрерывной тени, даже во сне, где ничто ничего не означало, кроме того, что хотелось в нем видеть. Я видел, ты видел, она видела, все видели. Куда девалось то, что было увидено? Видеть значит думать, думать значит спать. Сон не что иное, как необходимое сочетание знаков. Грохот воды рос у порогов, желтые гривы пены, влажные пряди воды в острых гребнях ветра и медленное мерцающее прояснение шума. На берегах – прищурься, сколько раз, – солнечные поля купавы. А то, как мы учились целовать друг друга повсюду, начиная с пальцев ног? Листаем дальше: когда ты прикоснулась бритвой к груди, – нет, разумеется, все поддается описанию: "зрачки твои сузились, – вот как это пишется, – дыхание на миг пресеклось и ты с нежной силой, при всем при том медленно, очень медленно провела тончайшую черту, которая тотчас стала расплываться кровью (утренняя волна близорукости), к которой ты склонилась и слизнула, а когда подняла глаза, я увидел, что они сияют ликованием". Green veins in turquoise, or the gray steps lead up under the cedars. Очевидно не следует выпускать музыкального инструмента из рук даже в огне.
Предложение описало дугу. Мне показалось, живо сказала ты, что я вот-вот что-то пойму, но это сразу же исчезло, хотя осталось в памяти налетом восторга предвкушения. Чрезмерная подробность в утверждении "женского". Это неимоверно важно, наподобие навыков устного счета. Но тогда, что это означает? Не знаю. Не задумывался. Так всегда, хотя это мое право, мое хотение, мое желание, моя очередная попытка "не исказить" мир. Что бы я ни сказал. По обыкновению, я и на этот раз пришел сюда, когда мне ничего не оставалось делать. Старика на велосипеде унесло в дальнейший дождь, факс от приятеля на глазах утрачивал внятность, – я был свободен. В университете барометр показывал сушь. На факультете танатологи в шортах пили пиво. Пива было запасено на долго. Сидевший рядом с ними грамматик изнемогал от собственной гримасы, приподнявшей уголки его губ, и от духоты. За гримасой плавно разворачивалась тайна грибов. Грамматик, вопреки всему, делил мир на покуда доступное (чего, как ему казалось, становилось больше) и покамест не доступное в высшей степени. Не доступное в высшей степени хранили танатологи. Они хранили недоступное в глубинах пива, вкус которого со странным упорством норовил ускользнуть изо рта грамматика. Рот напоминал ему нору из пемзы, в которой происходил процесс производства алюминия в континентальных масштабах. Цвели вишни. Коридоры были наивными, желтыми и длинными, состоящими из обморочных переходов между делениями циферблата. Танатологи относились к классикам с разумным спокойствием, но с ласковым укором к юным дерридианцам, которые в свою очередь невероятно много курили на лестнице, толкуя о Фассбиндере и последнем скандале. Фассбиндер был мертв. Суть скандала заключалась в том, что в последний свой приезд в Одессу Лиотар, мол, начал свою лекцию с анализа позднего Бердяева. Многие склонялись к тому, что это следствие обыкновенной ошибки, и речь шла о Бодрийяре. "И то и другое важно в равной степени", – веско заявил в изрядной бороде танатолог и протянул грамматику леща, совершенно волшебным образом извлеченного из-за спины. Существовало мнение, что Египет последняя станция. Ошибка всегда сознательна. Подчас ошибка является результатом сложнейших, многоуровневых операций и расчетов. Мне дали пива и время, чтобы я нашел в себе силы войти в аудиторию, песок и воду. Четыре человека листали тетради. Все остальное было как прежде – коридоры, дым, время, вишни и память. Окно в конце аудитории объявило о военных действиях. Воздушный змей трепетал в синеве. Рыбий крик костью стоял в ушах. Моя работа в этом университете подходила к концу. Однажды мне сообщили, что она началась. Я подходил к этому концу со свойственным мне равнодушием, но только с обратной стороны. В итоге работа и я вновь разминулись. Начинались каникулы, о которых я мечтал всю жизнь. Но, любезный читатель, как вздрагивает и поныне сердце при одном только припоминании тех мест, где всегда находился для меня приют и кров! Сколь благостно было засыпать под одеялом, которым без лишних слов делились с тобой антропологи, а засыпая слушать отдаленное и все же звонкое журчание коньяка. Трубу, по которой он тек денно и нощно, безуспешно пытались найти многие. В мое время говорилось о трубе, как о смутном, ждущем своего часа пророчестве. В иных диссертациях труба представала едва ли не архетипом паровоза, а со временем – энергии как таковой. Сотни жаждущих украдкой сверлили стены по ночам. Некоторые сходили с ума. Единственный человек, кто наткнулся на нее в период ремонта водяного отопления, был Григорий-Царь-Котов из управления главного механика. Однако, как гласит один из апокрифов, после своего нечаянного открытия Григорий оставляет котов, механика и постригается в монахи. Точно прочерченная деталь всегда ценилась в тех местах. Будто ускользало главное, и требовалась тонко взвешенная стратегия нанесения подробностей на карту, чтобы ненароком не затеряться в белых камнях, в изветвлениях "до встречи", или "никогда", как будто с кого-то станется прочесть иное, повторить путь, проследить, утверждая в повторении исчезающее. Отражение мгновенно, как сравнение. Сравнение неуследимо, поскольку "второй части" его не существует. Только серп маятника непрерывно серебрил траектории невесомым искривлением прямых, продолжая некогда написанное письмо в тюрьму. Насекомые, – строка из книги мертвых нескончаемо живущих в умирании. Однако свидетельства из этой области чрезмерно скудны. Города мало чем отличались друг от друга. Теперь ничто не мешает говорить об этом открыто. Секрет преисполнял нас значимости, в его присутствии пребывали смыслы, не отделенные друг от друга – Эдем значений. Я никогда не сумею (успею) написать о том, как образуется узор огня в поникшей от утреннего мороза траве. В сумерках без труда можно было угадать контуры ангела невроза или описания, означающего свою пустоту, не таящую никаких направлений, кроме одного – к нескончаемому предвосхищению собственного явления. Они сказали: "Ангел Истории"… Понимание эпифеноменально. Иным кажется, что этот опыт не имеет конца, я же придерживаюсь отличного мнения. Раньше я пытался разбудить в себе сочувствие к тем, кто их населял. Они прикладывали ладони к лицу, будто пытаясь укрыться за ними, но мне хорошо были видны их настороженные глаза. На грунтовой дороге не таял снег. Помнишь, я ведь не сразу разобрался, как надо тебя раздевать… Отточие означает не смущение, но забывание, точно так же, как непредвиденные обстоятельства, мешающие продолжению. Неправда, что руки знают, что им делать. Никто ничего не знает. На ощупь. Снегопад продолжался четыре дня и четыре ночи. Но я хочу вспомнить, видел ли я в минуты, скажем так, бесцельного (абсолютного!) "блуждания по твоему телу" то, что находили мои руки? И связывалось ли это с образами, столь беструдно до того завладевавшими воображением? Каким образом происходило совмещение тебя с той, которая как бы существовала до тебя, но благодаря, разумеется, тебе. Почерневшая пижма, небесное вращение велосипедных колес, солнечное расследование. Убийство, как древоточец, прокладывало свой путь в массиве недоумения.
Оно определяло границы сроков и непогоды. Однако я вовсе не нес им никакой вести. У стены непомерно высокого, лишенного привычных пропорций, строения воздуху отвечали неслышные гонги. Их звучание было ложно геометрично. На холмах Калифорнии в рассвет мы слушали изгнанников Тибета. Они настоятельно утверждали, будто продолжают свой философский диспут, начатый в 1439 году в дацане Чжюд-мад пред лицом самого Шеграб-сэнге, только что завершившего строительство этого дацана. Иные утверждают, что обилие выделяемого пота при диспуте не свидетельствует о приближении к просветлению. Но мир состоит из ложных признаков присутствия, и только укол соломинки в темя позволяет увидеть то, что неподвластно как знанию, так и молитве. Широкие пурпурные рукава, подбородки, бензиновая гарь. Иссиня-черные птицы с алыми хохолками парили в лучевых сферах дрожи у самых верхних уступов здания. Воздух, раскаленный ненасытной прозрачностью, приближал вещи к их истокам в зрачках. Снизу нам было видно немногое, но я заметил на крыше несколько человек. Один из них сидел на стуле в неуместном для такого жаркого вечера темном костюме, рядом с ним держась за спинку рукой стоял некто с раскрытой книгой в руках, тип его лица наводил на размышления. Был еще кто-то третий. Я видел как на их лицах, на летавших по кругу с шелковым треском страницах открытой книги и коврах, устилавших крышу, играли сапфировые отсветы далекого пламени. Не исключалось, что в порту горели корабли. На миг передо мной встала картина странного и доселе никогда не виданного города. И странно было то, что я давно как бы знал, будто находится он на севере, и ночи его являются зеркальным повторением дней, а сам я тем временем не шел, но будто бы плыл среди серых безлюдных домов на легком не известного мне типа судне, чьи паруса поедало призрачное пламя. Мне показалось, что я даже слышу обрывки беседы. Чей-то голос произнес: "все происходит как бы в виде сонной догадки… места, которому не описать собой ни результата, ни предпосылок…" Вслушиваясь в слова, которые мне что-то отдаленно напоминали, я внезапно увидел себя подносящего безвольно к огню руку. Пламя не жгло. Вероятно это ощущение спугнуло наваждение. Продолжалось оно, судя по всему, недолго. Едкая и не остывшая пыль, курившаяся под ногами, окончательно привела в чувство. Я оглянулся, стеклянные клетки с детьми на деревянных колесах в строгом порядке следовали за основной колонной. Штандарты мерно колыхались в раскаленном молочном тумане.
Мы провожали планеты в очередное изгнание. И вот еще что: взмахи рук. Точно нас приветствовали, хотя было очевидно, что мы покидали город. Могло показаться, что мы уходили, пересекая воображаемую черту мнимого поражения, которым всегда, даже во снах оборачивалось бессмертие. "Нужно было прожить жизнь, – услышал я негромкий голос, – чтобы понимать все не так, как понимали это другие…" И кто-то в ответ: "Но является ли то, что я говорю, тем, что моя речь "перенесла" из области намерения "это" сказать в спектр призмы языка, тела его смыслов, куда вовлекается любой мой, разворачивая свои собственные отношения? Ложь – лишь поправка на параллакс. Струны, натянутые во рту, переливались дрожью расщепленных следствий и темными радугами ртути, не пресуществленными в двойные зеркала. Как смехотворные в своей поспешности суждения. Как коричневое на розовом. Как дождь на лице. Как известное в неизвестном. Как соловей. Как "где", в котором находится "всегда". Горы приблизились, однако ничто не изменяло пропорций во взаимосвязях звука и памяти. Фарфоровая чистота окраин в сколах расстояний между вещами наращивала частоту передающих колебаний. Их было недостаточно, чтобы мысль смогла обратиться к ним, словно к опоре дальнейшего движения по безымянным склонам, но вполне достаточно, чтобы немо обустроить сладостной снастью оперы любое движение извне. Человека отделяет от него самого самая малость – язык —, об окончательном избавлении от которой он неустанно просит небо. Последнее также является неприметным различием, не дающим человеку исчезнуть в своем к нему обращении. Не уточняя кто и зачем. Иногда снится, что вытаскиваешь как бы занозу. Она оказывается непомерной, она непрерывна, – ты сматываешь себя, оставляя себе лишь одно головокружение и слабую попытку ухватиться рукой за край постели. Утешение не из лучших. Иногда вопрос совпадает с ответом.
Их обычаи поначалу вызывали понятное разочарование, а по прошествии времени все более заинтересовывали неизбывной никчемностью, затрудняя поведение. Я вспоминал улицы городов, бескрайние славянские просторы подоконников и коридоров. Ко всему прочему я подозревал, что нам какой уже день идет все та же карта. Широкие реки песка охватывали город с севера, откуда, поднятые смерчем, медленно выгорали к плато. Искусство попрошайничества находилось под официальным покровительством государства, для нации оно было всем – литературой, историей, отчасти философией и богословием, но конечно, если бы они были знакомы с Платоном, они несомненно объявили бы себя продолжателями сократической традиции. Деревья здесь не имели листвы, но обильно цвели каждый одиннадцатый год. Таков был цикл превращения просьбы в ответный дар. Число одиннадцать управляло жизненными циклами: неделя состояла из одиннадцати дней, между зачатием и рождением пролегали все те же 11 месяцев, жизнь человека обозначалась просто числом 11, которое выражалось в фигуре особенного начертания, напоминающей две стрелы, встретившиеся в полете из. Деление на два означало в те времена безумие. В одиннадцати, полагал я, они сохранили монаду единицы, не унизив ее нисхождением к делению. Зависит, как записать.
Они любили театр, сплетни, вялое вино из плодов, по вкусу напоминавших цветы акации (особого сорта смоквы, не ведомые на свере), были безразличны к обманам и проблемам бессмертия. Отправляли свои естественные потребности лежа. Бег был запрещен. Бог позволялся в виде ложного воспоминания. Один из их художников, бритоголовый и безликий, как утренняя тень, помог однажды издать книгу моих наблюдений: тончайший лист стали величиной с парус был прорезан несколькими буквами: в них вился ветер (close reading), тем временем как другой ветер, с гор, играл самой гигантской стальной простыней. Два чтения. Я благодарил его и смутно вспоминал жужжащие серебряные книги моего детства и яблоки, по которым мы рассчитывали когда-то свою судьбу. Вызывало удивление то, что им был знаком бумеранг. Поначалу я думал, что он являет собой манифестацию вечного обращения вокруг своей оси буквы, скорее, иероглифа, но потом оставил эту мысль как излишество. Именно он, точнее одиннадцать бумерангов, вращавшихся под куполом строения, где вершились суды над отступниками, являли собой образ вселенной. Теперь вы понимаете, по какой причине вначале я принял бумеранг за букву. Периодически возмутители общественной морали посягали на истоки, – они призывали свергать старых идолов, вводить новые правила счисления и раздавать свое имущество другим безо всякой на то просьбы. Боги их ходили по улицам в алебастровых масках, кости их были на удивление слабы и гибки. Каждая женщина могла, если хотела, остановить бога и задушить его. Что в свой черед справедливо вызывало негодование и жестокий отпор со стороны народа, который не мог помыслить, чтобы вся красота, которой они владели безраздельно на протяжении своей истории, и принципы которой укладывались опять-таки в учение о просьбе и красоте, даруемой просящему, могли быть принесены в жертву чьей-либо неуемной гордыне. Коллекции набальзамированных богов переполняли музеи. Однако возмущение никогда не преступало границ чистого теоретизирования. Наивно полагать, что концепция прошения, просьбы – на которых зиждилась этика и мироздание этих людей – была чем-то наподобие философии лишения. "Бумеранг обретает разящую мощь исключительно благодаря правильному пути возвращения" – гласила сентенция, бывшая в пору нашего там пребывания довольно популярной. Ее было принято распевать, хлопая в ладони. Иногда они безо всяких усилий, и совсем уж неожиданно для посторонних переходили к совершенно абсурдным, попросту смехотворным положениям. С трудно постигаемым страхом они принимались говорить о бесконечной матрице, в которой сокрыта еще одна – матрица предела, т. е. все мертвые, как воплощение "концов мира". Тоническая система языка позволяла петь что угодно. И что именно совлечение этих двух конечностей дает третье – абсолютно незавершаемое пространство.
Они пригласили нас для того, чтобы мы научили их двум вещам. Первой – спать ночью (нам пришлось создавать ночь). И второй… о которой я не помню совершенно ничего определенного. Я вышел из конторы, махнул охраннику рукой, лил дождь. Можно было пройтись пешком по Литейному к району, где находился мой дом, точнее остатки однокомнатной квартиры, до которой было всего минут 20 ходу. Квартира состояла из окна, кухонного стола на кухне, компьютера, который собрал о. Лоб, и который вечно висел on line. Иногда из Карла и о. Лба. V uglu byla postel'. Из окна, как мне иногда снилось, была видна такая же квартира, из окна которой был виден падающий снег. Не будем на этом останавливаться. Невероятно, как узок круг действующих лиц, как уменьшаются в размерах книги.
Следовало вначале навестить Карла, но я поймал себя на том, что опять забыл, чем он занят. Вода затекала за воротник. Холод радовал. Стоя на мосту над районом, простиравшимся внизу, где в тумане уже переливались огни, я беспечно курил. Это место до сих пор называлось – "Нева". Некоторые еще помнят фотографии того времени, на которых вместо жилых кварталов и всего прочего тяжело блестела выпуклая вода. От той поры ничего такого не осталось. Кроме мостов.
А кому не жаль? Никто не знает, что дороже – вода или электричество, или, например, электричество или смерть.
Опускается веко, сквозь ливень лезвия шествует единорог.
Разумеется, всякий раз заново обучаться вкусу вина под знаменами одного и того же ветра. Чаша ночи, вскипающая инеем – какие глаза смыкают ресницы, испепеленные снегом? Моя рука (слышать, неотчетливо), тяжесть еловых лап под снегом. Кипящая стужа в сухих ожогах пернатых, – какие глаза остаются здесь, в расселинах вещей, в порах их вещества, теней, не избавленных от своей невесомой ноши? С грибных окраин прихотливо движутся вихри, завивая красный песок в коконы вспышек, позволяя желанию видеть себя в створах бессонницы как чистое напряжение, способное открыть "одно" "другому", заточая маловразумительное шевеление губ (и опять возвращение к воздушной, медной речи) в чечевичные льды зоркости, кислот, приближения, незримости. Петунии, гранит, слабый вьюнок на беленой известью стене, сахарные ангелы, торящие пути нити зеркальных соединений над темной рекой огня, проносящей сухие сучья, вырванную с корнем траву, трупы сходств и тела, чьи лица читает зеленый месяц, внося в чтение освобождение усмешки, будто пальцам уже никогда не вылепить тех же рук, ладоней и глаз, отпуская их, под стать яблокам в бездонное падение, цветущее на краю трилистника и прикосновения, на пределе глины осоки и дыхания, сводящего в острие мнимой цели один или несколько слогов, мучительно их не узнавая в отмывающем бормотании, подобно темным рекам огня и соленому теплому туману, идущему с мелководья. Тысячерукое солнце срывает паруса возвращения одного к следующему, что принимается за изменения. Но здесь ты прозрачен и сходен с вином. За шаг до этого, за страницу до только что вписанного предложения залегает то, что возможет выявить себя в любой метафоре, – разве не этого добивается пишущий, не окольного ли, косвенного пути побега к началу, всепрощающему начинанию, поскольку только в его перспективе вероятно почувствовать ни с чем не сравнимый привкус бесполезности, бесплодности начала, будучи слитым с ним воедино – ощутить неосуществимость никакого рождения, не этого ли ищет пишущий, не того ли, что так или иначе присваивает себе имена смерти; хотя у последней имена, родовые окончания и прочие аксессуары не имеют числа, или же иначе: имеют, но только по эту сторону, как бы в пунктуме начинания, становления, смещения, растрачивая все до щепки и в том числе имена по мере приближения к именам, числам, намерению. Точно так же в проект "любви" заложена энергия потери как вдохновляющая затаенность опыта, не замыкающегося ни на одном выборе, понятии, определении знания, что – не-сбыточно, не-бывает, не подлежит быванию (иному предлогу), как если бы оно намеренно опережало собственное предощущение; тогда говорится "любовь", или другое, если моросит, либо если с Гавани несет листву и спящих птиц сквозь кроны натянутых струной, израненных монотонностью деревьев.







