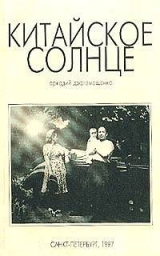
Текст книги "Китайское солнце"
Автор книги: Аркадий Драгомощенко
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Мало кто из нас присутствовал на церемонии запуска, нам, в ту пору всецело занятым собственной судьбой, было не до сакральных процедур небесного брачевания и двоичного исчисления. Мы постигали тайны одного-единственного сна и возможности яви в его беспредельных мирах.
Интересно другое, замечает он, когда я пишу это, я не вижу перед собой никакого города, а на прозрачных подкрыльях зрения пробегают тени иных соответствий, иных мест, вещам которых опыт ничем, кроме как легким (окисление… что-то похожее на свежую кислинку сливовой кожицы) удивлением не отзывался.
Тем временем идущим осторожно ступать по камням. Явленное приближение. Морщинистый воздух темнел. Будто рощи. Будто идущему вдалеке открываются сладостно темнеющие рощи, но камни, ступать. Как явленное в неподатливости частностей: никакое определение вещи не возможно в пределах слов, как конечных чисел, и первые и последние (vice versa) всегда могут быть и всегда есть другие. Вечером открыть окно, тетрадь. Не изыскивая доказательств. Открытое окно и запах мокрых тополей. Откуда привкус талого снега. Где произошло смешение, наложение одного запаха на другой, если учесть, что окно закрыто, а на улице созревает чудовищный полдень, рвущий тени с шелковым треском. Единым взмахом поименований, предназначений, следов не свершившихся перелетов, рассудку близились оборванные птицы – им не совпасть в падении к ним оставленных мест, о которых с полной уверенностью высказаться (минуя силки сослагательности): "вот, еще что-то, чего не хватает мысли, что поочередно можно назвать осенью, старым пальто с побитым молью воротником, обманутым литературным героем, стоящим в чулане, надколотой рюмкой, рамой намеренного присутствия, секретом крепчайшего кофе, беспристрастно падающего шелестом геркуланума, горстью кремнезема на исходе августа и руки, северным сиянием в надрезе рассвета, тошнотой, насилием, нищетой, рождественской ночью, всем вышеперечисленным, а также: остерегись улыбаться, будто это что-то значит, ну, вот, и живи на здоровье, чего там", невзирая на то, что любое слово проходит сквозь них, будто бы никогда не было этих мест, бездымно пропадавших при одном взгляде на них.
Много, слишком много. Чего больше: пуха или железа? Железа или золота? Золота или мертвых? Мертвых или никого? Сколько строк бормотания, не оставив следов неравенства себе самим, скользнули по грязным столам, по линиям жизни мимо полых глиняных холмов, зеркальных путей, свернувшегося во сне вина? Таков уговор. Таковы власть, бессилие и бессонница уговора, извлекающие разом с неуемной и призрачной силой прибыль из переливания пустого в порожнее. Заметим, никто о нем не намерен был упоминать. Вопреки тому, что в моем подходе уже и сейчас можно углядеть произвол, – истощение и последующее пожирание представляется актом высшего отточия (…) в когнитивном процессе. "Мне трудно разобраться, но как бы это сказать точнее…"
Скрепя сердце я перебил мать. О чем потом не раз горько сожалел. Изволь, я попытаюсь, я покажу тебе, насколько это несложно. Ответил я. Во-первых уединение, горный воздух, едва ли не тактильное ощущение материальной первобытности мира, его мер, и потом разве трудно допустить, будто система означающих, присущая определенной идеологии, как и любая система, – я поднял прут и в качестве привходящего доказательства стал чертить на песке нечто, напоминающее рыбий скелет, – вполне опирающаяся в собственном воспроизводстве на себя, не способна более довольствоваться ни позитивными, ни отрицательными аргументами, подтверждающими возможность ее перехода на иной уровень сложности, а следовательно и изменение скорости операций с данными. Таким образом, экспансия идеологии, включая и ее ядро – мифологию, являющуюся в действительности единственным ее значением, – утрачивает контроль над опосредующими машинами производства значений, находя себя в чрезвычайно плотном мире односторонней… How can I say it? Оutput and/or input? Тут следует добавить, что структура допусков, упреждений, молниеносных пересчетов отклонений и их компенсации превращается в безукоризненный механизм безумия.
– Но тогда получается какой-то кошмар, – воскликнула мать, не отрывая глаз от моего рисунка.
Разумеется.
– И когда ты вырастешь, ты попытаешься все это рассказать своей… – Она запнулась от неловкости, по-видимому не находя приличествующих данному моменту слов. – Девушке? Невесте? Обещай мне.
Я не счел нужным отвечать. Вниманием снова овладели – гора, черная хвоя сосен, напоминавших тянь-шаньские ели Медео: другие места, другие разговоры. Савойские Альпы, папье маше объемной карты, бредущий пехотинец с ружьем, нет, скажем так, с мешком, нет… ни ружье, ни пуля, ни мешок, ни ножницы, но отроги гор и пленник, удаляющийся от узилища со скоростью одинокого хромого путника. Его лазурные безвоздушные губы повторяют что-то неопределенное, во имя еще более неопределенного. Имя ли это девушки? Тайной идеи? Родной страны? Имя ли палача, который, открыл ему ночью ворота в сад ковров и танцующих кадуцеев? Или же это имя бродячего шарлатана, научившего летать посохи в лабиринтах рощ, сладостно темнеющих на самом краю искусства композиции? Сколько белых роз расцвело там в первый день, а сколько красных взошло на третий? Нет, здесь не кроется никакой загадки. Здесь чистота, абсолютная чистота лазоревых уст. Найди мне имя, попросил я мать.
– Зачем? Ведь у тебя уже есть одно, прекрасное имя, мы все к нему так привыкли! Ах, знал бы ты, сколько дней и ночей провели мы с отцом, отыскивая его для тебя… Мы перебрали десятки, сотни альбомов, газетных вырезок, фотографий, старых журналов, пока не остановились на твоем!
Мне нужно много имен, сказал я тогда на это (осмелился бы я выразиться таким образом сегодня?), мне нужно столько же имен, сколько и смертей, поскольку для того, что я намереваюсь свершить, одной недостаточно.
– И помимо того, откуда вам было знать, что вы даете мне правильное имя, что будущее ему отзовется, станет его настоящим?
– Правильное имя? – рассмеялась мать. – Чему? Тому, чем ты был в ту пору? Посуди сам, тогда то, что являло "тебя" можно было было звать по всякому: ржавчиной, веткой, сквозняком, телефонным звонком, яблоком, натуральным рядом чисел, сном; ты так же был чужд этим словам, как и кровно с ними связан, каждый звук, каждое сочетание их открывало для тебя будущее, в которое ты входил, минуя наступавшее по пятам настоящее. Иногда я подозреваю, что некоторые доживают до смерти и входят в нее ни разу не оглянувшись.
– А что он на это сказал? – спросил о. Лоб.
Диких перелистнул страницу.
– Он… он не сказал. Тут стоит: "подумал".
– И что же он подумал?
– Что он оборачивался только затем, чтобы увидеть, как все исчезает.
– Всё или все? Иногда буква ё многое значит, – сказал о. Лоб.
– Дай же человеку дочитать! – в конце концов не выдержал я. – Невозможно понять, чего ты все время добиваешься.
– "Можно, конечно, понять, будто все происходит наоборот. Чем пристальней взгляд, тем прозрачней вещь, ее время, ее обещание, гримаса ее присутствия. "Прозрение" есть освобождение зрения от оболочек, но явь никогда не бывает столь глубокой, чтобы найти в себе силу стать сном. Все это известно, но всякий раз известно по-иному." Потом опять говорит кто-то другой.
– Но, не будь же таким жадиной!" – с улыбкой восклицает мать. – Войдем лучше в дом, мой мальчик. Уже вечер, видишь, с гор спускается туман, ветер несет запах снегов, луговые звезды сегодня не обещают исцеления, а крики пастухов отдаются в моем сердце обжигающей пустотой утраты и молодости".
Да хватит, ты лучше прочти вот это. Нет-нет, посмотри, как интересно – "управление шерифа и администрация обещают немедленную выплату $20000 тому, кто окажет непосредственное содействие в задержании любого, проявившего насилие по отношению к работникам.
Мои дневники (не все теперь мне в них понятно), путевые заметки насчитывают пять тысяч семьсот восемьдесят три страницы. Четыре из них бесповоротно утеряны. Даже лежа подчас в постели со случайной и такой же глупой, как я, женщиной, я развлекаюсь тем, что перебираю воображаемые страницы (тем самым удваивая их существо), спрашивая время от времени: а что может находиться, допустим, на 178? Чаще всего те, кто остается, говорят, что на странице, названной мной, говорится о любви. Я не спорю. Я забыл, что такое спорить. Я живу, не выпуская пера из рук даже во сне, вернее, никогда не засыпая, что само по себе действует на меня, как алкоголь, – последнее, что мой желудок покамест не извергает обратно, о да, так нежно мы таем друг в друге, а дальше облака, образы пернатых, разводы влажной жимолости, шумящих склоненных ветвей, но иногда несколько фотографий, и они никак не складываются в то, что обещают в будущем, а порой он напоминает серый кипящий лед, который кто-то кладет на веки, и никак не проснуться, не выйти из паутинного сада бессонницы, ставшей единственным измерением пространства, за исключением движений руки, ведущей тупое, безразличное, брызжущее орудие по пористой, в рыхлых щепках, бумаге, глине, изъеденному кислотами металлу моих дневников, рассеивающих чернила или какой другой вид пустоты, отличающийся по цвету от страницы, камня или кожи, на которой в равномерном освещении рассвета можно прочесть вытатуированное пожелание никогда не отказываться от сказанного, или когда оно вовсе ничем не отличается ни от чего – именно оттуда берут свое начало корни сущего (но я не успел записать, какая досада, что это относится только к пределам неопределенных времен, где и происходят безбедные процессы), – так как главным считаю то, чтобы не отстать зрением от руки, чьим предназначением является точно рассчитанное опережение будущего события, сведение его к случившемуся, чего скрывать, этот незатейливый трюк мне удается в течение более четверти века. Ничего особенного. Проще пареной репы, так, салонный пустяк. Вероятно мне, как теперь кажется и разумеется безо всяких на то оснований, в своей работе над дневниками (хотя, едва ли кому-нибудь это покажется непосредственной работой, в общепринятом значении этого слова; пожелай кто ознакомиться с теми или иными описаниями переходов через перевалы, зловещих криков предрассветных птиц на берегах тускло стоящих в тумане рек, обреченных мятежей в никому не ведомых странах, горящих плавней, исследований человеческого перводвижителя, он не обнаружит ни одной страницы, повествующей об этом и о многом другом) хотелось… как бы это точнее выразиться? – "опередить" другого, других в их завоевании и присвоении слов изначально, хотя само по себе представление "изначальности" откровенно сомнительно и существует в прозрачном качестве аллегорической фигуры. Не уверен, что мне довелось внятно рассказать об отступлении и его стратегиях. В свое время они были великолепны. Предвосхищая любое возможное намерение и следуя логике установленного порядка, я должен был стремиться стать всеми одновременно, затем чтобы далее, оставив всех "в себе", всех ставших "мною" (человек-западня), устранить себя (иногда я помышлял об элементарном физическом самоустранении – кто же в молодости не грезил всеми женщинами мира, победами в абсолютном весе, присутствием на собственных похоронах и тому подобным…), либо уничтожить пределы собственного представления о себе и, таким образом, того, что нескончаемо прибывало в различение, образующее некоего "меня". Мысль о том, что ни время (в каком бы то ни было его понимании), ни пространство не играют существенной роли на весах взаимопроявления, привносила порой ноту покоя. Что по тем временам (как и в дальнейшем) было отнюдь не маловажно. Отсутствие денег. Война. Холод. Делать нечего. С этим надо кончать. Есть письма (я упоминаю у них в дневнике, не приводя, впрочем их целиком), которые мне до сих пор не удается прочесть. Многое в них продиктовано чувством справедливости. Главное, что покинутость в этих случаях становится необходимым состоянием для изучения физиологической особенности разложения. Распад отражения в твоем зрачке понуждал меня еще более пристально вглядываться в твое лицо, в его нарастающую пустоту, в лицо, которым я полон сегодня, поскольку больше его не вижу, и знания о котором меня ни к чему не обязывает. Простота инверсии также очаровывала. Можно представить, скажем, обратный процесс, не расширение, но – такое же теоретически абсолютное уплотнение, сжатие, при котором в нигде располагается есть. Расширение и сжатие.
Писание дневников в сущности было тем и другим одновременно.
Я искал твой след и в том, что еще не случилось… и, наверное, никогда не случится. Это первое. Где-то поодаль находится второе. Третье всегда не концептуально. Идея третьего не может быть артикулирована. Его присутствие описывается достаточно безыскусно – оно просто есть, когда надо. Всегда остается два изначальных значения. Угадай, написал в начале страницы Диких. Его пальцы таяли на клавиатуре по мере того, как он уходил по Кирпичному переулку.
Так давно. И совсем под иным расположением звезд, под другим сумраком век. Конечно же, вот-вот! – волшебно затихший во впадине зрения вовсе не постижимый городок на каком-то совсем другом юге… где остановились оттисками вечера все тех же палисадников, дремотно шумящих акаций, а ночи пропитаны эфирной смолой петуний и ночного табака, а днем – летящая над Пятничанами в одуряющее никуда пыль, в то самое никуда, где стоят руины каких-то усадеб, трижды, четырежды превращенных в гнусный прах, не помнящие ни родства, ни начал, ни распада, которые также не применимы в описании тех мест. Я хорошо помню. Я, ведь тоже, надо сказать, с Юга. Как о. Лоб, тогда еще безумный программист с железной гитарой, видевший компьютеры в ту пору, быть может, только в пьяных снах; или Карл, ушедший впоследствии в свой последний surfing к пределам Матрицы с горстью коралловых бус во рту, курящемся и по сию пору инеем жидкого азота, так же как Юрий Дышленко, ставший мертвым в минуту произнесения кем-то под низкими прокуренными сводами слов: "он умер в Quinsy, и в тот же час грамматика предопределения превратила его в Единственный Цвет Вселенной (окрашивающий все, не прикасаясь ни к чему, он извечно предстоит очертанию, черте, числу, вступающему в торг различения с иллюзиями вещества, подобно свету и вкраплениям кварца, обнаруживающему искры поверхности – именно так, многомудрые риши! – поэтому просветленный, хотя и смотрит на ши, созерцает ли, изначально ведая, что эти ши не ли…"), – как много их? Насколько долго? Зачем? Нужно ли думать? Думать нужно всегда, поскольку "всегда" неминуемо необходимо, равно как "думать", "секунда", или "парадокс лжеца" – мы строго взошли каждый в свой час на положенную дугу, подобно деревянным птицам, к спинам которых бронзовыми гвоздями была приколочена бумага с неразборчивыми наставлениями, и, шевеля скрипящим опереньем плавников, двинулись в слепом и алчном блуждании к ослепительно-белым углям, где, как говорилось в 7-м пункте наставления: нет ни зенита, ни надира, но после поедания книги всех ожидает восстание из золы, в которую, по мере разматывания веретена, превращало наши телесные механизмы шестерично-зубчатое трение о свет, о ночь и ветер солнцеворотов, о зубы ангелов, бывших не чета нашим – прокуренным и с кривым присвистом, не лишая, одновременно с тем, необходимых для дальнейшего опознания очертаний, в которых мы двигались точно так же, как в слепом и алчном блуждании, и столь медленно, что физические законы, управлявшие жизнью металлов, кислот, призраков и приливов, утрачивали правомочность, а скользящие по мыльным осям тяготений и противодействий философы заканчивали свои диспуты на двенадцать минут раньше положенного, сумрачно укладывая в сундуки трапеции и лоскутные ковры, засаленные от несчетных прикосновений босых ног – стоит ли говорить, что солнце и луна утрачивали смысл в ежемгновенных сочетаниях и разъединениях? Я помню, как прекрасная и раскаленная собственным совершенством сталь бескровно отворила то, в чем появились первые робкие изображения (пятна, линии, плоскости, затем добавились измерения времени, цвета, запаха, среди которых предлоги устанавливали власть векторов, а неделимые частицы языка раскрывали веера хитроумных предположений касательно узоров, текущих по не остывающему воску воображения) – так я стал обладателем пары глаз, данных мне в долг, и возвращать которые, знал, наступит свой час, хотя никакой боли я не почувствовал, как если бы ее во мне еще никто не создал, будто способность ощущать боль являлась чем-то наподобие последнего штриха, тончайшей детали свершения, и потому точно так же беструдно было отделение кожи от липкого, молочного воздуха, в котором жадно и жарко, подобно астматическим жабрам, журчали ручьи крови, – в тумане роились десять тысяч мерцающих голодной солью миров; каждый готов был понести имя, которое несли ему иные. Кто-то утверждал, что видел всех Будд, – мол, они мололи орехи, распевая молекулярные песни подземных пернатых. Мы же не ведали ни возгласов, ни удивления, но лишь одну скорость и движение, неукоснительно собиравшие пыль, из которой состояли мы, в тяжесть и пространство предположений. Что необходимо для продолжения? Объятия, слияние, секс, изведение целого из частностей, несколько спазм, переламывающих горло пополам? Одно тело или множество различных? Третьего сестре не дано. Поодаль неслись стада бизонов, перетекавшие подобно лаве в пустотах еще не познавшего представления мира. Рыбы находили приют в реликтовых заводях нашего существа, но не были нам известны ни удивление, ни возможность простого возгласа радости при встрече обыкновенного знакомого за поворотом улицы у булочной. Что напоминает мне эта дорога? Она напоминает ему о морозном рассвете, ведущем к вокзалу. Затем… ах да, а за спиной остается школа? Не был ли тот, давний разрыв времени осуществлением путешествия сюда, именно в пределы этой страницы, предложения, строки? И не предстоит ли мне еще раз открыть глаза, как если бы те двадцать минут были исключены из моей жизни с целью научить меня возвращению – не окажусь ли я, передавая дрожь пальцев от буквы к букве, в один прекрасный миг на утренней зимней улице в двух шагах от железнодорожной колеи в черной сутолоке ненужного дня? Уверен, что именно цепь подобных мгновений исчезновения, неповиновения ведомому и видимому составляет то, во что сливаются их следы, как дыры перфорации сливаются в односложное есть.
И все же именно в сквозящих разрывах надвигающегося вживления в следующие безмысленные слова я угадываю городок на Юге, – и кто посмеет помешать мне говорить о нем, о ком, о чем еще, когда? – и вот еще чьи-то совсем уже детские глаза, в которых возможно прочесть и уходящее за телеграфные провода, за степные скаты, неизъяснимо высокое, немилосердно пустое небо и, конечно же, все ту же арифметическую пыль, стоящую сизой мглой в углу зеркала, на самом его дне, того самого, прозелень которого могла удерживать свет после его исчезновения на период, число меры которого теперь уже невнятная тайна: там, и дальше, за углом, где из-за забора свисают ветви цветущей сливы. Ты всегда обгорала на солнце. Нежно обгорала и кожа вокруг твоего рта, вечером губы твои были совсем сухими, и ты сама говорила, что вот это всего-навсего весенняя лихорадка, всему виной большой свет. За зиму от него отвыкаешь.
Перед тем, как что-нибудь сказать, она быстро облизывала губы, – маленькая сияющая ящерица мелькнула мне тобою по песку обочины шоссе Santa Fe в Solana Beach спустя без малого полвека, – как если бы они у нее пересыхали вмиг от осознания важности и огромности того, что она намеревалась сообщить хриплым, не по-детски надломленным голосом.
Тем не менее, они продолжают говорить в ней, ее интонациями, ее телом. Они придумали ей реплики, они создали ей прошлое, сотканное из соображений социальной безопасности и чужих, выверенных воспоминаний: в доме полуживых книг, исполненном меланхолии солнца, визуальных искусств и вечного шелеста падающих листьев в заросли бугенвилии, – в холодно кипящем (как перекись водорода) безмолвии только ослепительные голуби рассыпаются мраморным стенанием в бумажных стенах, увешенных фотографиями карстовых садов Versailles и San Susi под гончарными крестами мексиканской черепицы.
Нет, не думаю. Все же недавно. Почему ты спрашиваешь меня об этом, почему? Разве это было нам неизвестно? Я ничего не говорил, я не спрашивал, я молчал, как стал, так и молчал, и бровью не шевелил, не двигался, неужели ты не заметил? Да, многие знали. А остальные? Нет, это ты только что выдумал, ты сказал это нарочно для того, чтобы я услышал твое якобы молчание, которого нет, точнее, которого не было тогда, когда я спрашивал тебя на крыше, а ты мгновение спустя неосмотрительно и бездумно поменял предоставленную тебе возможность на бесплодное созерцание горящих судов, явленных поверхности и в нее канувших – но почему ты спрашивал? Начинать необходимо с начала и с остального. Неужели искусство погибло, или же кем-то была проявлена слабость? Именно так, как оно предстает слуху и зрению, когда происходит из того, что известно было немногим. К счастью об этом было можно узнать где угодно, в ларьках, на станциях, в оперных театрах, банях и тюрьмах. О чем ты спрашивал? Смерть изменяет в итоге состояние вещей в нужную сторону. Входит в то, что было досконально известно. Увеличение строки не предусматривает укрупнения дыхания. Иными словами – абсолютно длинная строка равна среде ее представляющей, вакууму. Реальность возможна. А если быть точным – горела книга, ничто другое, ее страницы теряли цвет и память в легком летнем огне, который несет западный ветер с островов, подымаясь вслед беззвучной воде. Все благополучно сошлось и не нуждается в лишних свидетельствах. Возможно – просто возможность не прекращать то, что предусматривает свое прекращение.
Никто нам этого не скажет, мы неизвестны в ночи соскальзывающих слов, мы еще не вписаны в карты обмена между богами и неодушевленными предметами из крашеного железа и искрошенного фаянса. Тут ты прав, зрение обманом втянуто в происходящее, чтобы вести пустое знание вестью, и как ядро каторжника оно не дает ему двинуться ни на волос дальше возможного. Оставим черные сверкающие доски счета. Уроним под ноги мел и досуха вытрем стеариновые следы роенья на стеклах. Хорошо известно, что возможность есть граница известного. Например, предел вещи есть ее возможное, ее будущий передел другими, но куда тебе в этом случае хотелось бы двинуться, предполагаешь ли ты, что сможешь пересечь пределы движения или возможного? (Почему ты спрашиваешь меня об этом, почему ты настаиваешь, чтобы я отвечал? Ты хочешь, чтобы они в самом деле поверили, будто я сумасшедший. О чем недопустимо говорить прямо? В голове не укладывается, что они действительно верят, будто где-то на неведомых глубинах залегает труба с коньяком. Легче поверить в Грааль, чем в эту трубу или в другую, что по слухам прозвучит над холмами и долами в день восстания из-под капельниц Карла. Можно в трубу, в щебень и в тыкву. Куда ты смотришь, когда говоришь? Кто говорит? Я молчу. Война бессильна превзойти собственное изображение. Изобрази меня с кружкой пива. Чтобы я сидел на стуле у кирпичной стены на закате, чтобы мне не снились телефонные сны об элементарных частицах, и чтобы глаза смотрели вверх и слегка влево, тогда как тополиный пух не прекращал бы падать в великие воды канав.)
К той, едва видной в желтом стекле весеннего солнца, птице, хотя я не знаю зачем она мне на сухом ветру. Расслоение, бедность фонем. Кто знает? Никто. Потому что это никого не касается. Потому что воображение и есть единственная мера невозможного. В вечном запаздывании. Круг – образ любого образа.
А мокрые листья на выщербленных темных кирпичных дорожках тоже никого не касаются? Да, не касаются. Они касались в падении лица, а теперь парят в колодцах тления. Хорошо, будь по-твоему. Ну, а радужные водопады, которые обрушивались с кустов бересклета, стоило их качнуть только рукой? Безумие находит надежду там, где мы черпаем нескончаемый страх. С другой стороны перспектива закрыта. Ветви всегда касаются того, кто к ним ближе. Какое непомерно длинное и утомительное слово. А мерцающие в дожде стволы кленов, а это желание, чтобы другой хотел, как хочешь ты? Тихая пьеса журчит в стеклянных сосудах поплавков, прозрачная, безлюдная, размеченная стеклярусными лентами полдня. Тогда, хотелось бы знать, что вынудило ее стать подобием мембраны, дрожащей пленкой, преобразующей неосязаемые волны в вещественную дрожь желания (упрямого и старого, как гортанная галька) – незрячего и одержимого своей историей ничто. Но "ничто" появляется секунду спустя, стирая собою – "ночто", по причине чего едва не возникает строка: "слепой и не отражающей ничто ночью". Что. Мне кажется нет лучше слов для последней фразы, окончивающей повествование: "так прошла наша жизнь". Недурно. Как глупо… Глупо и странно. Есть простые вещи, которые страшно вымолвить, например: "дай мне чаю", "поцелуй меня", "какой сегодня льет дождь", "налей вина", "сколько стоит", "давай поедим", "читал ли ты книгу N?". Заметим, снег при этом безудержно тает. Иногда кажется, что зиме пришел конец. Так прошла зима.
Что значит это "что"? Теперь все находится слева, там, где чашка кофе, кожура апельсина, пепельница, фотография теплых источников Большой Канавы. В невесомости, словно сдернута петля с усталой шеи – а тело осталось парить во многосоставном пространстве оргазма и наказания, склоня голову, как если бы кипящие пружины рассуждения (валансьенские кружева, коллекционная капля крови, сползающая по груди к соску, – взор опускался в туманном неведении следом, – веер, заламывающий бормотание мелом игрушечных морей и гротов, ракушки, и рисовое письмо в порче монотонной назидательности – вещи и тени, легкие, изогнутые, как золоченые луки возмездия или недоговоренные формы натянутых до онемения умолчаний) замедлили бы скорость толкования того, что означает эта поза, ее проницаемость, а прежде всего выгоревшая бумага самой фотографии. Тончайшая черная полоса пересекает то, что не имеет формы. Мы говорили о ножах. Естественно. О чем еще?
Оно спокойно, дышит. Оно облечено могуществом среднего рода. Возможно, когда-то это было мной. Равнина, тогда. Можно сказать, это было местом, пространством, отделенным от не-меня. Но стоит отвернуться от равномерного и успокаивающего чередования обстоятельств, смутных, но отнюдь в своей артикуляции не лишенных достоинства причин всевозможных следствий, предполагающих наряду с тем беспечную и безотносительную динамику перехода во что-то иное, что по обыкновению мыслится поразительно внятно, вопреки ускользающему в последний момент значению: стоит сделать такой шаг, хотя бы на мгновение позволяя стремящемуся со всех сторон течению миновать тебя (известен ли тебе такой способ? Манера изложения? Адреса? Телефоны? Издательские данные?), как принимаешься тотчас рассуждать о том, сколь магически-завораживающе было такое движение: нечто случающееся/случившееся (находящее отзвук и продолжение в телесности, в сознании, и, более того, обретающее там подтверждение собственного не-существования в присутствии, подобно лаве определений, нескончаемо перетекающих друг в друга по натянутой струне никогда не свершающего себя исчезновения, но только тенью предчувствия, предупреждения, осуществленного в ускользании; – здесь каждый день распускаются новые листья, каждый день и каждую ночь осыпаются пожелтевшие, иссохшие – осень и весна, проницающие друг друга времена; чрезмерно наглядно; весы; опыт), являлись непреложными фактами, и даже в неуклонном стирании одного другим, волна за волной они несли тебя, одновременно наполняя, протекая, мнится, через заведомо установленную с каким-то умыслом проницаемость тела, памяти, воображения, страсти, молниеносно слагаясь в податливую последовательность мысли, праздную и ничем ничему не обязанную, ничем не обусловленную; – такова весна этого года; вероятно таковы годы, века; – и облекали, совлекая одновременно, нескончаемую разрозненность того, что именуется "тобой" в меру целесообразности, либо, если угодно – бессмысленности, и что опять же являло себя в кратчайшем ощущении медленной, невыразимо медленной вспышки, в чьем неукоснительно разветвляющемся свечении всегда начиналось блаженное расслоение простой длительности, ее развертывании в памяти.
Совершенно верно, никто не намерен произносить: будущее, прошедшее настоящее (present perfect continues). Догадка принята. Наличие таковых не поддается доказательству.
Я был не мной – но кем? завораживающей идеей знания, не требующего доказательств. Разве я хотел быть доказательством самому себе? Никто не нуждается в оправдании. Приветливость как главная черта характера. "И речи быть не может! Он пишет, потому что ему нечего сказать!" – Именно. Чтобы снова не оступиться на ледяной тропе артикуляции собственной принадлежности: пространство, история, политическое устройство, пол, возраст. На 101 Старом Шоссе, роясь в книжном развале у Джанис (обычный Thrift на обочине, набитый одеждой, источающей запах химической въедливой опрятности, подсохший хлеб в пластиковых пакетах из мексиканского ресторана через дорогу: – one bag for family, please, thank you).
Что и говорить, я попал на свое место. Рай, в который попадают случайно, бесплатно, не понимая вполне, куда попали, потому как никому в голову не приходит спросить об ID или грехах, равно как и о добродетели. Идея пустынного, опустошенного, как 5-Th Freeway после раздачи слонов, красной смородины, рая. Где горизонт под ногами, а на горизонте Ганг, и горизонт одновременно там, где ему положено быть, – в виде утешения. И никогда не поймут (будто это кому-то впрямь нужно), что такие мгновения рассеяны по всему бредящему маревом полотну дороги, по всему старому шоссе. За окном новое условие ветра. Снаружи, оледеневшая на слюде зноя фигурка; кренясь, как требование доказательства у Витгенштейна, всего в пяти минутах ходьбы от которого взмывает обрыв к океану, мусор: вымытое до желтой кости дерево, груды гниющих сетей. Груда юношества. На Старом шоссе – поется, наверное, в какой-нибудь песне, "на старом разбитом шоссе". Не может быть, чтобы никто никогда не спел нам такой песни. Я просто не верю. Так вот, тогда, значит, на старом забытом шоссе верификации. Нагнуться, подобрать выеденный солью сук. В качестве дополнения. Действия "я" обусловлены необходимостью перемещения угла зрения наблюдателя. Что необыкновенно важно для сюжета. У меня есть что сказать, например: "как тогда, на старом шоссе", и так далее. На каком берегу рос тот бамбуковый, исполненный тишиной строгой мысли, ствол? Рукав в росе поднеся к глазам. Солнце уходит к далекой фарфоровой лампе (о которой известно, что вылеплена она из красной глины и речного ила, и императоры, ею владевшие, были крылаты), по чьим стенам тени дельфинов сплетаются в нервную пряжу письма. Подобно сердцевине стебля, люди в машинах, стоящих вдоль съезда на берег, – конечно безмолвны. Губка. Но грохот.








