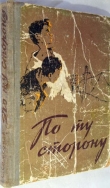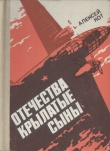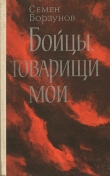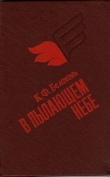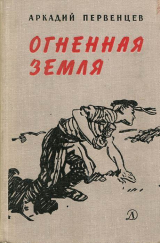
Текст книги "Огненная земля"
Автор книги: Аркадий Первенцев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава десятая
Выход батальона задерживался. Это помогало лучше провести подготовку.
Войска Северо-Кавказского фронта девятого октября завершили разгром таманской группировки противника и полностью очистили от немцев Таманский полуостров. Тем самым закончилось начатое раньше освобождение территории казачьей Кубани. Доведя войска до водного барьера Керченского пролива и сузив протяженность фронта, командующий, выполняя приказ Ставки, отдал на центральные участки советско-германского фронта значительную часть своих дивизий. Еще до того, как была разгромлена группировка немцев за «голубой линией», как называли таманский участок фронта германские генералы из-за обилия водных преград, командующий отпустил с Кубани кавалерийские полки кубанских казаков, шедших с ним от Каспия. Кавалерия при атаке укрепленного и холмистого Таманского полуострова не имела оперативного простора, а переданная на Украину, она значительно помогла армиям, действовавшим по Северному Приазовью, Днепру и далее к Одессе.
Теперь с Тамани уходила еще часть войск – участников освобождения Северного Кавказа и Кубани – для новых подвигов, о которых вскоре узнала вся страна.
Фронт вышел к морю, и потому снова возрождалась Отдельная Приморская армия. Появились новые армии и дивизии, появились новые имена военачальников.
Букреев отлично понимал свое значение в общем гигантском механизме, собранном для окончательного разгрома врага. Он знал одно: ему был доверен батальон, и он должен сделать все, чтобы оправдать доверие и выполнить в полную меру своих сил порученную ему задачу.
…Манжула, своими постоянными заботами напоминавший Хайдара, нашел для своего командира комнатку у тихих хозяев-старичков. При появлении такого важного, по их мнению, квартиранта они еще больше притихли, ходили бесшумно, а по ночам о чем-то долго перешептывались в соседней комнате. Комнатка, занятая Букреевым, была обставлена по-провинциальному – начиная от обязательного фикуса в глиняном горшке и вплоть до выпиленных лобзиком настенных украшений. Она имела, впрочем, одно несомненное преимущество – выходила окнами в сад.
На аллеях лежали мягкие листья, осыпавшиеся с деревьев. С тихим шелестом залетали они на серое дно заброшенного фонтана, украшенного статуей.
В короткие минуты отдыха Букреев бродил по саду, ощущал увядание деревьев, едва согретых скупым осенним солнцем.
Дома почти по всей улице были разрушены. Улицу как бы повалили наземь. Прибрежным домам особенно досталось от германских пикирующих бомбардировщиков. Улица обрывалась у бухты, подрезанная глубокими окопами, оплетенными колючей проволокой. В те дни черноморские города превращались в крепости, ощетинивались, раскидывали по сторонам от себя крылья минных полей и траншей… Вражеский десант угрожал приморским городам: к борьбе с ним готовились. Но немцы еще ни разу не рискнули высадить десант, хотя в их руках были удобные базы и отличные десантные суда, переправленные на Черное море из Ла-Манша. А сколько раз противник видел у захваченных им берегов суда черноморцев и черные бушлаты наших моряков!
В освобожденном Новороссийске Букреев детально изучил систему германских приморский укреплений. Мины, ползучка, спрятанная в траве, несколько рядов колючей проволоки, траншеи с бетонными колпаками для пулеметов и противокатерных пушек, ходы сообщения ко второй линии окопов, убежища от бомбежек и артиллерийского огня. Дальше – бойницы в стенах и фундаментах зданий, баррикады и перед ними снова мины и волчьи ямы. Укрепления были сломлены героями сентябрьского штурма, но они были окроплены кровью черноморцев. Это были первые жертвы на пути к освобождению Севастополя.
Букреев настойчиво и требовательно проводил подготовку батальона.
Штурм с моря должен быть молниеносным. Придавленный огнем артиллерии, противник должен увидеть перед собою стремительных матросов-десантников.
«Сломив берег», надо штурмовать в глубину. Врагов, оставшихся в живых, заливает лава второй волны десантников, а группы прорыва, вломившись в глубину неприятельской обороны, двигаются вперед и вперед. Первый удар – все. Неудача первой волны – провал всей операции. Батальон Букреева шел в первой волне войск, штурмующих Крым.
Букреев приказал организовать на берегу моря тренировочные площадки. Десантники учились сбегать по трапу на берег, занимать свои места на судах, высаживаться по трапу и вплавь. Каждый обязан знать, кто за кем сбегает с корабля, чтобы при ночной высадке не вышло беспорядка. Выбирая тип корабля для десантников, Букреев, так же как и его предшественники, остановился на мелких судах.
Они могли вплотную пристать к берегу, и люди, особенно в условиях зимней высадки, не выкупавшись в воде и не промерзнув, конечно, окажутся боеспособней. Кроме того, высадка с мелких судов может пойти быстрее, а в десантной операции дорога каждая секунда.
Секунда – приготовились; секунда – судно у берега; секунда – бросились и дальше, по стуку секундной стрелки, – уцепились; летят гранаты; первый прыжок; пока еще не стих грохот разрыва, штык и кинжал у горла врага!
Опыт показал, что для удобства управления боем десантный отряд надо делить на небольшие штурмовые группы с таким расчетом, чтобы каждая группа была посажена на одно судно и могла самостоятельно сражаться. Но одновременно нельзя утрачивать единство целого. Комок ртути, брошенный на ладонь, вначале рассыпается, но тут же стягивается воедино мускульным движением собранной воронкой ладони. Так ощущал Букреев опыт предшественников. Ртуть должна обязательно сбегаться к центру. Обязательно! Мельчайшие частички, распыленные на большой площади, – ничто. Раздумывая над этим, Букреев невольно сжимал кулак и долго держал его сжатым.
Батальон не мог сразу брать с собой тяжелое оружие – орудия, танкетки. Быстроту «первого броска» ничто не должно стеснять. Высадку должна поддержать артиллерия с нашего берега. Поддержать не только на том участке, где будут нанесены секретные линии удара, но и на широком фронте, чтобы сбить с толку противника и распылить его внимание.
Букреев посещал артиллеристов и советовался с ними. На Тамань ушли гаубичные и пушечные артиллерийские полки, батареи подвижного дивизиона, известные расчеты офицеров Исаюка, Гарматы, Андрианова… Но оставались береговики – опытные люди, понимавшие, чего хотел от них Букреев. Для широкого артиллерийского наступления нужно много пушек. Сотни стволов должны быть направлены на противника. Кроме того, должно быть и нападение с воздуха. Букреев понимал, что успех десанта зависел не только от подвига группы моряков, но и от объединенных усилий армии, флота и авиации. Порвется одно звено в этой цепи, и может рухнуть в море протянутая через пролив цепь. Летчики и артиллеристы должны точно знать, где находятся люди десанта. Поэтому надо укрепить связь, сигнализацию.
Батальон брал с собой все, что нужно: телефонные аппараты, кабель, радиостанцию. Но нежная аппаратура «высшей связи» (как называли на фронте радиотелефонную связь) могла быть повреждена – ведь немного нужно, чтобы вывести ее из строя. Поэтому на вооружение поступала дублирующая система «низшей связи»: свистки, условные оптические сигналы и проч. Батраков и Баштовой рекомендовали установить связь внутри боевых групп – рот и взводов.
…В день отдыха роты направлялись в гарнизонную баню. Наконец-то бойцы шли по улицам города налегке. Молодые люди, с которых было снято бремя оружия, расправили плечи, повеселели.
Наблюдая за своими людьми, Букреев вспомнил почти забытого им майора Тузина. Он ушел из батальона незаметно, заместителем начальника в какую-то тыловую часть. Букреев припомнил его суждения о сложности роли командира в отряде морской пехоты и невольно подумал о своей морской фуражке, притронулся к ней рукой.
Батраков стоял рядом с ним, влюбленно посматривая на своих «орлов». На его голове была все та же фуражка с цветным околышем. Букреев рассказал Батракову свой разговор с Тузиным о «маскараде». Батраков внимательно слушал комбата.
– Чепуха! Что тот Тузин понимал?
– Но вы-то… носите пехотную фуражку, – заметил Букреев.
– Я? – Батраков расплылся в улыбке. – Ко мне так привыкли. Вроде военной хитрости: красный околышек во время боя видней.
– Для противника?
– Чепуха – для противника! Для противника я не стал бы стараться. Для своих… Ведь у нас ни погон не бывает на ватниках, ни других различий. А в бою все так закоптятся, так становятся друг на друга похожи, что отличить невозможно. Вот тут и нужно отличие. У меня – околыш.
– Вот оно что! Тогда меня могут с кем-нибудь спутать, – пошутил Букреев.
– Кому надо – не спутает.
Таня, уже принятая в батальон, шла рядом с командиром пулеметного взвода Горленко. Девушки гарнизона имели свой банный день, но как медицинская сестра она должна была, проводив роту, дежурить на санитарном посту.
Таня и Горленко служили раньше в 144-м батальоне.
– Они вместе сражались на перевале, – сказал Батраков.
– Вот оно что! Не знал…
– Такие подробности сразу и не узнаешь, – ответил Батраков, с восхищением вслушиваясь в грянувшую песню:
Не остановит никакая сила
Девятый вал десантного броска.
Пусть бескозырку за борт ветром сбило —
Земля родная крымская близка.
– Слышите? Это, пожалуй, получше «Софьи Павловны».
– Новая песня?
– Новая… Яровой сам роту подучил. Хороший он парень, этот Яровой.
Матросы пели:
Девятый вал дойдет до Митридата, —
Пускай гора над Керчью высока!
Полундра, фриц! Схарчит тебя граната!
Земля родная крымская близка.
Глава одиннадцатая
Ночью Букреев обходил казармы батальона. Он шел уверенными шагами хозяина по выскобленным до желтизны полам коридоров и делал кое-какие замечания дежурному, старшему лейтенанту Цибину. Манжула неслышно двигался за ними.
Люди спали, разметавшись после жаркой бани, на соломенных матрацах, на нарах, сколоченных из толстых ветвей деревьев и теса. Букреев с удовлетворением видел, что теперь уже никто не спит на полу, в одежде и обуви, под головами у людей подушки, а не коробки с пулеметными лентами или автоматные диски. Оружие, поблескивая сизой смазкой, стояло в пирамидах. Букреев находил, что Геленджик достаточно далек от фронта, чтобы искусственно не создавать здесь фронтовых условий и не доматывать силы людей после тяжелых полевых занятий. Солдат должен уметь молниеносно изготовиться по тревоге, но его нельзя беспрерывно держать в напряжении.
Моряки, в свое время приученные на кораблях к аккуратности, быстро возродили и на суше корабельные порядки. Но все же приказание Букреева о побелке стен встретило неодобрение: «Чего их белить? Все равно скоро уходить». Сейчас, видя выбеленные стены, застекленные рамы, чистые постели и полы, Букреев был доволен.
Уставшие за день люди спали тревожным, но глубоким сном.
Ежедневно в батальон приносили сотни конвертов, и, когда почтальон вытряхивал мешок с письмами, их быстро расхватывали сильные, подрагивающие от волнения руки. Люди вскрывали конверты и жадно читали письма, оставаясь наедине с теми, кто называл их в письмах Петями, Колечками, Ванечками… Им писали матери, отцы, сестры, любимые девушки. Для них они – прежние: ласковые, нежные, застенчивые ребята; дети – для матерей, братишки – для сестер, сверстники – для девушек, учившихся вместе с ними в школах, маршировавших в пионерских лагерях, танцевавших на вечеринках.
Яровой спал на койке, строго сдвинув брови и сложив на груди смуглые руки. Любимец своей роты, он заслужил на поле боя погоны офицера. Позади Ярового спали бойцы его роты. Казалось, рота и сейчас распределилась так, чтобы мгновенно, по приказу своего командира, броситься к оружию.
Каганец отбрасывал на лица спящих неровные световые блики. Букреев заметил, как Яровой чуть приоткрыл глаза и взглядом провожал его, пока он осматривал оружие, обувь, промоченную при высадке.
– Обувь надо просушивать, – заметил Букреев Цибину. – За этим должны следить дневальные.
Пулеметчики Степняка спали в большом зале на нарах, поставленных вокруг пулеметов, укутанных промасленными чехлами. Степняк лежал так, что его голова была ниже крутой волосатой груди, порывисто подымавшейся от дыхания. Во сне подрагивали и насмешливо кривились его губы, и у глаз, оттененных длинными, словно девичьими ресницами, собирались насмешливые морщинки. Рядом со Степняком спал сержант Василий Котляров, бывший пулеметчик мотобота, прошедший свой путь от Измаила до Геленджика, а с другой стороны – Шулик и долговязый Брызгалов. У Шулика совсем юное лицо, русые, рассыпавшиеся после мытья волосы, тонкое запястье руки, и на ней – татуировка, наполовину прикрытая рукавом тельняшки.
Брызгалов, в отличие от своего друга, спал тревожно, лежал на животе, уткнув лицо в ладонь. Он глухо стонал, иногда громко вскрикивал. Тогда стриженая его голова приподнималась от подушки. Поводив сонным, мутным взором по комнате, он снова опускал голову на ладони и засыпал.
Дневальный Курдюмов – дядя Петро – стоял возле Букреева, осматривавшего пулеметы, и с неудовольствием следил за бормотанием Брызгалова. Брызгалов опять что-то закричал. Курдюмов придвинулся к нему и слегка толкнул его прикладом винтовки.
Брызгалов поднялся, протер глаза:
– Тревога?
– Спи, спи… тише! – зашипел дядя Петро. – Командира побудишь. Сам знаешь, какой у него сон соловьиный.
Брызгалов, так и не поняв, что от него требуют, провел тем же бессознательным взглядом по Букрееву, по Цибину и заснул.
– Тут девушки, товарищ капитан, – сказал Цибин, когда они остановились перед закрытой дверью.
Букреев повернулся и своей молодцеватой походкой кавалериста молча вышел на улицу.
– Вы можете идти отдыхать, – сказал он Цибину.
Цибин ушел. Букреев, ожидая, пока шофер и Манжула заведут остывший мотор «газика», смотрел, как дрожит искристый свет прожектора над острыми верхушками деревьев на той стороне, в Солнцедаре. Сюда с аэродрома тяжелых бомбардировщиков, работавших всю ночь, доходили неумолчные шумы. Море плескалось о камни, где-то далеко подвывал шакал, и слышался однообразный шум автоколонн, идущих через Михайловский перевал и Геленджик к Тамани, где собирались силы наступления.
– Куда сейчас, товарищ капитан? – спросил Манжула.
Мотор работал на малых оборотах. Водитель пробовал передачи, рычали шестерни сцеплений.
– Домой, Манжула, – сказал Букреев.
…Цибин постоял у окна, наблюдая, как светлый ус автомобильных фар последний раз скользнул по черепичной крыше невысокого домика и погас.
– Беспокойный командир, – сказал незаметно подошедший дядя Петро. – Что бы спать…
– Каждому свои заботы, – ответил Цибин и пошел через казарму первой роты к девушкам, которые были устроены в отдельной комнате. У них не было нар, а стояли койки с одеялами и подушками. На окнах висели занавески, сшитые из марли. Здесь, так же как и везде в казармах, стояла пирамида с оружием. Девушки спали, за исключением Тани и Нади Котляровой, сестры-хирургички, некрасивой плотной девушки с мужскими плечами и прямыми, коротко остриженными волосами.
– Не спите еще? – сказал Цибин.
– Не спим, – ответила Надя.
– Командир батальона обход делал. Хотел к вам зайти – не зашел.
– Напрасно, – сказала Таня.
Цибин пристально посмотрел на нее и, ничего не сказав, обратился к Наде:
– Письмо читаешь?
– Письмо, товарищ старший лейтенант.
– Плакала, что ль?
– Может быть. – Надя натянула одеяло до подбородка.
– Меньше к сердцу принимай, что из дому пишут. Помню, стояли мы на Шапсугском перевале… Вы, кажется, там тоже были, Таня?
– Была.
– Так вот… Стоим насмерть, позади море, флоту быть или не быть, досада такая, что, кажется, грыз бы кулаки, а тут письмо от жены… Долго кружило оно, пока получил его на Шапсугском перевале. И в том письме только про одно – телка сдохла. Не знал я той телки, без меня купили, без меня сдохла, и целое письмо про телку… Слезы и тому подобное. А тут за флот душа болит… Что она понимала там, в Сибири, жена моя…
– Ее винить тоже нельзя, – сказала Надя, – у нее – свое, у вас – свое.
– Может, и так, – согласился Цибин и, постояв еще с минуту, ушел медленными и тяжелыми шагами.
Надя заплакала, утирая слезы пододеяльником. Таня, перегнувшись со своей кровати, утешала ее. Надя плакала над письмом брата, вернувшегося из госпиталя без ноги, и слова утешения были для нее, как часто бывает в таких случаях, какие-то пустые.
– Хорошо хоть жив, Надюша.
– Без ноги, – всхлипывала Надя. – Девятнадцать ему всего. Всего девятнадцать…
Таня пересела к ней на кровать, накрылась одеялом и, прислонившись к Наде, поглаживала ее волосы.
– Горе везде, Надя. Война принесла много горя.
– Я знаю, знаю… Иди, Таня. Ты замерзла. Обулась бы. На мои… Простудишься… – Надя повернулась к ней. – У тебя ведь тоже горе, Таня?
– Да…
– Прямо не верится. Такая красивая, образованная и…
– Что?
– Счастливая с виду…
– Счастливая? Почему ты так решила, Надя?
– У тебя хороший жених.
– Ты разве знаешь его?
– Знаю.
– Кто же?
– Капитан-лейтенант Курасов.
– Кто тебе сказал?
– Все знают. Гарнизон невелик.
– Вот оно что! – Таня задумалась. – Да, он хороший, Надя.
– И все же горе и у тебя… Я не спрашиваю, не надо. Зачем? А то опять разревусь… Где бы достать брату хороший протез? С протезом было бы совсем незаметно.
Надя тяжело вздохнула, отвернулась и притихла.
…Батраков сидел за столиком в комнатке небольшого дома, где он жил вместе с начальником особого отдела и помощником командира батальона по хозяйственной части, и писал письмо жене.
Он нежно любил свою семью, отделенную сейчас от него тысячами километров. Жена и трое детей ушли из Ленинграда под бомбежками и с трудом добрались до Кировской области, где и задержались. Там умер их младший ребенок. Письмо о смерти сына Батраков получил в госпитале в Сочи, где лечился после того, как был тяжело контужен в Севастополе и почти потерял слух.
Мало кто знал, что комиссар, холодно опускающий в карман письма жены, оставшись один, торопливо рвал конверт и десятки раз перечитывал каждую строку, как бы впитывая в себя то, что писали ему жена и старшая дочь, которую он представлял себе только такой, какой видел в последний раз, – с тонкими косичками, в коротком сереньком платьице и с нотной папкой с черными завязками.
Батраков писал, то улыбаясь, в веселых тонах расписывая свое житье-бытье, то насупливаясь, когда все же приходилось кое о чем говорить серьезно и советовать, как поступить, если…
Горбань дремал в проходной комнате на топчане, надвинув на лоб бескозырку и обняв левой рукой автомат.
В полудреме он думал об оплошности Манжулы, сосватавшего комбату комнату в противоположной части города, куда без машины не так-то легко добраться. Хотя и Манжулу обвинять было несправедливо: не мог же он поступиться удобствами комбата ради того, чтобы два друга с линейного корабля «Севастополь» постоянно общались!
Горбань думал, что сухопутные военные специалисты слишком много занимаются подготовкой к такому простому делу, как сражение. Чего, казалось бы, легче – ворваться с моря с «полундрой» на берег и расшвырять неприятеля? Горбаню нужно было отличиться на суше, чтобы загладить свой малый грех и снова возвратиться на линкор. Но когда же представится возможность отличиться в бою? Не придется ли ему всю войну вот так продрыхать на топчанах, таская с собою оружие, могущее истребить не менее сотни оккупантов?
Зазвонил телефон. Медленно поднимая к уху трубку, Горбань услышал в ней голос начальника штаба, срочно требующего капитана Батракова. Тон был такой, что нужно было (хотя этого не мог видеть начальник штаба) вытянуться, произнести «есть» и сразу, ворвавшись в комнату к замполиту, отрубить ему вызов штаба.
Батраков обладал способностью понимать Горбаня с полуслова. Увидев его, он встал, с шумом отодвинул стул и направился к телефону. Разговор был чрезвычайно короток – он походил на обмен условными сигналами.
– Найти немедленно помощника по хозяйственной части, – приказал Батраков, – и в штаб.
– А вы куда, товарищ капитан? – Горбань бросился за ним.
– Исполнять! – отрезал Батраков, не оборачиваясь. – И с ним ожидать нас в штабе.
Горбань сообразил, что означает слово «нас», бросил вдогонку капитану привычное «есть» и, не проверив даже, кто подъехал за Батраковым на машине, исчез в темноте.
Глава двенадцатая
Сняв гимнастерку и сапоги и надев туфли, Букреев расхаживал по своей комнате. За тонкой перегородкой слышались голоса Манжулы и стариков хозяев. Букреев невольно прислушался к разговору за стеной.
– Разве можно так, – сокрушенно говорил старик. – Сколько он спит? Три часа в сутки?
– Что потопаешь, то и полопаешь, дедушка, – ответил ему Манжула.
– Может, чайку подогреть? – вмешался робкий голос старушки.
– Какой же чай, бабушка, раз достал я два кавуна и парного молока, – ответил Манжула.
– Нельзя мешать молоко и арбуз, для желудка плохо.
– До войны нельзя было, бабушка, а зараз все можно. Зараз все смешалось.
Букреев постучал в стенку. Манжула появился в дверях:
– Я вас слушаю, товарищ капитан.
– Вы, товарищ Манжула… – Букреев подыскивал слова, – дали бы… покой хозяевам. Они же пока не числятся у нас в батальоне.
– Есть, товарищ капитан.
За стенкой после ухода Манжулы наступила полная тишина. Букрееву даже стало тягостно. Хоть бы кашлянул кто-нибудь или перекинулся словом. Его приказ был выполнен ординарцем с поразительной точностью.
Подъехавшая к дому машина вывела его из задумчивости. Кто-то шел по саду. Кто бы это мог быть? Букреев посмотрел в окно. На крыльце стоял человек. Стук. Так стучал обычно Батраков.
Замполит вошел в комнату и своим тихим голосом передал срочный вызов адмирала.
Пока Букреев натягивал сапоги, Батраков рассказал о том, что, вероятно, Звенягин уже поднял корабли по тревоге, так как он слышал звон рынд[1]1
Рында – по-морскому: колокол.
[Закрыть] на той стороне бухты и возле причалов.
Букреев защелкнул пряжку пояса и поправил пистолет.
– Очевидно, идем морем?
– Стало быть, морем.
– Неужели сразу в операцию?
– Что? – переспросил Батраков.
– Я говорю, неужели сразу отсюда в операцию?
– Не думаю. – Батраков пожал плечами. – Если высаживаться куда-нибудь на Судак или Алушту, тогда другое дело, но на Керченский отсюда невыгодно.
Они вышли к машине в сопровождении Манжулы. На яблонях покачивались ветви, с шелестом падали последние листья. В проломах туч, идущих от мыса Дооб, как в прорубях, отражались звезды. У причалов Тонкого мыса зафыркали моторы.
Машина шла мимо темных редких домов и высоких деревьев. По дороге из Кабардинки, то пропадая, то появляясь, бежали автомобильные огни. Может быть, кто-нибудь спешил сюда с флотского командного пункта.
Батраков сидел рядом с Манжулой, спокойный, молчаливый и как будто равнодушный ко всему. Букреев хотел перекинуться с ним словечком, но неожиданно почувствовал досаду на своего заместителя и одиночество. Он не мог тогда еще понять и оценить поведение человека, для которого приближение бури лучше ненадежного штиля.
У Мещерякова сидел, как всегда тщательно выбритый и предупредительный, Шагаев.
В штабе все было по-прежнему спокойно. Карта военных действий советско-германского фронта была исколота булавками, прихватывающими красный шерстяной шнур. На левом фланге шнур делил на равные части Керченский пролив, уходя вниз от косы Чушки к западной оконечности Таманского полуострова и обрываясь разлохмаченными линиями на траверсе мыса Панагия.
Мещеряков говорил по телефону с командующим флотом, когда в кабинет вошли Букреев и Батраков. Предложив им кивком головы садиться, адмирал продолжал разговор. Закончив, он встал, поздоровался с Букреевым и Батраковым, неторопливо разъяснил им цель вызова и их задачи. Они сводились к тому, что нужно было по тревоге поднять батальон, обмундировать в новое – зимнее, – погрузить на суда и выйти к фронту. На сборы и погрузку давалось два часа. Все хозяйственное имущество и обоз оставлялись. С собой взять только носимый запас боеприпасов и провианта.
– Моряки вас доставят в целости и сохранности до Таманского полуострова! – веселым голосом закончил Мещеряков. – С моря вас отлично обеспечат, а с воздуха позаботится генерал Ермаченков… Желаю удачи, Николай Александрович и… Николай Васильевич. Какое совпадение! Сразу два Николая. Добрый знак! Николай-то Мирликийский всегда был добрым хранителем моряков. А тут сразу два Николая! Мы с Шагаевым от вас далеко не отстанем. Машиной выезжаем, как только справимся со всеми делами. Но на Таманском полуострове наш старший начальник – командующий фронтом. Ваш начальник и мой начальник.
У дверей, предупредительно раскрытых адъютантом, адмирал задержался:
– Вот память… Чуть было не забыл! Насчет ваших семей…
У Батракова сразу вспыхнули уши.
– Что с семьями?
– Ничего худого, Николай Васильевич! Просто мы втихомолку от вас договорились с Военным советом и решили ваши семьи выписать в Геленджик. Поближе к вам…
– В Геленджик? – Букреев удивленно посмотрел на Мещерякова.
– Здесь скоро будет вполне безопасно, Николай Александрович.
Букрееву стало неловко, так как адмирал мог неправильно понять его удивление.
– Я не насчет безопасности семьи, товарищ адмирал. Хотя это тоже важно. Но моя семья очень далеко отсюда.
– В Самарканде. Знаем и улицу, и номер дома.
– Им будет трудно самим выехать оттуда, так же как семье Батракова из Кировской области. У нас детворы много…
– Моя жена сама выедет отлично, – обрадованно перебил Батраков, – выедет! Ко мне выедет хоть на край света!
– А все же мы направим за ними людей, – сказал Мещеряков, улыбнувшись. – В Кировскую область поедут моряки-вятичи, побывают и у себя дома и привезут «батрачат». А в Самарканд мы решили направить Хайдара.
– Хайдара? Вы знаете Хайдара, товарищ адмирал?
– О, вы, по всему видно, Букреев, плохого мнения о нас! – Мещеряков указал на себя и смеющегося Шагаева, стоящего рядом с ним. – Хайдара, кстати, обнаружил товарищ Шагаев. Ему же принадлежит инициатива вызова сюда ваших семей… Ну, спешите. Еще раз желаю удачи на переходе. В Тамани встретимся.
Букреев и Батраков молча сели в машину и ехали, не проронив ни слова, почти до самого порта. Подъехав к порту, они всматривались в крестовины мачт сторожевых кораблей, подходивших к причалам. Звенягин привел свой дивизион, и порт как бы проснулся. Вспыхивали фонарики, освещая то часовых с автоматами на груди, то конную бричку с высокими колесами, заваленную клеймеными мешками с мукой, то моряков в высоких сапогах и кожаных костюмах.
Когда снова пошли безжизненные улицы, голые деревья и черные кусты, Батраков приник к уху Букреева и громко сказал:
– Умница адмирал-то, а? Теперь надо воевать хорошо, чтобы вернуться.