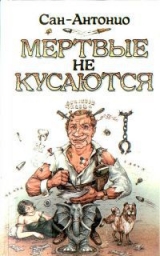
Текст книги "Мертвые не кусаються"
Автор книги: Антонио Сан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
– Попросите ее присоединиться к нам.
– Спасибо, но она не сможет, потому что занимается моим маленьким племянником, виконтом Антуаном, очаровательным крошкой, которого она привезла погреть на солнышке.
Алонсо наливает выпивку. С какого-то момента у него появился мечтательный вид. Воспользовавшись тем, что «обе» дамы о чем-то говорят между собой, аббат отводит меня в сторонку.
– Браво, – шепчет она. – Вы не теряете времени!
– Фирма веников не вяжет, господин аббат. Но скажите мне, не потомок ли вы де-Фреголи? В каком обличьи появитесь вы в следующий раз? Пожарного, летчика, шерифа, церковного стражника?
– Голой! – томно бросает мне Ева, обдавая взглядом, прохватывающим меня до копилки в плавках.
– Хочешь, я скажу тебе, Александр-Бенуа? Хочешь?
– Ты уже говорила! – вздыхает Толстяк.
– Тогда хочешь, повторю?
– Ты уже повторяла, Берти. По меньшей мере сто раз, и я уже наслушался!
– Мне нужно, чтобы ты выучил наизусть! Чтобы ты понял, что ты не мужик! Вот! Ни хрена у тебя в штанах! Ветер, лазурь, облако!
– Послушай, Берта, ты не имеешь права бросать такое человеку, который дает тебе прикурить так, как это делаю я! Два раза в день! Каникулярный режим! Утренняя разминка и послеобеденные шалости во время сиесты! Если у меня ни хрена в штанах, иди и поищи у Грека, что ехал через реку!
– Нечего хвастать, кусок обалдуя! Ничего не имею против твоих кроличьих набегов. Прежде всего, когда я говорю, что ты не мужик, я имею в виду не твою ширинку, а трусливую манеру поведения! Не возражай, Александр-Бенуа! Легавый моей задницы, это я тебе точно говорю! Сидеть тут, сложа руки, когда неизвестно что сталось с Мари-Мари, да у меня кровь кипит! Тошно на тебя смотреть, это хуже поноса от обжорства потрохами. Даже не оторвать задницу, чтобы предупредить здешних фараонов! Может, испанские ищейки не такие ублюдки, как ты! Если ты уперся, я сама пойду в комиссариат.
– Не бери в голову, Козочка, этим занимается Сан-Антонио.
– Хочешь, я скажу тебе про твое Сантонио?
– Нет, не надо, это же друг!
– Ах-ах-ха! Таких друзей полно, как собак нерезаных! Широкая пасть, бархатный взгляд и полная бездарность, зуав вонючий! И как это его вообще комиссаром сделали? Что-то тут нечисто! Держу пари, что он фармазон или педик! А может быть, жид пархатый. Ты можешь поручиться, что он не еврей? А, я знаю: он голлист! Его нахальная широкая пасть маскирует страх как бы не обоср…ся! Он вас провоцирует на критиканство властей, чтобы вы раскололись! А сам втихаря стучит на вас! Двуличник! Вот вас однажды выкинут и это будет из-за него. Осведомитель! Да от него прет предательством! Скажи-ка, ведь этот семейный отдых – фальшивка? Наверняка задумана какая-нибудь гадость, а? Только страдает-то кто? Моя племянница. И я помираю от страха и печали, потому что Мари-Мари МОЯ племянница. Из-за кого! Из-за этого апостола зла! Этого пидара-любовника! Этого бессердечного ничтожества! Думаешь, он там озабочен моей племянницей? Ее могут угробить, расчленить, изнасиловать! Чем больше ее будут пытать, мою бежняжку, тем больше твое дерьмо Сантонио обслюнявится от удовольствия. Хочешь, скажу тебе почему, Александр-Бенуа, очень хочешь?
– Если ты это скажешь, я тебе пасть расквашу, корова толстая!
– Потому что он садист! – рявкает Китиха.
– Посмей только это повторить, Берта, – тянет тусклый голос Мастарда.
– Он садист! – повторяет она храбро.
Тишина противоборства характеров. Затем раздается опустошенный голос Толстителя.
– Знаешь, Берта, что я тебе скажу?
– Скажи.
– Ты несправедлива.
– Ах, вот как! Я несправедлива! Меня усыпляют до потери сознания, похищают единственную племянницу и хотят, чтобы я еще веселилась. Чтобы я попросила еще! Эти два хрена легавых, морды нализавшиеся, ждут доброго желания киднапера, а я, вот, несправедлив! Знаешь, что я тебе скажу, Берю?
– Ты уже достаточно вывалила дерьма, Толстуха!
– Я начинаю понимать игру вашей парочки!
– Ах, вот как!
– Официально заявляю! И знаешь, что я тебе скажу?
– Давай, выкладывай: перевернутая бадья должна быть пустой!
– Я теперь ясно вижу, к чему вы оба клоните!
– Это ты уже говорила. Теперь спой, пташечка, для разнообразия. Что ты там видишь, толстая дура?
– Вы оба педики, ты и он! Два злобных извращенца, которые нафаршировываются по очереди. Это неизбежно! Ясно автоматически. По-другому я объяснить ваше поведение не могу! Ты скурвился, Александр-Бенуа! Стал жертвой его происков! Твои мозги расплавились, простофиля!
– Знаешь, что я тебе скажу, Берта? Плевать мне на твои инсинуации. У меня есть свои мысли на наш счет, Сан-А и мой. Я даже не злюсь, напротив, мне смешно. Смори: ха! ха! ха!
Звук пощечины прерывает фальшивое веселье моего Друга.
Непродолжительная тишина.
Затем Берю:
– А, нет, я восстаю, только не это! Ты посмела дать пощечину мужчине, Берта! Ты позволила себе!
Еще одна, более звонкая, чем предыдущая.
– Вот доказательство! – провозглашает Берта, запыхавшись от усилий. – Никогда не позволю тебе быть ублюдком, в то время как племянница похищена! Подожди, Александр-Бенуа, вернемся в Париж, и ты будешь присутствовать на разводе века.
– Развод! Чей развод? – мямлит Несчастный.
– Наш! Он будет огромным, как дом! У меня появилось желание начать новую жизнь, господин Берюрье! Столько лет провести замужем за педерастом, нет уж, спасибо! Хватит! Жизнь с бессердечным типом, у которого на глазах уволакивают племянницу, а он и пальцем не пошевелит – настоящая пытка! Стоп, достаточно! Вернемся – я бегу к адвокату.
Слоновий рев. Глухой удар. Крик.
– А вот это, куда прилетело, шлюха? Прямо в рыло, не так ли? А вот и другой, сюда! Не хуже центра нападения сборной команды, чертова толстая паскудина? Подожди, я сейчас еще приложу по-своему. По крайней мере ты будешь знать, почему разводишься, дура набитая!
Мне кажется, наступил момент для диверсии. Толкаю приоткрытую дверь, за которой стоял, как за рвом в зоопарке, который отделяет парочку животных с плохо изученным нравом.
Искусство жить составляет в том числе умение не злоупотреблять скабрезными зрелищами. Человек обязан раскапывать залежи своего персоналитэ, но стараться не переходить границ, ибо иначе никогда не отчистить дерьмо с подошв.
– Привет, влюбленные! – бросаю я жизнерадостно. – Можно войти?
Берта валяется поперек канапэ. Толстяк, фиолетовее епископской сутаны,[14] прогнулся для новой подачи. Мое вторжение привносит кислород в комнату, пропахшую миазмами.
– О, мы как раз говорили о тебе, – бормочет наш холерик. – Берта вежливо уговаривала меня сообщить здешним легавым о похищении Мари-Мари.
– Ничего нового?
– Нет, приятель. Черная дыра. Маэстро не объявлялся. Знаешь, меня беспокоит, что он замышляет? С таким преступным убийцей, как он, можно всего ожидать.
Я качаю головой.
– Какой ему интерес делать что-то плохое Мари-Мари?
– Только для того, чтобы ей было больно. Комарик-то наш резвый.
– Да брось ты: это для него козырь, чтобы сыграть в нужный момент.
Китиха, на которую мы не обращали внимания в начале этого любезного разговора, поднимается и начинает метаться по комнате с безумством свиньи, ищущей корыто.
– Что ты ищешь, любовь всей жизни моей? – беспокоится наш Приветливый.
– Чего-нибудь, – отвечает она с отсутствующей интонацией.
Она его находит.
Речь идет о ручке для подъема пластинчатой шторы (и для опускания, соответственно). Она складная с длинной металлической трубкой, верхний конец которой приделан к блоку.
– Ты на рыбалку собралась? – дурачится Александрович-Бенито.
– Получай, Сифилитик! – взревывает вдруг фурия, обрушивая стальную трубку на череп своего мучителя.
У Берю было время слегка отклониться. Он принимает не меньшую часть ручки на толстый хрюкальник, который взрывается, как помидор, запущенный с Марса. Кровушка Мастарда щедро орошает окрестности.
Честно говоря, в хозяйстве что-то немного не ладится. Берюрьевская парочка переживает один из тех несколько скрипучих периодов, которые придают ореол холостячеству.
– Постойте, – восклицаю я. – Вы с ума сошли, Берта!
Хочу вырвать орудие, весомость и форма которого в сочетании с Бертовским ражем кажутся мне опасными. В этот миг (как говорят всегда в моих книгах) сильный резкий голос произносит:
– Альто де манос!
Что в переводе с испанского более или менее означает «Руки вверх».
Это перехватывает дыхание всем нам троим.
Бросаем взгляд в сторону двери и видим двух брюнетистых типов в серых костюмах в клеточку, весьма вежливо держащих шляпы в левых руках и револьверы в правых, как и рекомендовано правилами хорошего тона на Тенерифе.
– Я сказал: «Руки вверх!» – повторяет один из них на плохом английском-уровня-испанской-средней-школы.
И поскольку мы, изумленные, не двигаемся, его товарищ повторяет:
– Он сказал: «Руки вверх»!
На немецком-турвариант-школа-для-служащих-гостиниц-на-Канарах.
– Не могли бы вы повторить на французском? – вздыхаю я. – Мои друзья не говорят на других языках.
– Можно, – уверяет первый из двух неуместных. И бросает парочке крупнорогатых.
– Ле манос вверх!
С этого момента мы повинуемся (повиновение – основа всех достоинств).
Дуэтик тот еще. Забавный тандем. С первого взгляда можно сказать артисты мюзикхолла. Что-то от акробатов-велосипедистов. Но со второго взгляда, как говорит мой друг Лиссак, усекаешь, что это легавые.
Гишпанские, живописные, в слишком очевидных шмотках, пахнущие горелым растительным маслом и косметикой, но фараоны с головы до пят и при исполнении.
Даже возраста примерно одного и того же.
Прямо как братья. Ей-богу, они похожи.
Не антипатичны, скорее напротив. Наверное, торговали дровами до того, как были приняты на псарню.
– Полиция? – спрашиваю я.
– Да.
– Мы тоже, – рокочу я. – Рады познакомиться, коллеги.
И протягиваю им открытую массивную руку.
– Не опускайте руки! – квакает резко тот, который не другой.
Ее темный глаз недружественен.
– Чему обязаны удовольствием видеть вас, господа?
– Сейчас узнаете.
Он указывает на окровавленного Берю и Толстительницу, вооруженную рукояткой:
– Вы дрались?
– Вовсе нет! Мы репетировали пьесу, которую должны играть на празднике полиции 22 числа следующего месяца. Шедевр под названием «Молока не будет, но свистеть можно», неизвестный опус Жюля Мориака, продолжение его драмы «Рука в салатнице, или Мемуары полицейского-вегетарианца», разве она вам не известна?
Он буравит нас взглядом более трех секунд, а его глаза сходятся, как отверстия стволов ружья.
Он бросает шляпу на ближайший стул и вытаскивает желтоватую мятую карточку из кармана.
– Вот, полиция! – говорит он, ибо желает дать доказательства. – Теперь станьте лицом к стене все трое. Обопритесь руками о стену и отодвиньте ноги.
Хочу возразить, но он резко прерывает меня, бросая «Исполнять!» тоном, который заставляет циркового льва прыгать через горячий обруч.
Повинуемся, стало быть.
– Отодвиньте ноги дальше!
Мы вынуждены прогибаться и упираться, чтобы не воткнуться мордами в стену.
Тот, который показывал удостоверение, устраивается верхом на стуле. Руки на спинке. Ствол оружия направлен на нас. Его приятель, напротив, убирает шприц и начинает обыскивать комнату.
Он быстр, точен, целенаправлен. Явно эксперт. Для начала он вытягивает пустые чемоданы Берюрье из стенного шкафа и бросает их на кровать. Потом ловко их исследует: одна ладонь внутри, другая снаружи и параллельно, исследуя толщину стенок.
– Что это значит? – бормочет Берю, едва оклемавшись от общения с ручкой.
– Еще один трюк нашего друга, чтобы сунуть палку в колеса! Он заявил на нас в здешнюю псарню!
– Но заявил о чем?
– Тихо! – рявкает наш страж.
Затыкаемся. Зачем нервировать этих господ?
Проходит какое-то время. Ощущаем только точные и быстрые движения обыскивающего. Вдруг, когда он обыскивает саквояж, купленный на дешевой распродаже, он испускает змеиное «тс-с», «тс-с».
– Есть? – бросает его товарищ.
– Есть! – отвечает другой, вынимая из кармана опасную бритву.
«Ш-ш-ширк».
– Моя сумка, банда вандалов! – орет Мастард.
Он дергается, чтобы устремиться на помощь своему багажу, которому грозит опасность.
– Не двигаться! – вопит наш надзиратель, направляя карманный ингалятор на спинищу Пузыря.
– Стой спокойно, Толстый! – уговариваю я.
В любом случае вмешательство уже не поможет, ибо сумка вспорота, как кролик на разделке.
Легкий свист бритвы.
Смотрим, выворачивая шеи. Тот улыбается.
Складывает свой карандашик.
Убирает.
Его пальцы лезут в образовавшуюся щель и вытягивают плоский полотняный пакет не толще галеты. Зубами легавый (вот псина) перегрызает толстую нить, которой зашит край пакета. Сует палец в отверстие, как врач проверяет наличие аппендицита. Его грязный палец становится белым от порошка. Пробует.
– Понятно, вот мы и с тайным грузом, – бормочу я. – Чтобы выбраться из такого дерьма, надо надувную резиновую лодку, пару крепких весел и современный компас!
Ва одиннадцать
Три дня, братишки!
И, самое главное, три ночи!
Без известий, без посещений, без собеседников, за исключением тюремщика – полуидиота, глухонемого на всю катушку, который приносит мне жратву.
Я вопил.
Я стучал.
Угрожал, громыхал, рыдал, умолял, обещал, предупреждал, ломал, царапал, полыхал.
Напрасно.
Трата времени.
Единственный ответ: ватная тишина тюрьмы Санта-Круз, куда двое легавых в костюмах в клеточку, как окно моей камеры, доставили нас, сковав наручниками.
Допрос по установлению личности лысым желтым типом, дыхание которого пахло общественным туалетом. Наши фараонские фитюльки не произвели впечатления на этого функционера. Весь надменный, он не доволен бытием и видом блестящего заснеженного пика Теиде.
Я потребовал разговора по телефону с шефом в Париже. Он отказал простым движением головы, будто бродяге, который потребовал икры в меню ресторана на обочине пыльной грунтовки.
Они нашли килограмм чистого героина в сумке Берю и тысячу граммов в одном из моих чемоданов. Фелицию не забрали только потому, что не с кем было оставить Антуана и что, откровенно говоря, столь респектабельная дама, как маман, внушает уважение.
Она была в шоке, моя старушка.
– Но, Антуан, что это значит? Я же сама собирала этот чемодан…
– Не беспокойся, наседушка: один мерзавец решил подставить нас, но никаких последствий не будет…
Сейчас я начинаю думать, не слишком ли сгустил сироп оптимизма.
Три дня, три ночи!
Коварнее, чем лис, Маэстро.
Сожалею, вспоминая, что забыл попросить матушку предупредить Старика. Я так старался успокоить ее, казаться беззаботным, что нужная идея даже не возникла.
Теперь изображаю бабочку в камере. Жара тут, как в аду, ибо камера находится на самом верху здания.
Скучаю, зверею, извергаюсь.
Рогоносец века, ягнатки мои!
Как он поимел нас, Мартин! Настоящий мастер! Усыпил, уволок малышку, исчез. Да еще устроил, чтобы нас заграбастали бурдюки. Грязное дело, так как, поверьте, в стране Каудильо не шутят с допингом! Если обойдемся пятью кусками на рыло, то только при условии, что Старик призовет небо, землю и все остальное вокруг для смягчения ситуации.
Антинаркотические меры введены в действие Евросодружеством повсеместно и Франция тут в первых рядах. Так насобачились вынюхивать, что на таможне даже листают паспорта на предмет не спрятаны ли между страницами или в переплете пакетики.
Моя камера – это вам не звездочный отель. Она смердит дерьмом и засохшими тараканами. Стены серые, как у бутафорской камеры на сцене театра. На стенах такие же росписи, как у нас, только на эспаго. Когда человек протестует, он пишет на стенах. Народ выражает свой гнев с помощью острого камешка на гладкой плите. И остается ужасно преданным этому атавизму.
Бросаю взгляд на деревянные нары, украшенные тоненьким соломенным тюфяком. Мне кажется, что я вижу прогуливающихся насекомых. Канарские вши, по-моему, я не ошибаюсь, расторопнее континентальных. Более предприимчивы. У них душа идальго, право слово! Решительные. Исследуют тебя везде, глубоко, вдоль и поперек.
Как-то там чета Берю переносит заключение? Толстительница собиралась разводиться, а вот теперь-то они фактически сидят по отдельности! Что-то вроде репетиции.
И маман совсем одна в гостинице «Святой Николас».
Ну, скажем, почти, ибо Антуан, хоть еще и не отслужил в армии, но все-таки уже обозначает свое существование. Однако больше всего мне свихивает черепушку дельце у Нино-Кламар сегодня вечером. И еще Мари-Мари, я уже задаю себе вопрос, зачем она была умыкнута Маэстро. Поскольку он уже уделал нас трюком с порошком, я не просекаю, зачем ему похищать девчушку, более липучую, чем тысяча рулонов липучки для мух.
Все это обрывки разочарований. Раздерганные мысли, понимаете. Которые никак не связываются. Отдельные элементы сохраняют автономию: невозможно «выжать» сок.
Когда надоедает расхаживать по этому мрачному замкнутому пространству, присаживаюсь на скамейку. Единственную в моей камере. Колченогую и шершавую. Можно легко засадить занозу в задницу. Попробуй ее потом оттуда вытащить без зеркала. Или это должен сделать кто-то другой, извне. Зеркала, кстати, тоже нет. Если бы было, я мог бы от отчаяния разбить его и схлопотать семь лет несчастий. А так мои шансы еще нетронуты.
Жирное, синевато-черное насекомое ползет по стене. Стаскиваю чебот, чтобы переломать ему ребра, но в последнюю секунду останавливаюсь. Зачем отбирать жизнь у этого животного? Оно меня не знает. Даже учит меня, как жить свободно в тюрьме. Надо сделать усилие и быть, как оно. Чувствовать себя свободным взаперти – особое умение, не так ли? Вопрос выбора ощущений. На воле или в неволе – все равно конец-то один.
Звук шагов. Стража в слишком больших для них и заношенных до предела казенных шмотках. Истинно для бутафорской комедии.
Надевают мне наручники и ведут.
Наконец-то что-то новенькое. Человеческий контакт. Я смогу говорить. Это человеческая слабость: невозможно долго не разговаривать. Нужно квакать, чтобы ощущать, что существуешь, что соответствуешь основной своей идее.
Эти господа направляют стопы вдоль коридора с древнеримским сводом. Тюрьма в древности, наверное, была монастырем. Пол вымощен широкой плиткой. Звуки здесь набирают объем и силу. Начнешь петь – будет ощущение, что у тебя голос Карузо.
Спускаемся на нижний этаж по широкой лестнице, деревянные балясины которой заставили бы мечтать по меньшей мере десяток известных мне антикваров.
Дверь в мелкую шашечку. Один из стражников стучит, и ему кричат войти. Меня вталкивают в большую комнату, измызганную до известки во время службы. В центре, как трон, огромный стол размерами больше двух пинг-понговых. Он стонет под бумаженциями. Их тут целые горы! Я не ропщу на метафору, а? Смелость, еще и всегда. Вашего Сан-А никогда не застать на месте преступления с банальностью!
Вдоль одной стены шкафы в стиле позднего христианства. Напротив Христос в натуральную величину, распятый на кресте. Голова набок, сам в агонии. Красивая комната конца шестнадцатого века. Меблировка и декор только испанские. Какая страна!
Одетый в черное сутулый человек с длинными белыми волосами перелистывает досье. Он не поднимает глаз, когда меня вводят. Один из стражников знаком велит мне сесть в черное кожаное кресло. Поднимаю скованные руки жестом, заимствованным у наших собственных заключенных. Но, против всех ожиданий, с меня не снимают моих висюлек. Стражники удаляются. Человек в черном продолжает играть со своими папками. Слышно только шуршание перелистываемых страниц. Через какое-то время из-за моей спины долетает что-то вроде вздоха. Это производит на меня действие электрического тока, ибо я думал, что я один с моим визави. Я не заметил типа сзади меня справа от двери. Большой амбал, блондинно-рыжий, не скажу, что с брюхом, но с желудком. Вроде мяча для регби выше пояса. На нем мятый костюмец, рубаха в сине-красную клетку, незастегнутая сверху, и он чавкает жвачку в знак подтверждения, что он американец.
Я улыбаюсь ему, но он продолжает рассматривать меня, как стекло между ним и старыми добрыми временами.
Текут минуты. Война нервов или что? Меня «готовят»?
Решаю играть в ту же игру и думать, ожидая, о чем-нибудь постороннем. Спрашиваю себя: сколько ступенек надо пройти от моего кабинета до бюро Старика? Стараюсь воссоздать мои обычные движения. Получается плохо. Решаю, что ступенек всего семнадцать. Надо будет проверить, когда вернусь. Перво-наперво сосчитаю ступени. Но когда я вернусь?
Беловолосый поднимает, наконец, голову. Смотрите-ка: он косой. Шустренько седлает свой нос очками в большой черепаховой оправе. Разглядывает меня.
– Я судья Пасопаратабако, назначенный расследовать ваше дело, – сообщает он мне.
Делаю голос медовым, а взгляд бархатным.
– Мое почтение, господин судья. Дело-то самое простое. Я жертва махинации. Прибыл на Тенерифе для слежки за действиями одного подозреваемого, но тот решил парализовать мои действия и преуспел. Слава Богу, моя репутация незапятнана, и в Париже сам министр внутренних дел лично подтвердит мою честность. Я…
Судья Пасопаратабако прерывает меня нервным жестом правой руки. Он выбрасывает ее в мою сторону, прямо как для фашистского приветствия!
Затыкаюсь и преобразую взгляд в два вопросительных знака.
Тогда он возвращает руку обратно, чтобы пошарить в бумажонках. Выбирает лист и начинает медленно его читать, прекрасно артикулируя.
«Я, нижеподписавшийся, Берюрье Александр-Бенуа, француз, место рождения Сент-Локдю-Левье…»
У меня, ребята, головокружение. Патологическое оцепенение, а также логипатическое. Судья Пасопаратабако становится похож на готическую химеру. Слова льются из его пасти, как жидкость, понятно вам? Мне тоже, что доказывает, что я такой же тупарь, как и вы, когда я серьезен.
«…признаюсь в тайном ввозе на испанскую территорию одного килограмма героина, который я должен был передать одному человеку, чье имя назвать отказываюсь. Этот героин был вручен мне в марсельской лаборатории, название которой я также не намерен сообщить. Я действовал вместе с моим начальником комиссаром Сан-Антонио. Мы возим наркотики за границу не впервые. Нам, как офицерам полиции, это не составляло трудностей…»
Неожиданно меня осеняет предчувствие. У Сантонио есть нюх. Способность предвосхищать события до того, как они произойдут. Но мне от этого не легче.
Судья продолжает читать. Но остальное – это уже юридическая литература.
Когда мой собеседник заканчивает отрывок, важность которого никто из присутствующих не будет отрицать, он поднимается, обходит стол и показывает мне подпись, венчающую документ.
– Вы узнаете подпись инспектора Берюрье?
– Да, – отзывается Болвантонио блеклым голосом.
Удовлетворенный, судья возвращается на свое место.
– Что вы можете заявить?
– Что инспектор Берюрье был в состоянии наркоопьянения, когда он подписал такое признание, – вздыхает Сан-Турканный. – Потому что даже под пытками он не подписал бы этого.
– Вы признаете, значит, что он наркоман? – атакует Пасопаратабако.
Ну вот, только этого не хватало! Настроение бодрое, иду ко дну, мои чокнутые! С тысячью тонн свинца, привязанной к копытам.
– Я сказал, что его напичкали наркотиками! Мы невиновны! Мы никогда не были гонцами наркосети, наоборот, мы гонялись за гонцами. Наша карьера говорит сама за себя. Никаких выговоров, только благодарности.
Недоверчивый и презирающий взгляд чиновника ясно показывает, что он думает о моих протестах. Малый, застигнутый с бабцом ее собственным мужем в процессе, имел бы больше шансов убедить последнего, что он тут для ремонта телеящика.
Неожиданно, пока я сюсюкаю о своих профессиональных достоинствах, Пасопаратабако встает, как если бы вчерашняя пища заиграла у него в животе, и покидает кабинет с таким видом, будто хочет сменить его на другой, более прозаический.
Готов поставить большую машину против вашей маленькой машинки, что уход этот преднамеренный. Действительно, не успела дверь захлопнуться за ним, американец поднимается и подходит ко мне. Садится на край стола лицом к вашему слуге, отодвинув локтем кубометр бумажек.
– Хелло, – громыхает он. – Гнусный момент для вас, а?
– Скорее да, – соглашаюсь я. – Когда я читал «Знаменитые судейские ошибки», всегда создавалось впечатление, что это вранье, но теперь убеждаюсь, что они существуют.
Он качает головой. У него нет такой агрессивной недоверчивости. Он довольствуется простым неверием без видимого оскорбления моей беспардонной ложью.
– Я из бюро по борьбе с наркотиками, – говорит он между двумя энергичными чавканьями.
– На отдыхе? – шучу я.
– Хм, это будет зависеть от вас, старина. Если вы выложите свои связи, я, может быть, отдохну три-четыре дня перед возвращением в Вашингтон.
«Эскапада – это всегда хорошее дело, тем более что в нашей гостинице есть группа миленьких немочек, подолы юбок которых находятся выше пояса…»
Пронзаю его взглядом, как если бы я был американским орлом на двадцатидолларовой монете:
– Представьте, коллега, что в данный момент какой-нибудь мелкий хитрец раззявил ваши чемоданы и засунул туда порошочек, затем стучит полиции, которая проверяет, находит и заграбастывает вас.
– Ну и что?
– Предположите, говорю я вам, возможно это или нет?
– Ну и что?
– А то, милый друг, что именно это и произошло со мной. Больше прибавить нечего, потому что к истине ни убавить, ни прибавить, ю си?
– Вы слышали показания вашего приятеля?
– Не верю ни единому слову. Он свихнулся в тот момент.
– Вы предполагаете, что здешний следователь напичкал его наркотиками перед дачей показаний?
Делаю гримасу.
– Все ж таки нет.
– Нет, а? Все ж таки нет? Тогда гоните вашу версию, я на приеме.
Умолкаю, подавленный альтернативой.
Хорошо сработана эта подлая подставка.
– Кажется, дела у вас хреновые, – бормочет американец, перегоняя жвачку на другую сторону.
Он вроде бы продолжает говорить, но будто чья-то шутливая рука перекрыла звук. Риканцы не чавкают свой Данлоп на тот же фасон, как другие народы. У них работа медленная, спорадическая. Несколько небольших движений челюстью время от времени, как жвачные животные. И это сказывается. Каучуковые шарики амортизируют их мозги.
– Совсем хреновые, – соглашаюсь я, инспектируя горизонт и не находя ничего в виду. – К чему было становиться одним из первых фараонов, если какой-то злой шутник может угробить тебя путем самой грубой фальсификации? Послушайте, старина.
– Вам бы так говорить, как я слушаю: я здесь для этого!
– Допуская, что полицейский с моей репутацией решил заняться наркотиками, думаете ли вы серьезно, что я удовлетворился бы только двумя кило зараз?
– Ну, при той цене…
– Именно, при той цене, как она есть, пакеты были бы значительно большими! Вы забыли еще одну вещь: меня послал сюда мой начальник. Он это подтвердит. Вы подозреваете высшего чина парижской полиции в принадлежности к «Французской связи»?[15]
Его молчание злит меня. Понимаете, что означает молчание этой заразы, замаскированной под зуава? Что с французами все возможно!
Он вытаскивает изо рта свою жвачку и давит ее о ребро стола, затем разворачивает обертку новой пачки и начинает с наслаждением смаковать новую порцию.
– Знаете, что, старина?
– Что, – выдыхаю я с таким жалостным видом, что вы сразу бы купили мне полбутылки красного.
– Что бы вы ни говорили, ничего не изменит вашего положения. Ваш коллега признался. Его признание обеспечивает вам омерзительное будущее на тюремной подстилке, точно?
– Точно.
– Я хотел бы, чтобы вы осознали эту очевидность, старина. Именно! Вы понимаете?
Почему, вдруг, у меня возникает предчувствие чего-то? В начале нашего разговора он потребовал у меня имя «связного». Затем больше ничего… И, кажется, не собирается возвращаться к этому вопросу, для него, между тем, важнейшему.
Если только он не задал его для завязки разговора. Слишком быстро переключился исключительно на безнадежность моего положения.
– Мне еще не все ясно, – замечаю я, – но только от вас зависит засветить мою лампаду.
У него удовлетворенная улыбка.
Затем он вынимает плоский ключ и отпирает наручники. Он их не снимает, а просто не защелкивает их до конца так, что я могу в любой момент освободиться.
Сделав это, он вытаскивает пистолет из кобуры, проверяет обойму, вставляет ее опять на место ударом ладони эксперта.
«Шлепнет сейчас, – думаю я. – Скажет потом, что я собирался удрать…»
Сжимаюсь. Но мои предположения не сбываются. Амерлок приподымает полу моего пиджака и сует ствол пистолета мне за пояс.
– Удачи, парень! – бормочет он.
У меня нет времени на ответ. Он уже открывает дверь.
– Ничего! Крепкий орешек! – бросает он судье, который ждал в коридоре.
И он исчезает.
Любите вы сказочки?
Вот и я тоже не люблю: я, увы, уже вышел из такого возраста.
Ва двенадцать
Более чем любопытная штука: судья Пасопаратабако, кажется, вздохнул с облегчением после ухода американского сыщика. Думаю, что это вторжение из наркошараги ему навязали сверху, он же предпочитает, чтобы его оставили в покое.
Одновременно с насиженным местом наш гишпанский чиновник вновь обретает и душевное равновесие, которого раньше я не замечал. Он достает из стенного шкафа выпивку, заполняет шлюзы, приглаживает волосы, вновь садится, поправляя сбившийся узел галстука. После чего нажимает три раза на кнопку, вызывающую звонок столь близкий, что я воспринимаю этот тембр, будто возникающий из ящика, расположенного в моем брючном кармане.
Период уважительной тишины. Пасопаратабако ковыряет в ухе ногтем, слишком длинным, чтобы быть ухоженным, и помещает результат исследований на край галстука.
Пока он чистит соты, я разглядываю распятие напротив. Я уже вам говорил, что комната очень красива. Размеры распятия впечатляют. Когда у тебя в салоне такая скульптура, возникает мысль, что твой налоговый инспектор живет прямо в твоем доме!
Большой пистолет давит мне на хозяйство, как плохо пригнанный пояс целомудрия.
Я никогда его не носил, но могу себе представить. Настолько смелые, насколько и противоречивые мысли обрушиваются с крутых склонов моего интеллекта (одного из самых высоких в Европе[16]). К чему ведет игра амерлошского шпика? Что ему надо? Желает ли он, чтобы я попытался смыться и освободиться при этом от меня насовсем? Или он верит в мою невиновность и, не имея возможности вступиться официально, дает мне шанс вернуться в любимую Францию?
Готов пожертвовать вашим знанием латинского, господа (я же его и совсем не знаю). Меня распирает любопытство. Так же, как и эзоповское признание Берюрье. Скажите-ка, что вы думаете об этой шараде? Налицо какой-то трюк в рукам, не так ли? Такое дельце – это как тысяча пересохших листьев. Откусишь шмат – все рассыпается в пыль тебе же на пузо. Этот убийца в парике, который узнает тебя и не дает ни охнуть, ни вздохнуть. Этот курьер-перевертыш то в виде очаровательного юноши, то в виде аббата… Эта американо-испанская семья, где сегодня вечером должно произойти убийство… И затем эта машина для жевания, великая ищейка из наркобюро, который начинает с требования признания, а кончает освобождением меня из наручников и огнестрельным подарочком, который в пору подложить в рождественский сапог диктатору Дювалье, вот он-то был бы без памяти от радости! Замкнутый круг. Как на площади Каруссель! Начну снова. Берю раскалывается, признает себя виновным, отвратительный заср…ц! Убийца, который, гонец что, американский шпик как… Кружатся пары (как в песне). Сумасшедший круговорот.








