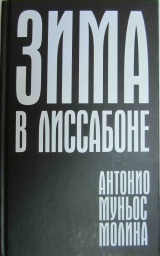
Текст книги "Зима в Лиссабоне"
Автор книги: Антонио Молина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Глава VII
– Посмотри на него, – сказал Биральбо. – Посмотри, как он улыбается.
Я подошел к нему и слегка отодвинул занавеску, чтобы выглянуть на улицу. На противоположном тротуаре неподвижно стоял, возвышаясь над другими прохожими, Туссен Мортон. Он улыбался, будто оценивая все окружающее: мадридский вечер, холод, женщин, спокойно куривших на тротуаре рядом с ним, опершись кто на дорожный знак, кто на стену «Телефоники».
– Он знает, что мы здесь? – Я отошел от балкона: мне показалось, что взгляд Мортона скользнул по мне.
– Конечно, – ответил Биральбо. – Он хочет, чтобы я его видел. Чтобы я знал, что они меня нашли.
– Почему он не поднимется сюда?
– Гордый. Хочет запугать меня. Уже два дня там стоит.
– А секретарши не видно.
– Наверное, послал ее в «Метрополитано». На случай, если я выйду через заднюю дверь. Я его знаю. Он пока что не собирается ловить меня. Пока что только хочет дать понять, что мне от него не скрыться.
– Может, выключить свет?
– Не стоит. Он все равно будет знать, что мы еще здесь.
Биральбо плотно задернул занавески и сел на кровать, не выпуская револьвера из рук. Комната в тусклом свете ночников с каждым новым визитом казалась мне все теснее и темнее. Вдруг зазвонил телефон, аппарат был старый, черный и угловатый, мрачно-похоронного вида. Казалось, он только для того и создан, чтобы сообщать о несчастьях. Телефон стоял у Биральбо под рукой, но он, посмотрев сначала на него, потом на меня, так и не поднял трубку. При каждом звонке я всей душой желал, чтобы он был последним, но секунду спустя телефон снова начинал трезвонить, еще пронзительнее и настойчивее, и казалось, будто мы уже часами слушаем эти звуки. В конце концов трубку поднял я: спросил, кто это, но мне не ответили, а потом раздались резкие, отрывистые гудки. Биральбо продолжал сидеть на кровати: курил, не глядя на меня, и насвистывал какую-то медленную мелодию, выпуская дым изо рта. Я снова высунулся на балкон. На тротуаре перед «Телефоникой» Туссена Мортона больше не было.
– Он вернется, – сказал Биральбо. – Он всегда возвращается.
– Что ему от тебя нужно?
– Что-то, чего у меня нет.
– Пойдешь сегодня в «Метрополитано»?
– Не хочется играть. Позвони за меня. Попроси к телефону Монику и скажи, что я болен.
В комнате было нестерпимо жарко, из кондиционеров дуло горячим воздухом, но Биральбо не снимал пальто – наверное, действительно был болен. В моих воспоминаниях об этих последних днях Биральбо все время в пальто, все время лежит на кровати или курит на балконе за занавесками – правая рука в кармане пальто, – то ли ищет пачку сигарет, то ли сжимает рукоять револьвера. В шкафу у него стояла пара бутылок виски. Мы разливали его в мутные стаканы из ванной и методично опустошали их, не обращая на этот процесс особого внимания и не получая удовольствия. Виски безо льда жег мне губы, но я продолжал пить и почти ничего не говорил, только слушал Биральбо и время от времени поглядывал на противоположный тротуар Гран-Виа, высматривая высокую фигуру Туссена Мортона, и сжимался, спутав с ним в сумерках какого-нибудь чернокожего мужчину, случайно остановившегося на углу. С улицы далекой сиреной до меня долетал страх: ощущение надвигающегося ненастья, одиночества и холодного зимнего ветра, словно ни стены отеля, ни закрытые двери уже не могут защитить меня.
Биральбо не боялся – ему нечего было бояться, потому что его уже не волновало происходящее снаружи, на противоположной стороне улицы, а может, и гораздо ближе: в коридорах отеля, за дверью его комнаты, когда слышались приглушенные шаги, совсем близко кто-то поворачивал в скважине ключ, и в свой номер входил незнакомый и невидимый постоялец, чей кашель звучал потом за стеной. Биральбо часто чистил револьвер с тем же рассеянным вниманием, с каким чистят обувь. Помню название, марку, выбитую на стволе: «Colt trooper 38». Пистолет был так же странно красив, как бывает красив только что наточенный кинжал; в его сверкающей форме ощущался некий намек на нереальность, как будто бы это был не револьвер, который в любой момент может выстрелить и убить, а символ чего-то, смертельный сам по себе, в своей подозрительной неподвижности, такой же, как хранящийся в шкафу флакончик с ядом.
Раньше этот револьвер принадлежал Лукреции. Она привезла его из Берлина, и он стал новым атрибутом ее жизни, как длинные волосы, темные очки и необъяснимая страсть к тайнам и бесконечному бегству. Она вернулась, когда Биральбо уже перестал ждать. Появилась не из прошлого и не из фантастического Берлина, составленного из открыток и писем, а из чистого отсутствия, из пустоты, окутанная какой-то новой сущностью, едва заметной во всегдашнем выражении лица, так же как в произносимых ею словах теперь слышался легкий иностранный акцент. Она вернулась ноябрьским утром: телефонный звонок разбудил Биральбо, поначалу он не узнал голос, потому что забыл его, как забыл, какого в точности цвета у Лукреции глаза.
– В половину второго, – сказала она. – В том баре на набережной. Называется «Чайка». Помнишь?
Биральбо не помнил. Он повесил трубку и уставился на будильник, словно только что проснулся: половина первого, день серый и дважды странный – потому что он не пошел на работу и потому что услышал голос Лукреции, еще свежий, только что возвращенный, почти незнакомый, но не окутанный туманом времени и расстояния, а вполне ощутимый здесь и сейчас. «В половину второго», – сказала она, потом произнесла название бара и легко попрощалась – значит, вернулась в тот мир, где возможны свидания, где, чтобы увидеть любимое лицо, не нужно обращаться к воображению, а достаточно позвонить по телефону и договориться о встрече. С этой минуты время для Сантьяго Биральбо понеслось с доселе невиданной скоростью, отчего он сделался страшно неуклюжим, будто бы играл с музыкантами, за ритмом которых не мог угнаться. Его собственная медлительность передалась и всем окружающим предметам: водогрей в душе не хотел включаться, чистая одежда словно испарилась из шкафа, лифт был занят невозможно долго и полз вверх чуть не целый час, такси не находилось не только поблизости, но и во всем городе, на станции пригородного поезда не было ни души.
Биральбо заметил, что череда мелких неприятностей отвлекала его от Лукреции: за пятнадцать минут до того, как должно было завершиться ее трехлетнее отсутствие, он был занят поисками такси, а его мысли были как никогда далеки от нее. Только сев в такси и назвав адрес, он с содроганием осознал, что Лукреция действительно назначила ему свидание, что скоро он увидит ее перед собой, как видит теперь отражение собственных испуганных глаз в зеркале заднего вида. Но в зеркале он видел не свое лицо, а чье-то чужое, с чертами, несколько странными оттого, что их скоро увидит Лукреция и будет придирчиво разглядывать, ища следы времени, которые он только теперь стал замечать, как будто научившись смотреть на себя ее глазами.
Еще не видя Лукреции, Биральбо был наэлектризован ее незримым присутствием: оно чувствовалось и в спешке, и в страхе, и в ощущении, что растворяешься в скорости такси, как раньше, когда он торопился на свидание, чтобы полчаса тайком поиграть в настоящую жизнь. Он думал о том, что в последние три года время не двигалось, как пространство в ночи, когда едешь по темной, без единого огонька, равнине. Он мерил время письмами от Лукреции, потому что все остальные события небрежная память превращала в плоские фигуры вроде царапин и пятен на стене, которые он пристально рассматривал, когда не мог заснуть. Теперь же, после того как он сел в такси, каждая мелочь становилась исключительной, не способной истончиться с течением времени и исчезнуть в этом властном потоке, который снова можно было мерить минутами и дробить на секунды – их отсчитывали часы на приборной панели перед Биральбо, часы на фасаде церкви, мимо которой он проехал ровно в час двадцать, часы, незаметно, но усердно, как пульс, тикавшие на запястье Лукреции. Вместе с невероятной уверенностью в том, что Лукреция существует, к нему вернулся страх опоздать, показаться ей располневшим, опустившимся, недостойным воспоминаний о ней, обмануть образы ее воображения.
Такси въехало в центр, промчалось по аллеям вдоль берега реки, пересекло Пасео-де-лос-Тамариндос, сырые переулки старого города и вдруг оказалось на морской набережной, перед лицом бескрайнего, серого, сыпавшего дождем неба, которое кое-где прорезали силуэты чаек, кидавшихся в воду с огромной высоты, как самоубийцы. Какой-то мужчина, бесстрастный и одинокий, в темном пальто и надвинутой на глаза шляпе, смотрел на море, словно созерцая конец света. Перед ним, по ту сторону ограды, волны разбивались об острые камни и взлетали в воздух мелкими клочками пены. Биральбо как будто разглядел, что незнакомец прикрывает рукой сигарету от ветра. И подумал: «Этот человек – я».
Бар, где назначила встречу Лукреция, стоял на скалистом, глубоко вдающемся в море утесе. Когда такси поворачивало за угол, Биральбо увидел блеск его окон и вдруг почувствовал, что вся его жизнь умещается в две минуты, оставшиеся до остановки машины. На серых гребешках волн покачивались неподвижные чайки. Увидев их, Биральбо вспомнил о человеке в темном пальто – с птицами его роднило безразличие к надвигающейся катастрофе. Но все это был лишь способ не думать об устрашающей истине – о том, что до встречи с Лукрецией осталось всего несколько секунд. Таксист остановил машину у дорожки и, глядя на Биральбо в зеркало, торжественно объявил: «„Чайка". Приехали».
Несмотря на огромные окна, в «Чайке» царил полумрак – прекрасная атмосфера для тайных встреч, поглощения виски в неурочное время и сдержанного алкоголизма. Автоматические двери бесшумно распахнулись перед Биральбо, и он увидел чистые пустынные столики, накрытые клетчатой скатертью, и длинную стойку, за которой никто не сидел. Сквозь окна был виден остров с маяком, за ним – серая бесконечность скал и воды, а еще дальше – темно-зеленые холмы, утопающие в тумане. Спокойно, будто совсем другой человек, он вспомнил песню – «Stormy weather»[6]6
Букв.: «Штормовая погода» (англ.). Одна из самых известных американских музыкальных композиций (композитор Гарольд Арлен, автор текста Тед Колер), входит в список 100 лучших песен, составленный журналом «Тайм» в 2011 г. Ее исполнителями были такие известные музыканты, как Дюк Эллингтон, Гай Ломбардо, Тед Льюс и др. – При-меч. ред.
[Закрыть]. Эта музыка напоминала о Лукреции.
Он подумал, что опоздал, что перепутал время или место встречи. На фоне далекого морского пейзажа, иногда мутящегося брызгами пены, вырисовывался профиль какой-то женщины, курившей за высоким прозрачным бокалом, не притрагиваясь к нему. У нее были очень длинные волосы, а лицо скрывали темные очки. Она поднялась, сняла их и положила на столик. «Лукреция», – сказал Биральбо, не двинувшись с места: он еще не звал ее, а лишь недоверчиво произнес вслух ее имя.
Я не пытаюсь представить себе все это, не пытаюсь восстановить подробности по рассказам Биральбо. Я вижу все будто издалека, с точностью, которая не имеет отношения ни к воле, ни к памяти. Вижу их медленное объятие через окно «Чайки», в бледном свете полуденного Сан-Себастьяна, как будто в тот момент проходил по набережной и краем глаза заметил мужчину и женщину, обнимавшихся в пустынном кафе. Все это я вижу из будущего, из тревожных пьяных ночей в номере у Биральбо, когда он рассказывал мне о возвращении Лукреции, стараясь смягчать свои слова иронией, которая, впрочем, вдребезги разбивалась о выражение глаз и револьвер, лежавший на ночном столике.
Обняв Лукрецию, Биральбо ощутил, что волосы у нее пахнут по-иному, чем раньше. Он отступил на шаг, чтобы лучше рассмотреть ее, и увидел перед собой вовсе не то лицо, которое три года подряд безуспешно пытался вызвать в памяти, и не те глаза, цвет которых он и сейчас не мог точно описать, а чистую несомненность времени: Лукреция стала гораздо тоньше, а копна темных волос и усталая бледность скул сделали ее черты острее. Лицо человека – это предзнаменование, которое в конце концов всегда сбывается. Лицо Лукреции показалось Биральбо еще более незнакомым и прекрасным, чем когда-либо, потому что в нем сквозила цельность, которая три года назад едва намечалась, а теперь, проявившись, подстегнула любовь Биральбо. В прежние времена Лукреция носила одежду ярких цветов и волосы до плеч. Теперь на ней были узкие черные брюки, подчеркивавшие хрупкость фигуры, и короткая серая куртка. Теперь она курила американские сигареты и пила быстрее Биральбо, опустошая стаканы с мужской решительностью. Она смотрела на мир сквозь темные стекла очков и рассмеялась, когда Биральбо спросил, что означает слово «Burma». «Ничего, – ответила она, – просто местечко в Лиссабоне». Она написала письмо на обороте этой ксерокопированной карты, потому что ей захотелось написать, а другой бумаги под рукой не нашлось.
– И с тех пор тебе больше писать не хотелось, – сказал Биральбо, улыбкой пытаясь смягчить бесполезную жалобу и укор, которые и сам слышал у себя в голосе.
– Хотелось. Каждый день. – Лукреция откинула волосы назад и не давала им упасть, подперев голову руками у висков. – Каждый день и каждый час я только и думала, как бы написать тебе. И писала – правда, только мысленно. Я рассказывала тебе обо всем, что со мной происходило. Обо всем, даже о самом плохом. Даже о том, о чем я и сама не хотела бы знать. Но ты ведь тоже перестал писать мне…
– После того, как мое письмо вернулось назад.
– Я уехала из Берлина.
– В январе?
– Откуда ты знаешь? – Лукреция улыбнулась. Она крутила в руках то незажженную сигарету, то очки. Во взгляде ее внимательных глаз расстояние было осязаемее и серее, чем в городе, раскиданном на берегу бухты и по холмам в тумане.
– Тогда тебя видел Билли Сван. Вспомни.
– Все-то ты помнишь!.. Меня всегда пугала твоя память.
– Ты не писала мне, что думаешь уйти от Малькольма.
– Я и не думала уходить. Просто однажды утром проснулась и ушла. А он до сих пор не может в это поверить.
– Он все еще в Берлине?
– Думаю, да. – В глазах Лукреции появилась решимость, которую впервые не могли поколебать ни сомнение, ни страх. «Ни жалость», – подумал Биральбо. – Но я о нем с тех пор ничего не слышала.
– И куда ты поехала? – Биральбо было страшно задавать вопросы. Он чувствовал, что скоро достигнет предела, дальше которого пойти не решится. Лукреция молчала, не пытаясь скрыться от его взгляда; она умела отвечать отрицательно, не произнося ни звука и не качая головой, просто пристально посмотрев в лицо.
– Мне хотелось уехать куда угодно, лишь бы там не было его. Его и его приятелей.
– Один из них приезжал сюда, – медленно произнес Биральбо. – Туссен Мортон.
Лукреция едва заметно вздрогнула, но ни взгляд, ни линия тонких розовых губ не изменились. Она быстро оглянулась, будто опасаясь увидеть Туссена Мортона за соседним столиком или за стойкой – улыбающегося в клубах дыма своей неизменной сигары.
– Этим летом, в июле, – продолжал Биральбо. – Он думал, что ты в Сан-Себастьяне. Уверял, что вы были большими друзьями.
– Он никому не друг, даже Малькольму.
– Он был уверен, что мы с тобой живем вместе, – сказал Биральбо печально и стыдливо и тут же спросил другим тоном: – У него дела с Малькольмом?
– Он работает один, с этой своей секретаршей, Дафной. Малькольм был у него только вроде агента. Он всегда был едва ли вполовину так важен, как о себе воображает.
– Он угрожал тебе?
– Малькольм?
– Когда ты сообщила ему, что уходишь.
– Он ничего не сказал. Не поверил. Не мог поверить, что его может бросить женщина. Наверное, до сих пор ждет, что я вернусь.
– Билли Свану показалось, что ты была чем-то напугана, когда пришла к нему.
– Билли Сван много пьет. – Лукреция улыбнулась незнакомой улыбкой: так же, как и манера опорожнять стакан или держать сигарету, это был знак времени, легкой отчужденности, прежней преданности, растраченной впустую. – Ты не представляешь, как я обрадовалась, когда узнала, что он в Берлине. Мне не хотелось слушать его музыку, хотелось только, чтоб он рассказал о тебе.
– Сейчас он в Копенгагене. Звонил на днях, хвастался, что уже полгода не пьет.
– Почему ты не с ним?
– Мне нужно было дождаться тебя.
– Я не собираюсь оставаться в Сан-Себастьяне.
– Я тоже. Теперь меня тут ничто не держит.
– Ты ведь даже не знал, что я собираюсь вернуться.
– Может, ты и не вернулась.
– Я здесь. Я – Лукреция. А ты – Сантьяго Биральбо.
Лукреция вытянула лежавшие на столе руки и коснулась неподвижных пальцев Биральбо. Потом провела по его лицу и волосам, словно чтобы с точностью, на которую не способен взгляд, удостовериться, что это он. Быть может, ею двигала вовсе не нежность, а чувство обоюдного сиротства. Два года спустя, в Лиссабоне, за одну зимнюю ночь и раннее утро Биральбо поймет, что это – единственное, что будет их связывать всегда: не любовь и не воспоминания, а покинутость и уверенность, что они одиноки и что их несложившейся любви нет никакого оправдания.
Лукреция взглянула на часы, но не сказала, что ей пора. Это был чуть ли не единственный жест, который Биральбо узнал, единственный тревожный жест из прошлого, оставшийся неизменным. Но теперь ведь не было Малькольма, не было причин скрываться и торопиться. Лукреция спрятала сигареты и зажигалку, надела очки.
– Ты все еще играешь в «Леди Бёрд»?
– Почти нет. Но, если хочешь, сегодня вечером поиграю. Флоро Блум будет рад тебя видеть. Он часто спрашивал о тебе.
– Я не хочу в «Леди Бёрд», – сказала Лукреция, уже поднявшись и застегивая молнию на куртке. – Не хочу идти никуда, где все будет напоминать о тех временах.
Они не поцеловались на прощание. Как и три года назад, Биральбо смотрел вслед такси, увозящему Лукрецию, но на этот раз она не обернулась, чтобы через заднее стекло поглядеть на него еще немного.
Глава VIII
Он медленно шел обратно к городу, бредя у самой ограды набережной, так что брызги холодной пены долетали до него. Человек в темном пальто и шляпе все стоял на том же самом месте и, видимо, продолжал наблюдать за чайками. Биральбо, ошеломленный, голодный и чуть пьяный, спустился по лестнице у «Аквариума» к рыбачьему порту – ему не давало остановиться душевное смятение, не похожее на ни счастье, ни на горе – то ли предшествовавшее им, то ли не имевшее к этим чувствам никакого отношения, как, например, голод или желание закурить. На ходу он тихонько, себе под нос, насвистывал песню, которая нравилась Лукреции больше других и стала своего рода их паролем и беззастенчивым признанием в любви. Когда Лукреция под руку с Малькольмом входила в «Леди Бёрд», Биральбо начинал наигрывать эту мелодию, но не играл ее полностью, а лишь намекал несколькими нотами, которые несомненно угадывались даже в потоке другой музыки. Теперь он чувствовал, что эта песня перестала трогать его, что она утратила связь с Лукрецией, с прошлым, с ним самим. Ему вспомнились слова, которые как-то сказал Билли Сван: «Мы безразличны музыке. Ей не важны боль и радость, которые нас наполняют, когда мы ее слушаем или играем. Она пользуется нами, как женщина пользуется безразличным ей любовником».
В тот вечер Биральбо собирался поужинать с Лукрецией. «Своди меня в какое-нибудь новое место, – попросила она. – Куда-нибудь, где я никогда не бывала». Это звучало так, будто речь шла не о выборе ресторана, а о поездке в неведомую страну, но Лукреция всегда говорила так – наделяя самые незначительные мелочи привкусом героизма и стремления к невозможному. Он снова увидит ее в девять, а на колокольне церкви Санта-Мария дель Мар только что пробило три. Время для Биральбо снова стало спертым, душным, как воздух в отелях, где три года назад он встречался с Лукрецией и оставался после ее ухода наедине с измятой кроватью и видом на недвижное море – море в Сан-Себастьяне в зимние сумерки издалека походит на полотно школьной доски. Он бродил по галереям, между сваленных в кучи цепей и пустых ящиков из-под рыбы, находя некоторое облегчение в приглушенных серостью неба цветах зданий, в синих фасадах, в зеленых и красных ставнях, в высокой линии черепичных крыш, простиравшихся до самых холмов вдалеке. Ему казалось, будто благодаря возвращению Лукреции он снова может видеть город, ставший почти неразличимым, пока ее не было. Даже тишина, в которой гулко отдавались его шаги, и вновь обретенные запахи порта подтверждали близость Лукреции.
Из его памяти совершенно стерся наш совместный обед в тот день. Мы с Флоро Блумом сидели в одной из таверн старого города. Туда же забрел Биральбо и сел за столик в глубине зала. Мы следили за ним глазами – медленные движения, отсутствующий вид, мокрые волосы. «Ватиканский посол не удостаивает вниманием презренных мирян», – звучно произнес Флоро Блум, повернувшись к не замечавшему нас Биральбо. Тот взял свое пиво и пересел за наш столик, но за весь обед едва ли сказал пару слов. Я уверен, что это было именно в тот день, потому что Биральбо слегка покраснел, когда Флоро спросил, действительно ли он болен: в то утро он звонил в школу, чтобы поговорить с ним, и кто-то – «насквозь благочестивым голосом» – ответил, что дон Сантьяго Биральбо отсутствует по причине плохого самочувствия. «По причине плохого самочувствия, – повторил Флоро Блум. – Сейчас только монашки употребляют такие выражения». Биральбо быстро поел и собрался уходить, извинившись, что не будет пить с нами кофе: якобы он торопится на урок, начинающийся в четыре. Флоро, провожая его взглядом, грустно покачал своей медвежьей головой. «Он, понятное дело, не признаётся, – проговорил он, – но я уверен, эти монашки заставляют его читать молитвы».
Биральбо, конечно, не пошел на уроки и вечером. В последнее время, теряя веру в свое музыкальное будущее и привыкая к унизительной необходимости преподавать сольфеджио, он обнаруживал в себе все большую склонность к покорности и низким поступкам, но тут вдруг она моментально, за пару часов, улетучилась, будто ее никогда не бывало. Не то чтобы Биральбо уже не боялся потерять работу в школе, но с того момента, как он увидел Лукрецию, у него появилось ощущение, будто эта опасность грозит кому-то другому, тому, кто каждый день покорно встает ни свет ни заря и способен разучивать с ученицами религиозные песни. Он позвонил в школу, и, возможно, тот же благочестивый голос, который пробудил во Флоро Блуме наследственную ненависть к религии, холодно и недоверчиво пожелал ему скорейшего выздоровления. Биральбо это уже не волновало: в Копенгагене его ждет Билли Сван, и совсем скоро можно будет начать новую жизнь – другую, настоящую, ту, которую ему давно предвещала музыка, предвосхищавшая что-то, к чему он мог прикасаться только под пламенным взглядом Лукреции. Ему подумалось, что он и научился когда-то играть на фортепиано, только чтобы быть услышанным и желанным ею; что, если он когда-нибудь достигнет совершенства, это произойдет лишь благодаря стремлению исполнить предсказание Лукреции, которое она произнесла, впервые услышав его в «Леди Бёрд», когда даже он сам не думал, что однажды сможет сравниться с настоящим музыкантом, с Билли Сваном.
– Это она меня выдумала, – сказал Биральбо в один из тех вечеров, когда мы уже не ходили в «Метрополитано». – Я не был так хорош, как ей казалось, и не заслуживал восторгов. Кто знает, может, я и научился играть как следует, только чтобы Лукреция не поняла, что перед ней шарлатан.
– Никто не может выдумать человека. – Сказав это, я почувствовал, что, возможно, это большое несчастье. – Ты играл уже много лет, когда познакомился с ней. Флоро всегда говорил, что это Билли Сван убедил тебя, что ты настоящий музыкант.
– Может, Билли Сван, а может, Лукреция, – полулежа на кровати, Биральбо пожал плечами, будто ежась от холода. – Не важно. Я тогда существовал только в те мгновения, когда кто-нибудь думал обо мне.
Мне подумалось, что, если Биральбо прав, меня вообще никогда не существовало. Но я не стал говорить об этом. Вместо этого спросил у него о том ужине с Лукрецией: где они были, о чем разговаривали? Он не помнил точно названия места. Боль почти полностью стерла тот вечер из его памяти, сохранив лишь одиночество в конце и долгую дорогу домой на такси – освещенное фарами шоссе, тишину, сигаретный дым, светящиеся окна домов, разбросанных по холмам среди бурого тумана. Часть его жизни, связанная с Лукрецией, всегда была такой: череда бегств, путаница такси, ночные поездки по пустому пространству неслучившихся событий. В ту ночь не произошло ничего, что не было бы обещано давним предчувствием провала и ощущением пустоты в желудке. Один дома, слушая музыку, которая уже не давала уверенности в грядущем счастье, он причесывался перед зеркалом и выбирал галстук так, словно на свидание с Лукрецией шел вовсе не он, словно на самом деле она и не возвращалась.
Она сняла квартиру недалеко от вокзала, двухкомнатную, почти пустую, с видом из окон на реку, деревья по берегам и дальние мосты. Биральбо уже в восемь стоял у подъезда, но подняться не решался. Некоторое время поразглядывал афиши соседнего кинотеатра, потом, бесполезно подгоняя минуты, прошелся по темным галереям музея Сан-Тельмо. Совсем рядом, на другой стороне улицы, светящиеся в темноте волны вздымались до самой решетки набережной.
Посмотрев на них, он понял, откуда взялось ощущение дежавю: он видел такую же ночь во сне, так же бродил по ночному городу, собираясь совершить нечто, что мистическим образом уже произошло с ним в отсутствие Лукреции и было непоправимо.
Наконец он поднялся по лестнице. Стоя перед враждебного вида дверью, он несколько раз нажал кнопку звонка, ожидая, когда Лукреция откроет. Потом, выслушав ее извинения за неприглядность дома и пустоту в комнатах, он долго ждал в гостиной, всю обстановку которой составляли кресло и печатная машинка, слушая шум воды в ванной и рассматривая стопку книг на полу. Еще в комнате были картонные коробки, полная окурков пепельница и отключенный обогреватель. Сверху на нем лежала приоткрытая черная сумка. Он подумал, что именно в ней когда-то лежало письмо, которое Лукреция передала через Билли Свана.
Она все еще была в душе: было слышно, как струи воды шуршат о пластиковую шторку. Биральбо заглянул в сумку, чувствуя всю отвратительность своего поступка. Бумажные платочки, губная помада, записная книжка с записями на немецком, которые показались Биральбо мучительно похожими на адреса других мужчин, револьвер, небольшой альбом с фотографиями – на одном из снимков Лукреция в жакете цвета морской волны на фоне желтого осеннего леса обнимала за талию какого-то очень высокого мужчину. Кроме того, Биральбо нашел в сумке письмо – он содрогнулся, узнав собственный почерк, – и аккуратно сложенную репродукцию картины: домик, дорога, встающая из-за деревьев синяя гора… Он слишком поздно заметил, что шум воды смолк. Лукреция – босая, с мокрыми волосами, в халатике выше колен – стояла на пороге комнаты, наблюдая за ним. Глаза у нее блестели, а вся фигура казалась совсем тоненькой – но стыд заглушил охватившее Биральбо желание.
– Я сигареты искал, – соврал он, все еще стоя с сумкой в руках.
Лукреция подошла, забрала у него сумку и показала на пачку, лежавшую рядом с печатной машинкой. От Лукреции пахло мылом, одеколоном и нагой, влажной кожей, скрытой под синей тканью халата.
– Так поступал Малькольм, – сказала она. – Рылся у меня в сумке, пока я в душе. Однажды я дождалась, пока он уснет, чтобы написать тебе письмо. Потом разорвала листы на мелкие кусочки и ушла спать. Знаешь, что сделал Малькольм? Встал, поднял все обрывки с пола и из мусорной корзины и складывал их, пока не собрал письмо целиком. Потратил на это всю ночь. И все зря, потому что письмо это было совершенно бестолковое. Поэтому я его и разорвала.
– Билли Сван сказал мне, что видел у тебя пистолет.
– И картину Сезанна, – Лукреция осторожно сложила листок с репродукцией и убрала его в сумку. – О ней он тоже тебе рассказал?
– Это револьвер Малькольма?
– Да, пистолет я забрала у него. Это единственное, что я взяла с собой, когда уходила.
– Значит, тебе действительно было страшно.
Лукреция не ответила. На какое-то мгновение она застыла, глядя на Биральбо с удивлением и нежностью, как будто бы еще не привыкнув к его присутствию в этом пустынном месте, к которому ни один из них не принадлежал. Единственная лампа в комнате стояла на полу, ее свет удлинял их косо падавшие тени. Лукреция исчезла за дверью спальни с сумкой в руках. Биральбо показалось, что она повернула ключ в замке. Он облокотился на подоконник и стал рассматривать полоску реки и огни города, пытаясь отвлечься от того непостижимого факта, что в нескольких шагах от него, за закрытой дверью, Лукреция, душистая и обнаженная, сидит на кровати, собираясь надеть чулки и тонкое белье, которое в полутьме будет оттенять ее бледно-розовую кожу.
Из окна город казался другим – сияющим и темным, как тот Берлин, который снился ему три года подряд, очерченным беспросветной ночью и белой каемкой моря. «Нам снится один и тот же город, – писала Лукреция в одном из последних писем, – только я зову его Сан-Себастьяном, а ты – Берлином».
Теперь она называла его Лиссабоном. Лукреция всегда, еще до отъезда в Берлин и знакомства с Биральбо, жила в постоянной тревоге, подозревая, что настоящая жизнь ждет ее в каком-то другом месте, среди других, незнакомых людей. Это заставляло ее беспрекословно отрекаться от мест, где она жила, жадно и безнадежно повторяя названия городов, в которых, несомненно, исполнилась бы ее судьба, если б ей удалось попасть туда. В течение многих лет она мечтала жить то в Праге, то в Нью-Йорке, то в Берлине, то в Вене. Теперь она бредила Лиссабоном. Собирала цветные рекламные проспекты, вырезки из газет, купила португальский словарь и огромную карту города – на ней было написано «Витта», но Биральбо этого не заметил. «Мне нужно попасть туда как можно скорее, – сказала ему Лукреция в тот вечер. – Это как край света. Представь, что должны были чувствовать древние мореплаватели, когда уходили в море так далеко, что берег терялся из виду».
– Я поеду с тобой, – сказал Биральбо. – Помнишь? Мы же всегда мечтали вместе уехать в какой-нибудь незнакомый город.
– Но ты так и остался в Сан-Себастьяне.
– Я ждал тебя. Я должен был сдержать слово.
– Так долго не ждут.
– А у меня вот получилось.
– Я тебя об этом никогда не просила.
– Да я и сам не собирался этого делать. Это происходит помимо воли. В конце концов, в последние месяцы я уже думал, что перестал ждать тебя, но, как оказалось, это не так. Я и сейчас все еще жду тебя.
– Не стоит.
– Тогда скажи, зачем ты вернулась.
– Я проездом. Еду в Лиссабон.
Кажется, имена – чуть ли не единственное, что есть в этой истории: Лиссабон и Лукреция, название этой туманной песни, которую я слушаю снова и снова. «Имена, как и музыка, – однажды сказал мне Биральбо с мудростью, накатывающей после третьего или четвертого стакана джина, – вырывают людей и места из времени, создавая чистое настоящее безо всяких ухищрений, одной только тайной своего звучания». Именно поэтому, еще не видев Лиссабона, он смог написать эту песню: город существовал для него до того, как он побывал там, так же, как существует сейчас для меня, никогда там не бывавшего, – розово-охряной в полуденном свете, слегка облачный, сверкающий морской водой, благоухающий звуками своего названия, в котором чувствуется дыхание тьмы – Лиссабон, Lisboa, – и та же тональность, что в имени Лукреции. «Но чтобы добраться до чистых имен, нужно освободиться от всего лишнего, – объяснял Биральбо, – ведь и в них может тайно забиться память. Нужно извести ее полностью, чтобы можно было жить, – говорил он, – чтобы можно было выходить на улицу и идти в кафе, будто ты и в самом деле жив».








