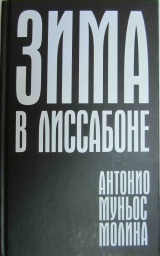
Текст книги "Зима в Лиссабоне"
Автор книги: Антонио Молина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Глава III
Мы не всегда встречались с Биральбо в «Метропо-литано» или у него в отеле. Собственно, после того как он отдал мне письма, мы довольно долго не виделись. Словно оба поняли, что от этого поступка наши отношения сделались чрезмерно доверительными, и старались сгладить эту неловкость, пропав на несколько недель. Я слушал пластинку Билли Свана и время от времени рассматривал, перебирая один за другим, длинные конверты, разорванные Биральбо в пылу нетерпения, – он, конечно, терял всякое самообладание, открывая их. Искушения прочитать письма у меня почти не было, я иногда даже забывал о том, что они лежат где-то рядом, среди хаоса книг и старых газет. Но едва мой взгляд падал на аккуратные буквы, выведенные на конвертах поблекшими фиолетовыми или синими чернилами, как мне вспоминалась Лукреция – может быть, вовсе не та женщина, которую любил и ждал три года Биральбо, а другая – та, которую я несколько раз встречал в Сан-Себастьяне, в баре Флоро Блума, на набережной и на Пасео-де-лос-Тамариндос, у которой всегда было какое-то расчетливо-потерянное выражение лица и вежливая улыбка, словно бы обращенная не к собеседнику, а в пространство, и одновременно, безо всякой причины, обволакивавшая приятной уверенностью в горячем чувстве с ее стороны, как будто ты был то ли абсолютно безразличен ей, то ли именно тот человек, которого она всей душой жаждала видеть в эту минуту. Мне подумалось, что Лукреция и город, где и Биральбо, и я познакомились с ней, чем-то похожи: в них есть одно и то же странное и бесполезное спокойствие, одно и то же стремление казаться сразу и радушным, и чужим, эта обманная нежность, таящаяся и в улыбке Лукреции, и в розовом отблеске заката на сонных волнах бухты и гроздьях тамариндов.
Первый раз я увидел ее в баре Флоро Блума, быть может, в тот самый вечер, когда Биральбо и Билли Сван играли вместе. В те времена я часто завершал вечера в «Леди Бёрд» – меня влекло смутное убеждение, что именно туда захаживают те неправдоподобные женщины, которые, когда на рассвете погаснут огни последних баров и повеет недостатком любви, согласятся провести остаток ночи со мной. Но в тот вечер у меня была более определенная цель. Мне назначил встречу Брюс Малькольм. Некоторые звали его просто Американцем, он работал корреспондентом в нескольких зарубежных журналах об искусстве и занимался, как мне сказали, контрабандой живописи и антиквариата. Я тогда был совсем на мели, зато в квартире у меня пылилось несколько сильно потемневших от времени картин на религиозные сюжеты. Один знакомый, недавно оказавшийся в таких же стесненных обстоятельствах, сказал мне, что этому американцу, Малькольму, можно продать картины за хорошие деньги и он заплатит долларами. Я позвонил ему, он пришел, стал рассматривать полотна сквозь лупу и чистить самые темные места ваткой, смоченной в пахнущей спиртом жидкости. По-испански он говорил с южноамериканским акцентом, голос у него был громкий и убедительный. Он добросовестно сфотографировал все картины перед открытым окном, а через несколько дней позвонил сказать, что готов купить их за полторы тысячи долларов: семьсот сразу, а остальное – когда полотна получат его то ли шефы, то ли коллеги в Берлине.
Чтобы передать деньги, Малькольм назначил мне встречу в «Леди Бёрд». Сидя за уединенным столиком, он вручил мне семьсот долларов потертыми купюрами, предварительно пересчитав их с медлительностью клерка Викторианской эпохи. Остальные восемьсот долларов я так никогда и не увидел. Подозреваю, что он обманул бы меня, даже если бы отдал всю условленную сумму, но спустя годы это уже не важно. Гораздо важнее, что в тот вечер Малькольм пришел в «Леди Бёрд» не один. С ним была высокая, очень тонкая девушка, которая при ходьбе слегка наклонялась вперед, а когда улыбалась, видны были ее ослепительно-белые, чуть широко расставленные зубы. У нее были прямые волосы ровно до плеч, высокие, почти детские скулы и очерченный ломаной линией нос. Не знаю, вспоминаю ли я ее такой, какой увидел тогда, или перед глазами у меня застыл образ с одной из фотографий, найденных среди бумаг Биральбо. Они остановились передо мной, спиной к сцене, на которой еще не было музыкантов, и Малькольм, Американец, решительным жестом взял свою спутницу под локоть и тоном владельца, гордого своей собственностью, произнес: «Хочу представить тебе свою жену. Это Лукреция».
Когда Американец закончил пересчитывать деньги, мы выпили за то, что он с подозрительным воодушевлением назвал «успехом нашей сделки». У меня появилось двойное неприятное чувство: будто меня обманывают и будто я в каком-то фильме играю роль, которую мне не потрудились хорошенько объяснить, – но такое со мной часто случается, когда я пью с незнакомыми людьми. Малькольм много говорил и много пил, ругал мои сигареты, давал советы, как приобретать картины и как бросить курить: здесь главное – самообладание, сказал он, широко улыбаясь и отгоняя дым от лица, и написал на салфетке название леденцов, помогающих избавиться от никотиновой зависимости. Бокал Лукреции так и стоял перед ней – высокий и нетронутый. Мне показалось, что она способна оставаться неуязвимой и неизменной, где бы ни находилась, но я отказался от этой мысли, едва заиграл Биральбо. В тот вечер они с Билли Сваном играли вдвоем; отсутствие контрабаса и ударных придавало их музыке, их одиночеству на тесной сцене «Леди Бёрд» ощущение незавершенности и абстрактности, сходство с кубистским рисунком, сделанным простым карандашом. На самом деле, как мне сейчас вспоминается – хотя прошло уже пять лет, – я заметил, что музыка зазвучала только в тот момент, когда Лукреция повернулась к нам спиной, чтобы смотреть в глубь зала, туда, где среди полутьмы и клубов дыма играли два музыканта. Это было едва заметное движение, неуловимое и быстрое, как вспышка молнии, как искра в глазах, как взгляд, перехваченный в зеркале. До того, разгоряченный виски и мыслью о семи сотнях долларов в кармане – в то время всякая сколько-нибудь значительная сумма денег казалась мне бесконечной, позволяющей брать такси без особой надобности и покупать дорогие ликеры, – я пытался завязать разговор с Лукрецией, а Американец подбадривал меня пьяной, благодушной улыбкой. Но едва зазвучала музыка, Лукреция повернулась к нам спиной, как будто мы с Малькольмом перестали существовать, поджала губы, откинула волосы с лица и спрятала длинные ладони между колен. «Моя жена обожает музыку», – сказал Малькольм и плеснул мне еще виски в пустой, безо льда, стакан. Быть может, все было не совсем так. Быть может, когда заиграл Биральбо, Лукреция не перестала смотреть на меня – в этом я не уверен, но, несомненно, в ней сразу же что-то изменилось, и мы с Малькольмом одновременно заметили эту перемену. Что-то происходило: не на сцене, где Биральбо простирал руки над клавишами фортепиано и Билли Сван, еще беззвучно, поднимал трубу с медлительностью жреца, а между ними, между Лукрецией и Малькольмом, за маленьким столиком, где стояли забытые бокалы, в молчании, которое я старался не замечать, как знакомый, оказавшийся рядом в неподходящий момент.
В «Леди Бёрд» было много народу, и все аплодировали; несколько фотографов, стоя на коленях, поминутно слепили вспышками Билли Свана. Флоро Блум – этот счастливый белобрысый толстяк с маленькими голубыми глазками – стоял, опершись на барную стойку всей своей тучной фигурой скандинавского лесника; мы – Лукреция, Малькольм и я – старались (без особого успеха) погрузиться в музыку и единственные во всем заведении не аплодировали. Билли Сван вытер лоб носовым платком и что-то произнес по-английски, завершив реплику неприлично раскатистым хохотом, а затем робко зазвучали новые аплодисменты. Слишком близко поднеся микрофон к губам, Биральбо усталым голосом перевел слова трубача и объявил следующую песню. Малькольм в очередной раз внимательно перечитывал данную мной расписку. Биральбо сквозь дымную толщу расстояния встретился глазами со мной – но искал вовсе не меня. Его взгляд был устремлен к Лукреции, как будто в «Леди Бёрд», кроме нее, никого и не было, как будто они были наедине среди толпы, всеми своими глазами следившей за каждым их движением. Глядя на Лукрецию, Биральбо произнес сначала по-английски, а потом по-испански название песни, которую они с Билли Сваном собирались исполнить. Много позже, уже в Мадриде, я вдруг узнал ее: она была на той пластинке Билли Свана, которую я слушал в одиночестве, недвижно взирая на связку писем, пересекших Европу из конца в конец и преодолевших безразличие времени, чтобы попасть в руки постороннего человека. «Все, в чем есть ты», – объявил Биральбо, и между этими словами и первыми нотами песни повисла короткая пауза, во время которой никто не решился аплодировать. Не только Малькольм, но и я заметил, что улыбка, не тронув губы, заиграла у Лукреции в глазах.
Я не раз видел, что иностранцы часто без малейшего колебания и предупреждения отказываются от проявлений дружбы и подчеркнутой учтивости. Почувствовав на себе взгляд Биральбо – хотя из-за стойки за нами наблюдал и Флоро Блум, – Малькольм сказал, что им с Лукрецией пора идти, и протянул мне руку. Лукреция очень серьезно, еще не поднявшись, что-то сказала мужу по-английски – несколько быстрых слов, исключительно вежливых и холодных. Я наблюдал, как Малькольм поднял свой стакан и поставил его обратно на столик, сжав твердыми, запачканными краской пальцами, будто бы изучая возможность раздавить его. Но ничего такого не сделал. Пока Лукреция говорила с ним, я рассматривал его чуть приплюснутую, как у ящерицы, голову. Лукреция не была раздражена – казалось, она вообще не способна раздражаться. Она смотрела на Малькольма, будто бы полагая, что силы здравого смысла вполне достаточно, чтобы обезоружить его; ее слова были осторожны, а тон мягок, и в нем, казалось, таилась ирония. Когда Малькольм заговорил вновь, его испанский сделался отвратителен. Злость исковеркала произношение, будто напоминая о том, что он чужд этой стране и этому языку, на котором переговариваются только заговорщики да враги. Смотря мимо меня, прямо в глаза Лукреции, он сказал: «Теперь понятно, почему ты хотела прийти сюда». Мое присутствие уже не волновало ни того, ни другую.
Я решил раствориться в дыме и музыке. Малькольм согласился на перемирие. Вынув из заднего кармана брюк пачку купюр, он подошел к стойке и некоторое время разговаривал с Флоро Блумом, кичливо и гневно потрясая зажатыми в кулаке деньгами. Искоса он поглядывал на Лукрецию – она так и не поднялась из-за столика – и на Биральбо, который, по ту сторону фортепиано, был страшно далек от нас. Иногда пианист поднимал глаза – и тогда Лукреция едва заметно тянулась вверх, будто стараясь разглядеть его из-за ограды. Малькольм, глухо стукнув по деревянной стойке, оставил деньги и направился в темную глубь заведения. Тогда Лукреция встала и, не обращая на меня внимания, будто стерев мое присутствие улыбкой, как отмахиваются от дыма, подошла сказать что-то Флоро Блуму. Труба Билли Свана пронзала воздух, как подъятый кинжал. Лукреция жестикулировала перед сонным лицом Флоро, потом в ее руках появились листок бумаги и ручка. Она стала что-то писать, быстро поглядывая то на сцену, то на освещенный красным светом коридор, по которому ушел Малькольм. Потом сложила листок, вытянулась всем телом, пряча его с другой стороны стойки, и вернула Флоро ручку. Когда Малькольм вернулся – он отсутствовал не больше минуты, – Лукреция уже приглашала меня зайти к ним как-нибудь на обед и объясняла, где они живут. Она врала спокойно и страстно, почти с нежностью.
Ни один из них на прощание не подал мне руки. Они исчезли за занавесом «Леди Бёрд», и через секунду раздался треск аплодисментов, будто бы провожая их. Больше я ни разу не видел их вместе. Я так и не получил остальные восемьсот долларов за свои картины и не встречал Малькольма. В некотором смысле я больше не видел и Лукрецию: у той, что я встречал позже, волосы были намного длиннее, сама она была не так спокойна и гораздо бледнее, ее решимость то ли несла на себе отпечаток пережитых испытаний, то ли вовсе иссякла, а во взгляде появились тяжесть и прямота, какие бывают у тех, кто лицом к лицу столкнулся с настоящей тьмой и после этого не остался ни безнаказан, ни чист. Через две недели после нашей встречи в «Леди Бёрд» Малькольм с Лукрецией сели на грузовое судно, направлявшееся в Гамбург. Хозяйка дома, где они жили, сказала мне, что они уехали, не заплатив за три последних месяца. Об их отъезде знал только Сантьяго Биральбо, но и он не видел, как тайно, глубокой ночью уходила в море рыбачья лодка с ними на борту. Лукреция сказала ему, что корабль будет ждать их в открытом море, но не захотела, чтобы он приходил в порт попрощаться с ней даже издали, пообещала, что будет писать ему, и дала листок с адресом в Берлине. Биральбо сунул его в карман и, быть может, пока шел в «Леди Бёрд» – быстрыми шагами, потому что уже было поздно, – вспоминал о другой записке, которая ждала его однажды ночью, за две недели до того, когда они с Билли Сваном закончили играть и он подошел к стойке, чтобы попросить у Флоро еще стаканчик бурбона или джина.
Глава IV
По воскресеньям я вставал очень поздно и завтракал пивом – было стыдно в полдень брать в баре кофе с молоком. Воскресным утром в Мадриде разливается обычно мягкий, холодный свет; воздух становится особенно прозрачным, и в нем, будто в вакууме, отчетливо выступают белые острые ребра зданий; шаги и слова звучат гулко, будто в заброшенном городе. Мне нравилось вставать поздно и читать газету в пустом чистом баре, выпивая ровно столько пива, сколько позволяло дождаться обеденного времени в состоянии приятной апатии, когда на все окружающее смотришь, словно с блокнотом и карандашом в руках следишь через прозрачные стенки за жизнью улья. Около половины третьего я аккуратно складывал газету и бросал ее в мусорную корзину – от этого возникало ощущение легкости, с которым я безмятежно отправлялся в ресторан. Это было опрятное старинное заведение с цинковой стойкой и квадратными винными бутылками, где официанты меня уже узнавали, но пока не досаждали доверительным тоном, от которого я сбегал из других подобных мест.
В один из таких воскресных дней, когда я ждал своего заказа за столиком в глубине зала, в ресторан вошел Биральбо под руку с очень привлекательной женщиной – я сразу узнал в ней светловолосую официантку из «Метрополитано». Вид у них был ленивый и улыбчивый, какой бывает у тех, кто только что проснулся вместе. Они подошли к ожидавшим своей очереди у стойки бара людям, и я некоторое время разглядывал эту парочку, прежде чем их окликнуть. Неважно, что волосы у нее, скорее всего, крашеные, подумалось мне. Она, видимо, причесалась сегодня небрежно, едва ли на секунду задержавшись перед зеркалом; на ней была короткая юбка и серые чулки. Биральбо, пока они разговаривали, попивая пиво и куря, то легонько поглаживал ее по спине, то обнимал за талию. Девушка была не очень тщательно причесана, но губы успела накрасить – розовой, даже чуть сиреневатой помадой. Представив себе запачканные этой помадой окурки в пепельнице на ночном столике, я со смесью грусти и зависти подумал, что у меня такой женщины никогда не было, и поднялся, чтобы поздороваться с Биральбо.
Светловолосая официантка – ее звали Моника – быстро перекусила и сразу же собралась уходить, сказав, что у нее дневная смена в «Метрополитано». Прощаясь, она взяла с меня обещание, что мы обязательно еще встретимся, и чмокнула в щеку, почти у самых губ. Мы остались с Биральбо наедине, недоверчиво и застенчиво смотря друг на друга сквозь пар кофе и дым сигарет. Мы знали, о чем думает каждый из нас, и избегали слов – они возвратили бы нас к исходной точке, к воспоминаниям о множестве неправдоподобных ночных встреч, слившихся в памяти в одну или две. Стоило нам остаться наедине, как начинало казаться, что в наших жизнях нет ничего, кроме «Леди Бёрд» и тех далеких ночей в Сан-Себастьяне, и осознание этого сходства, общей принадлежности к утраченному прошлому обрекало нас на околичности и осторожное молчание.
В зале ресторана оставалось совсем немного посетителей, и металлические жалюзи были уже наполовину опущены. Я неожиданно для себя самого заговорил о Малькольме, но это был лишь способ упомянуть Лукрецию, прощупать почву, не называя имени вслух. В ироническом ключе я поведал Биральбо историю о продаже картин и восьмистах долларах, которые я так и не получил. Он огляделся, будто чтобы удостовериться, что Моники нет поблизости, и расхохотался.
– Значит, и тебя обманул старина Малькольм!
– Он меня не обманывал. Я ведь уже тогда знал, что он не заплатит.
– Но тебя это не волновало. В глубине души тебе было все равно, заплатит он или нет. А ему – нет. Он наверняка твои деньги отдал за дорогу в Берлин. Они давно собирались уехать и не могли. И вдруг Малькольм приходит с известием, что он дал на лапу капитану какого-то корабля и их возьмут в трюм. Так что они уехали на твои деньги.
– Тебе это рассказала Лукреция?
Биральбо снова рассмеялся, будто подшутили над ним самим, и глотнул кофе. Нет, Лукреция ему ничего не рассказывала, она ничего не говорила до самого конца, до последнего дня. Они никогда не говорили о повседневном, словно молчание о том, что происходит помимо их встреч, оберегало их лучше, чем изобретаемые ею предлоги для свиданий и запертые двери отелей, где они встречались на полчаса – у нее редко бывало время, чтобы приехать в квартиру Биральбо, – и предстоящие минуты растворялись в первом же объятии. Она взглядывала на часы, одевалась и запудривала розовые пятна на шее какой-то особенной пудрой, которую Биральбо купил по ее просьбе – в магазине, пока он искал нужное средство, на него посматривали с нескрываемым подозрением. Он спускался в лифте на улицу вместе с Лукрецией, чтобы проводить ее и посмотреть, как она машет на прощание рукой в окошко такси.
Он думал о Малькольме, который ждал ее, готовый искать в одежде и волосах запах чужого тела. Биральбо возвращался домой или в номер отеля и падал на кровать, изможденный ревностью и одиночеством. Потом начинал бесцельно бродить туда-сюда, взвалив на себя непосильный труд подстегивать ход времени, заполнять пустоту часов, а иногда и целых дней, отделявших его от следующей встречи с Лукрецией. Перед его глазами стояли неподвижные стрелки часов и что-то темное и глубокое, как опухоль, как тень, перед которой бессилен всякий свет, всякая передышка, – жизнь, которой она жила в эти самые мгновения, ее жизнь с Малькольмом, в доме Малькольма, куда он, Биральбо, однажды тайно проник, не затем, чтобы ощутить недолгую робкую нежность Лукреции, – хотя Малькольма не было в городе, они боялись, что он может вернуться в любой момент, и каждый шорох казался им звуком поворачивающегося в скважине ключа, – а чтобы увидеть картины другой ее жизни, запечатленные с той самой минуты в сознании Биральбо с присущей действительности точностью рентгеновского снимка. Мысли о доме, ни разу не виденном вживую, быть может, не были бы так тяжелы для него, как точное воспоминание, которое жило теперь в его сознании. Помазок и бритвенный станок Малькольма на стеклянной полочке под зеркалом в ванной, его халат из мягкой синей ткани, висевший за дверью в спальне, его войлочные тапки под кроватью, его фотография на ночном столике, рядом с будильником, звон которого он слышал каждое утро одновременно с Лукрецией… Запах его одеколона, рассеянный по всем комнатам и явственно исходивший от полотенец, легкий намек на мужское присутствие, от которого Биральбо становилось не по себе, будто захватчику. Мастерская Малькольма, очень грязная, полная стаканов с кистями, склянок со скипидаром и репродукций картин, давным-давно приколотых к стенам… Вдруг Биральбо, говоривший откинувшись на спинку стула, улыбаясь и роняя сигаретный пепел в чашку с кофе, выпрямился и посмотрел на меня очень пристально: он обнаружил в своей памяти нечто, чего раньше не вспоминал, как бывает, когда найдешь что-нибудь не на привычном месте и от этого внезапно увидишь то, что давно не замечалось.
– Я видел там картины, которые ты ему продал, – сказал он мне. Биральбо до сих пор видел их в свете своего изумления и боялся, что исчезнет точность воспоминания. – На одной – что-то аллегорическое, женщина с завязанными глазами, у нее что-то в руке…
– Бокал. Бокал с крестом.
– Длинные черные волосы, круглое, очень белое лицо с румянцем на щеках.
Я хотел было спросить, не известно ли ему еще что-нибудь о судьбе этих картин, но Биральбо было уже не до меня. Перед его взором что-то возникало с ясностью, в которой прежде память отказывала ему, перед ним открывались залежи чистого времени: образ картины, которую он никогда не старался вспомнить, вернул его в нетронутые забвением часы, проведенные с Лукрецией. Его взгляд постепенно, через доли секунды, как луч света, первоначально выхватывавший из тьмы лишь одно лицо и теперь набирающий силу, чтобы осветить всю комнату, обнаруживал то, что находилось в тот вечер рядом с картиной; Биральбо снова ощущал близость Лукреции, страх, что нагрянет Малькольм, гнетущий свет конца сентября, наполнявший комнаты, по которым они ходили, еще не зная, что стоят на пороге трехлетней разлуки.
– Малькольм следил за нами, – сказал Биральбо. – Следил за мной. Иногда я видел, что он караулит меня возле дома. Знаешь, как неуклюжий полицейский, стоял с газетой на углу или сидел за рюмкой в баре напротив. Эти иностранцы слишком уж верят фильмам. Иногда он приходил один в «Леди Бёрд», садился за стойку в глубине бара, наблюдал, как я играю, делая вид, будто его занимает музыка или беседа с Флоро Блумом. Мне было все равно, меня даже слегка смешило все это, но однажды ночью Флоро посмотрел на меня очень серьезно и сказал: «Будь острожен. У этого парня пистолет».
– Он угрожал тебе?
– Он угрожал Лукреции, делал двусмысленные намеки. Иногда он занимался довольно рискованными делами. Думаю, они бы не стали уезжать в такой спешке, если бы Малькольм не боялся чего-то. У него были дела с опасными людьми, а он совсем не так храбр, как кажется. Вскоре после покупки твоих картин он поехал в Париж. Тогда я и побывал в их доме. Вернувшись, он сказал Лукреции, что кто-то пытается провести его, вытащил пистолет и оставил его лежать на столе, пока они ужинали, а потом сделал вид, будто чистит его. Сказал, что всадит целую обойму во всякого, кто попытается его обмануть.
– Хвастовство, – сказал я. – Пустое хвастовство рогоносца.
– Могу поклясться, что он не ездил тогда в Париж. Он сказал Лукреции, что ему нужно посмотреть какие-то картины в музее, что-то из работ Сезанна, помнится. Он соврал, чтобы получить возможность следить за нами. Я уверен, он видел, как мы входили в дом, и караулил нас совсем близко. Наверное, сгорал от искушения войти и застать нас врасплох, но так и не решился на это.
От слов Биральбо у меня побежали мурашки. Мы допивали кофе, а официанты уже готовили столики к ужину и поглядывали на нас, не скрывая нетерпения. Было пять часов вечера, по радио с жаром обсуждали какой-то футбольный матч, и вдруг я увидел сверху, как бывает в фильмах, обычную улицу Сан-Себастьяна, где, остановившись на тротуаре, какой-то мужчина с пистолетом и газетой под мышкой поглядывал вверх на одно из окон, держа руки в карманах и энергично притопывая по мокрой мостовой, чтобы согреть ноги. Потом я понял, что Биральбо опасался увидеть нечто подобное, выглянув из окна отеля в Мадриде. Человека, ждущего чего-то и скрывающего это ожидание, но не слишком, ровно настолько, чтобы тот, кто увидит его из окна, знал, что он тут и уходить не собирается.
Мы поднялись. Биральбо оплатил счет, отказавшись от моих денег и заявив, что он больше не бедный музыкант. На улице солнце еще освещало верхние этажи зданий, окна и похожую на маяк башню отеля «Виктория», но дальние концы улиц уже терялись в тусклом медном свете, и из подворотен потянуло ночным холодом. Я, как в прежние времена, ощутил тоску зимних воскресных вечеров и обрадовался, что Биральбо сразу же направился туда, где можно пропустить по стаканчику, – не в «Метропо-литано», а в какой-то безликий пустой бар со стойкой, обитой плюшем. В такие вечера никакое общество не поможет смягчить печаль отблеска фонарей на асфальте и ярких вывесок в глубоком мраке подступающей ночи, где вдали еще угадываются розоватые отсветы, но мне нравилось, чтобы рядом со мной кто-нибудь был и чтобы компания избавляла от необходимости возвращаться домой, в одиночестве шагая по широким мадридским тротуарам.
– Они уехали очень поспешно, будто спасались от преследования, – сказал Биральбо, после того как мы посидели в паре баров и безо всякой пользы выпили по несколько стаканов джина. Он произнес это так, словно его мысль застыла в тот момент, когда мы заканчивали обедать и он перестал говорить о Лукреции и Малькольме. – Они ведь перед этим думали окончательно обосноваться в Сан-Себастьяне. Малькольм хотел открыть собственную галерею, даже почти договорился арендовать какое-то помещение. Но, вернувшись из Парижа, или где он там пробыл эти два дня, он объявил Лукреции, что им придется уехать в Берлин.
– Он просто хотел увезти ее подальше от тебя, – сказал я. Выпитый алкоголь позволял мне с поразительной ясностью рассуждать о чужих жизнях.
Биральбо улыбался, внимательно разглядывая ватерлинию джина в своем стакане. Прежде чем ответить мне, он опустил ее почти на сантиметр.
– Когда-то мне было приятно так считать. Но теперь я в этом не уверен. Думаю, Малькольм в глубине души был не против, чтобы Лукреция время от времени спала со мной.
– Ты не видел, как он смотрел на тебя в тот вечер в «Леди Бёрд». У него такие голубые глаза навыкате, помнишь?
– …Он был не против, потому что знал, что Лукреция все равно принадлежит только ему и никому больше. Она ведь могла остаться со мной, но поехала с ним.
– Она боялась его. Я видел его в ту ночь. И ты сам говорил, что он угрожал ей пистолетом.
– Длинноствольным девятимиллиметровым. Но она сама хотела уехать. И просто воспользовалась возможностью, которую дал ей Малькольм. Рыбачья лодка или лодка контрабандистов, грузовой корабль под немецким флагом, идущий в Гамбург, который наверняка назывался каким-нибудь женским именем – «Берта», или «Лотта», или еще что-нибудь в этом духе. Лукреция прочла слишком много книг.
– Она была влюблена в тебя. Я это видел. Да и любой заметил бы. Даже Флоро Блум все понял, едва взглянув на нее в тот вечер. Она ведь оставила тебе записку, да? Я видел, как она ее писала.
Абсурдным образом я принялся доказывать Биральбо, что Лукреция была в него влюблена. Он продолжал пить – безучастно, но с едва заметной благодарностью во взгляде – и не перебивал меня. Он выпускал дым, не вынимая сигареты из губ и прикрыв лицо рукой, так что мне было не разобрать, что скрывается за блеском его внимательных глаз. Может, он думал не о боли и не о тех спокойных словах, а о простых и банальных вещах, которые без его ведома пронизали всю его жизнь, – о той записке, например, в которой сообщалось о времени и месте встречи и которую он продолжал хранить спустя столько времени, когда она уже начала казаться обрывком чьей-то чужой жизни, как и письма, которые он доверил мне и которые я не читал и никогда не прочту. Потом Биральбо нетерпеливо заерзал, стал поглядывать на часы и сказал, что ему уже очень скоро надо будет идти в «Метрополитано». Я вспомнил стройные ноги, улыбку и запах духов светловолосой официантки. Это только я продолжал задавать вопросы. Это я видел взгляд Малькольма тогда в «Леди Бёрд» и приписал его человеку, ждущему чего-то и медленно прогуливающемуся под окном, иногда останавливаясь, под легким дождиком в Сан-Себастьяне.
В это время Биральбо был в его доме – именно там за два дня до того Лукреция назначила ему свидание. Быть может, она и предложила Малькольму встретиться со мной в «Леди Бёрд»… Если бы он за ней постоянно следил, разве смогла бы она оставить эту записку для Биральбо? Я понял, что размышлять тут не о чем: если бы Малькольм настолько не доверял Лукреции, если бы улавливал малейшее изменение в ее взгляде и был бы уверен, что стоит ослабить контроль, как она отправится к Биральбо, – почему он не взял ее с собой, когда поехал в Париж?
«В четверг в семь у меня дома позвони сначала по телефону и ничего не говори пока не услышишь мой голос». Вот что было в той записке, и подписана она была, как и письма, одной буквой «Л». Она так торопилась, когда писала, что забыла про запятые, сказал мне Биральбо, но ее почерк был безупречен, как в прописях. Наклонные мелкие буковки, старательно выведенные, свидетельствовали о хорошем воспитании, так же как и то, как она улыбнулась мне, когда Малькольм представлял нас друг другу. Быть может, она и ему улыбалась так же, провожая на вокзале и махая рукой с перрона. Потом развернулась, села в такси и приехала домой точно к тому времени, когда пришел Биральбо. С той же улыбкой, подумал я и тут же раскаялся: Биральбо, а не мне должна была прийти в голову эта мысль.
– Она видела, как он уехал? – спросил я. – Ты уверен, что она дождалась отхода поезда?
– Откуда мне знать? Думаю, да. Наверное, он высунулся из окна вагона, чтобы еще раз попрощаться и все такое. Но он мог сойти на следующей же станции, в Ируне, на границе с Францией.
– Когда он вернулся?
– Не знаю. Он должен был уехать на два или три дня. Но я почти две недели ничего не слышал о Лукреции. Я просил Флоро Блума, чтобы он звонил им домой, но никто не отвечал, и она больше не оставляла мне записок в баре. Однажды поздно вечером я решился позвонить сам, и кто-то – не знаю, Малькольм или она сама – взял трубку и сразу же повесил ее, ничего не сказав. Я бродил по улице, где она жила, следил за входом в дом из кафе напротив, но так и не видел, чтобы они выходили, и даже вечером не мог понять, дома ли они, потому что окна были закрыты ставнями.
– Я тоже тогда звонил Малькольму: хотел спросить про свои восемьсот долларов.
– Ты говорил с ним?
– Конечно, нет. Они прятались?
– Наверное, Малькольм готовил побег.
– Лукреция тебе ничего не объяснила?
– Сказала только, что они уезжают. У нее не было времени на подробности. Я был в «Леди Бёрд», уже стемнело, но Флоро еще не открыл заведение. Я репетировал что-то на фортепиано, он расставлял столики, и тут зазвонил телефон. Я перестал играть, при каждом звонке у меня замирало сердце. Я был уверен, что на этот раз звонит Лукреция, и боялся, что телефон замолкнет. Флоро целую вечность не брал трубку – сам знаешь, как медленно он ходит. Когда он поднял трубку, я стоял уже посреди бара, не решаясь подойти. Флоро произнес что-то, посмотрел на меня, качая головой, несколько раз сказал «да» и повесил трубку. Я спросил, кто звонил. «Лукреция, кто же еще, – ответил он. – Ждет тебя через пятнадцать минут в аркаде на площади Конституции».








