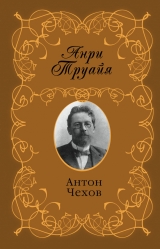
Текст книги "Антон Чехов"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц)
Глава VI
Первые успехи, первые неудачи
После долгих стараний Ивану удалось уехать из Воскресенска и перебраться в Москву, где он получил лучше оплачиваемую должность директора начальной школы. У этого воссоединения семьи, которого так давно жаждал Чехов, была и неприятная сторона: невозможность летом для него и его родных пользоваться домом в Воскресенске. А с наступлением погожих дней Чехов всегда начинал тосковать по деревне. Для него, сына лавочника, для него, едва сводившего концы с концами газетчика, представление об успехе в жизни связывалось с представлением о большой усадьбе вроде тех, какие описывали в своих книгах Тургенев и Толстой. От прежних выездов за город у него аппетит только разыгрался, и теперь, набравшись смелости, он снял дачу в Бабкине, в трех верстах от Воскресенска, в парке, принадлежавшем его друзьям Киселевым – их дети были учениками Ивана. Для того чтобы осуществить это дерзкое предприятие, ему пришлось взять в редакции «Будильника» аванс в сто рублей.
6 мая 1885 года семейство Чеховых, рассевшись в две повозки, доверху нагрузив их чемоданами, ящиками, тюками, связками книг и бумаг, банками с вареньем и кастрюлями и увенчав всю эту гору самоваром, глубокой ночью проехало мимо уснувшего дома Киселевых и высадилось на другом конце парка, у предназначенного для них дома поменьше. Двери были открыты. Вошедшие зажгли лампы, и Чехов застыл на пороге, удивленный. «Комнаты громадные, мебели больше, чем следует… – писал он брату Михаилу. – Все крайне мило, комфортабельно и уютно. Спичечницы, пепельницы, ящики для папирос, два рукомойника и… черт знает чего только не наставили любезные хозяева. Такая дача под Москвой по крайней мере 500 стоит. […] так, знаешь, весело было глядеть в окно на темневшие деревья, на реку… Слушал я, как поет соловей, и ушам не верил…»[64]64
Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 61. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Назавтра же Чехов принялся усердно обследовать усадьбу, расположенную на крутом берегу Истры: огромный английский парк, цветники, далеко тянувшиеся леса, луга, полные рыбы пруды… Среди этого райского безделья царила чета Киселевых и двое их взрослых детей, Александра (Саша) и Сергей. Госпожа Киселева была жизнерадостной и энергичной дамой, писательницей, весьма успешно сочинявшей истории для малышей. Вокруг хозяев дома клубилась целая толпа разнообразной прислуги. Гости не переводились, застолья следовали одно за другим. Беспечные и расточительные Киселевы, не заботясь о завтрашнем дне, проматывали остатки былого богатства. Чехов вспомнит о них, когда станет описывать в «Вишневом саде» разоренное поместье.
А пока он был совершенно покорен любезностью и веселостью хозяев. Но, как ни одолевало его искушение целыми днями предаваться сладостной лени, он должен был тяжким трудом оплачивать удовольствие быть рядом с ними, в деревне. Он вставал в семь часов и все утро писал, пристроившись за столиком, сделанным из швейной машинки. Да еще нередко ему приходилось откладывать перо, потому что окрестные крестьяне, прознавшие о том, что в Бабкине живет доктор, приходили с ним посоветоваться. В письме от 14 сентября 1885 года Антон писал Лейкину, что больные целыми толпами собираются у его дома и сильно досаждают ему. За лето он принял несколько сот таких больных, а заработал всего-навсего рубль…
После обеда Чехов удил рыбу, ставил верши и радовался улову. «Одна верша стоит в реке. Она поймала уже плотицу и громадного окуня. Окунь так велик, что Киселев будет сегодня у нас обедать. Другая верша стояла сначала в реке, но там ничего не поймала. Теперь стоит за прудом в завадине (иначе в плесе); вчера поймала она окуня, а сегодня утром я с Бабакин[ым] вытащил из нее двадцать девять карасей. Каково? Сегодня у нас уха, рыбное жаркое и заливное…»[65]65
Письмо Михаилу Чехову от 10 мая 1885 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 61. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Госпожа Киселева нередко ходила вместе с ним на рыбалку и, забрасывая удочку, заводила разговор о литературе. Зная, что друг постоянно нуждается в сюжетах для своих рассказов, она пересказывала ему истории, вычитанные из старых французских газет.
Вернувшись с рыбалки, Чехов снова садился работать и продолжал писать до вечера. Теперь, когда он перестал снабжать «Осколки» московскими новостями, у писателя стало больше времени на то, чтобы работать над текстами для «Петербургской газеты», при этом в размерах его уже не ограничивали. После ужина, который подавали в восемь часов, все собирались в гостиной у Киселевых, болтали, выпивали, играли в вист и шахматы, а еще чаще музицировали. Госпожа Киселева чудесно пела, а гувернантка была превосходной пианисткой. Чехову особенно нравились ноктюрны Шопена. В конце вечера гувернантка исполняла «Лунную сонату» Бетховена. Госпожа Киселева гасила свет. Чехов в одиночестве устраивался на террасе, преисполненный спокойного счастья. Когда последние ноты таяли в ночи, все молча расходились по домам.
Через несколько дней после того, как Чехов поселился в Бабкине, он узнал, что его друг, художник Исаак Левитан, в припадке меланхолии скрывается в соседней деревушке. Тотчас отправившись к нему, Чехов вытащил его из убежища, хорошенько выбранил и поселил у себя на даче во флигельке. «Со мной живет художник Левитан, – писал он Лейкину. – С беднягой творится что-то недоброе. Психоз какой-то начинается. […] Хотел вешаться… Взял я его с собой на дачу и теперь прогуливаю… Словно бы легче стало…
[…] Природу не описываю. Если будете летом в Москве и приедете на богомолье в Новый Иерусалим, то я обещаю вам нечто такое, чего вы нигде и никогда не видели… Роскошь природа! Так бы взял и съел ее…»[66]66
Письмо от 9 мая 1885 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 59. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Во время этих долгих прогулок по полям и лесам к Левитану медленно возвращался утраченный вкус к жизни. Чехов же, общаясь с художником, со своей стороны приучался внимательнее присматриваться к пейзажам. Его трогал каждый кустик, каждая лужица, каждая травинка. Он уносил их в голове, словно части по крупинке собираемого сокровища. Ничто из того, что он видел, ничто из того, что он переживал, не пропадало, все шло в дело.
Тем временем выздоровление Левитана шло резкими скачками. То им овладевала безудержная веселость, то он вновь погружался в беспросветную меланхолию. Стоило ему увидеть перед собой молодую и более или менее привлекательную женщину, он немедленно в нее влюблялся и делал страстные признания, а назавтра, забыв о ней, столь же пылко признавался в любви другой. Левитана нельзя было назвать красивым, но он, с его черными непокорными кудрями, большим носом и огненными глазами, смотревшими из-под дьявольских бровей, нравился даже тем дамам, которые порицали его за экстравагантность. В Бабкине художник глаз не сводил с Маши, сестры Чехова. Ей только что исполнилось двадцать два года. Веселая, мечтательная и вместе с тем практичная, она в то время заканчивала обучение в институте Раевского,[67]67
Сама М.П. Чехова в своих воспоминаниях пишет об учебе в 1883–1886 годах на Высших женских курсах Герье. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] собираясь стать учительницей, и пробовала свои силы в живописи. Сумрачный облик, талант живописца и пламенные речи Левитана произвели сильное впечатление на девушку, которая видела в нем романтического героя, затерянного среди неспособного его понять общества. Но в одно прекрасное утро, когда Маша прогуливалась с Левитаном в бабкинском лесу, мирно болтая о том о сем, он упал перед ней на колени, признался в любви и попросил стать его женой. Потрясенная Маша, не зная, что ответить, убежала домой, закрылась у себя в комнате и весь день проплакала. Вечером не вышла к столу. Тогда Чехов отправился к ней и ласково стал расспрашивать. Всхлипывая, девушка рассказала брату о признании Левитана и о том, в какое смятение оно ее привело. Антон благоразумно посоветовал ей подумать. «Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты», – сказал он.
«Мне стыдно было сознаться брату в том, что я не знаю, что такое „женщина бальзаковского возраста“, – напишет потом в своей книге Мария Павловна, – и, в сущности, я не поняла смысла фразы Антона Павловича, но почувствовала, что он в чем-то предостерегает меня. Левитану я тогда ничего не ответила, и он опять с неделю ходил по Бабкину мрачной тенью. Да и я никуда не выходила из дома. […]
Потом, как это всегда в жизни бывает, я привыкла и стала вновь встречаться с Левитаном. На этом весь наш „роман“ и закончился. Всю его жизнь мы продолжали быть с ним лучшими друзьями. Он много помогал мне в занятиях живописью. Правда, он мне не раз говорил потом и повторил незадолго перед своей смертью, когда я навестила его уже тяжело больным:
– Если бы я когда-нибудь женился, то только бы на вас, Маша…»[68]68
Чехова М.П. Из далекого прошлого. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. С. 43–44. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Лето шло, и чем дальше, тем сильнее охватывало Чехова беспокойство из-за денег. Ему нечем было даже заплатить бабкинские долги, как не на что было и перевезти семью обратно в город. Он засыпал просьбами редакции газет, с которыми сотрудничал, и в конце концов получив то, что ему причиталось, в конце сентября 1885 года Антон вместе с семьей вернулся в город. И тут же принялся как за врачебный, так и за литературный труд. Но на «адски грустных» городских улицах он продолжал грезить буколической прелестью Бабкина. В первых числах октября Чехов писал Киселевой, что его душа полна воспоминаниями об удочках, вершах и земляных червях посреди зеленой лужайки; он настолько еще не отошел от лета, что, просыпаясь по утрам, чувствовал себя так, будто у него что-то отняли.
Тем не менее здоровье его за время чудесной деревенской жизни нисколько не поправилось. У него опять началось кровохарканье. Сразу после возвращения в Москву Чеховы снова сменили квартиру: на этот раз вся семья перебралась в Замоскворечье. «Квартира моя за Москвой-рекой, – писал Антон Лейкину, – а здесь настоящая провинция: чисто, тихо, дешево и… глуповато».[69]69
Письмо от 12 октября 1885 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 65. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Вскоре после переезда все тот же Лейкин пригласил Чехова на две недели в Петербург. До сих пор у Чехова не было случая побывать в столице. Он с радостью ухватился за это предложение, купил себе новые брюки и пальто, и 10 декабря 1885 года поезд повез его в город туманов, правительства и громкой литературной славы. В самом деле, именно там жили тогдашние знаменитости: Салтыков-Щедрин, Григорович, Лесков, Успенский, Плещеев; там бродили тени умерших великих писателей: Пушкина, Гоголя, Достоевского, Некрасова… Перевесившись через дверцу, Чехов по дороге с вокзала к дому Лейкина любовался широкими прямыми проспектами, зданиями с итальянскими фасадами, выкрашенными в серо-зеленый или охристо-желтый цвета, восхищался холодностью, порядком, торжественной красотой, составлявшими полную противоположность тому, что он так любил в старой Москве – пестрой, беспорядочной и крестьянской. Приехав в Петербург, писатель еще не догадывался о том, что его рассказы, которые он чаще всего называл «мелочишками» и «безделками», уже начали создавать ему серьезную литературную репутацию, так что сильно удивился тому, с каким восторгом встретили его собратья, которым Лейкин новоприбывшего представил. «Я был поражен приемом, который мне оказали питерцы, – напишет он брату Александру. – Суворин, Григорович, Буренин… все это приглашало, воспевало… и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава. Знай, мол, я, что меня так читают, я писал бы не так на заказ…»[70]70
Письмо от 4 января 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 70. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] А двумя неделями позже признавался в письме Билибину, писателю и секретарю редакции «Осколков», что раньше, когда он не знал, что эти люди читают и обсуждают его рассказы, то писал с той же безмятежностью, с какой ест блины. Теперь же, берясь за перо, испытывает страх.
В Санкт-Петербурге Чехов познакомился в числе прочих и с великим магнатом прессы, Алексеем Сергеевичем Сувориным, основателем и издателем «Нового времени», крупнейшей газеты тех лет. Прочитав рассказ «Егерь», Суворин тут же предложил ему сотрудничать в своей газете и обещал платить по двенадцать копеек за строчку. Это предложение тем более обрадовало Чехова, что Суворин на первый взгляд показался ему человеком образованным, энергичным и честным. Конечно, либералы считали этого журналиста, безоговорочно поддерживавшего правительство, бессовестным оппортунистом, но Чехов раз и навсегда решил держаться в стороне от политических страстей.
Едва вернувшись в Москву, Антон поспешил послать в «Новое время» рассказ «Панихида», который тотчас был опубликован. «Письмо Ваше я получил, – написал он Суворину. – Благодарю вас за лестный отзыв о моих работах и за скорое напечатание рассказа. Как освежающе и даже вдохновляюще подействовало на мое авторство любезное внимание такого опытного и талантливого человека, как Вы, можете судить сами…»[71]71
Письмо от 21 февраля 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 74. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Тем не менее Чехову вскоре пришлось умерить свой творческий порыв: в городе началась эпидемия сыпного тифа. Перегруженные работой врачи бегали по всему городу и почти не спали по ночам. Антон, с его слабым здоровьем, больше других опасался заразиться. Сообщая Билибину о том, что в Москве свирепствует тиф, признавался в том, что особенно боится все распространявшейся болезни: «Мне кажется, что, заболев этой дрянью, я не уцелею, а предлоги для заражения на каждом шагу».[72]72
Письмо от 28 февраля 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 116. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Он старался успевать и писать, и лечить, но даже и тогда, когда больные оставляли ему немного свободного времени, ему трудно было сосредоточить свое внимание на белом листе. Целый этаж дома, в котором жили Чеховы, принадлежал хозяину ресторана, где устраивались свадьбы, поминки, праздничные обеды различных корпораций, оттуда постоянно доносились громкие голоса, играла музыка, звенела посуда. Доведенный до отчаяния писатель жаловался все тому же Билибину, что у него над головой играет свадебный оркестр и гости на свадьбе топают, как лошади. А Лейкину писал о том, что устал и отупел за последнее время до того, что голова кружится: в квартире постоянно толпится народ, беспрестанно раздаются крики и музыка, в рабочем кабинете холодно и без конца ходят больные. Однако, несмотря на беспорядочную обстановку, Чехов за это время дал в газеты не только множество забавных пустячков, но и несколько истинных шедевров, порой смешных, порой трогательных. Именно в это время были написаны и напечатаны такие рассказы, как «Егерь», «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев», а главное – «Тоска». Это история о старом извозчике, который потерял сына и тщетно старается излить свою печаль сменяющим друг друга седокам: они остаются равнодушными, и в конце концов герой рассказа, поставив свою лошадь в конюшню, обращается к ней.
«– Жуешь? – спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. – Ну жуй, жуй… Коли на овес не выездили, сено есть будем… Да… Стар уж стал я ездить… Сыну бы ездить, а не мне… То настоящий извозчик был… Жить бы только…
Иона молчит некоторое время и продолжает:
– Так-то, брат кобылочка… Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря… Теперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать… И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить… Ведь жалко?
Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина…
Иона увлекается и рассказывает ей все».[73]73
Цит. по: Чехов А. Т. 4. С. 43. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Подобные истории производили сильное впечатление на читателей «Осколков», «Петербургской газеты» и «Нового времени», но Чехов продолжал сомневаться в себе. Он не понимал, почему Суворин посоветовал ему отказаться от псевдонима и подписываться настоящей фамилией. До того Билибин уговаривал его это сделать, когда речь шла об издании сборника «Пестрые рассказы», но Чехов ответил ему тогда, что отдал свою настоящую фамилию и герб медицине, с которой намерен не расставаться до гробовой доски. Что же касается литературы, с ней он рано или поздно расстанется и вообще не понимает, почему читателям фамилия Чехов должна нравиться больше, чем Чехонте.
На самом же деле Чехов, робкий от природы, боялся сбросить маску и показаться перед толпой с открытым лицом: ему казалось, что если он отдаст свое имя на растерзание свету, то окажется беззащитным и перед хулой, и перед похвалой. И, что, может быть, еще серьезнее, он подвергнет этому испытанию не только себя, но и родных. Имеет ли он на это право? Кроме того, Антон считал, что медициной, делом серьезным, и литературой, которая не более чем игра, следует заниматься под разными именами.
Однако всего через несколько недель после того, как писатель и доктор заявил Билибину, что не намерен долго оставаться на литературной сцене, он получил из Петербурга письмо, до слез его растрогавшее. Знаменитый и глубоко почитаемый Григорович, с которым Чехов очень недолго виделся в Петербурге, написал ему пылкое и непосредственное послание, в котором говорил о своем восхищении им. Сорока годами раньше тот же Григорович примерно так же приветствовал рождение гения Достоевского. Это обстоятельство придавало особый вес оценке старого писателя, который буквально рассыпался в похвалах.
«Милостивый государь Антон Павлович, – писал Григорович, – около года тому назад я случайно прочел в „Петерб. газете“ Ваш рассказ; названия его теперь не припомню, помню только, что меня в нем поразили черты особенной своеобразности, а главное – замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы. С тех пор я читал все, что было написано Чехонте, хотя внутренно сердился на человека, который так еще мало себя ценит, что считает нужным прибегать к псевдониму. Читая Вас, я постоянно советовал Суворину и Буренину следовать моему примеру. Они меня послушали и теперь, вместе со мною, не сомневаются, что у Вас настоящий талант, – талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения. Я не журналист, не издатель; пользоваться Вами я могу, только читая Вас, если я говорю о Вашем таланте, говорю по убеждению. Мне минуло уже 65 лет, но я сохранил еще столько любви к литературе, с такой горячностью слежу за ее успехом, так радуюсь всегда, когда встречаю в ней что-нибудь живое, даровитое, что не мог – как видите – утерпеть и протягиваю Вам обе руки. Но это еще не все, вот что хочу прибавить: по разнообразным свойствам Вашего несомненного таланта, верному чувству внутреннего анализа, мастерству в описательном роде (метель, ночь, местность в „Агафье“ и т. д.), чувству пластичности, где в нескольких строчках является полная картина: тучки на угасающей заре – „как пепел на потухающих угольях“ и т. д., – Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который дается так редко. Бросьте срочную работу. Я не знаю Ваших средств; если у Вас их мало, голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите Ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Один такой труд будет во сто раз выше оценен сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам. Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики. В основу Ваших рассказов часто взят мотив несколько цинического оттенка, к чему это? Правдивость, реализм не только не исключают изящества, но выигрывают от последнего. Вы настолько сильно владеете формой и чувством пластики, что нет особой надобности говорить, например, о грязных ногах с вывороченными ногтями и о пупке у дьячка. Детали эти ровно ничего не прибавляют к художественной красоте описания, а только портят впечатление в глазах читателя со вкусом. Простите мне великодушно такие замечания; я решился их высказать потому только, что истинно верю в Ваш талант и желаю ему ото всей души полного развития и полного выражения. На днях, говорили мне, выходит книга с Вашими рассказами; если она будет под псевдонимом „Че-хон-те“ – убедительно прошу Вас телеграфировать издателю, чтобы он поставил на ней настоящее Ваше имя. После последних рассказов в „Новом времени“ и успеха „Егеря“ оно будет иметь больше успеха. Мне приятно было бы иметь удостоверение, что Вы не сердитесь на мои замечания, но принимаете их как следует к сердцу, точно так же, как я пишу Вам неавторитетно, – по простоте чистого сердца.
Уважающий ВасД. Григорович25 марта 1886 г. Петербург,
С десяток раз перечитавши признания и советы автора «Антона Горемыки» и «Деревни», почти что классика, Чехов испытал странное чувство: ему показалось, будто исполнилось желание, которое он пока не решился ясно высказать. Было так, словно Григорович, протянув ему руку, помог перешагнуть воображаемую черту, отделявшую толпу газетных писак от маленькой кучки избранных. Он тотчас благодарно и смиренно ответил тому, кто так благосклонно его возвысил:
«Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас. Вы знаете, какими глазами обыкновенные люди глядят на таких избранников, как Вы, поэтому можете судить, что составляет для моего самолюбия Ваше письмо. Оно выше всякого диплома, а для начинающего писателя оно – гонорар за настоящее и будущее. Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена мною эта высокая награда или нет. Повторяю только, что меня она поразила.
Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. Чтобы быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин чисто внешнего свойства… А таких причин, как теперь припоминаю, у меня достаточно. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника. В Москве есть так называемый „литературный кружок“: таланты и посредственности всяких возрастов и мастей собираются раз в неделю в кабинете ресторана и прогуливают здесь свои языки. Если пойти мне туда и прочесть хотя кусочек из Вашего письма, то мне засмеются в лицо. За пять лет моего шатанья по газетам успел я проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и – пошла писать! Это первая причина… Вторая – я врач и по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, как мне.
Пишу все это для того только, чтобы хотя немного оправдаться перед Вами в своем тяжком грехе. Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а „Егеря“, который Вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом… Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, Бог знает почему, берег и тщательно прятал.
Первое, что толкнуло меня к самокритике, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. Я начал собираться написать что-нибудь путевое, но все-таки веры в собственную литературную путевость у меня не было.
Но вот нежданно-негаданно явилось ко мне Ваше письмо. Простите за сравнение, оно подействовало на меня как губернаторский приказ „выехать из города в 24 часа!“, т. е. я вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз…
Я с Вами во всем согласен. Циничности, на которые Вы мне указываете, я почувствовал сам, когда увидел „Ведьму“ в печати. Напиши я этот рассказ не в сутки, а в 3–4 дня, у меня бы их не было…
От срочной работы избавлюсь, но не скоро… Выбиться из колеи, в которую я попал, нет возможности. Я не прочь голодать, как уж голодал, но не во мне дело… Письму я отдаю досуг, часа 2–3 в день и кусочек ночи, т. е. время, годное только для мелкой работы. Летом, когда у меня досуга больше и проживать приходится меньше, я возьмусь за серьезное дело.
Поставить на книжке мое настоящее имя нельзя, потому что уже поздно: виньетка готова и книга напечатана. Мне многие петербуржцы еще до Вас советовали не портить книги псевдонимом, но я не послушался, вероятно из самолюбия. Книжка моя мне очень не нравится. Это винегрет, беспорядочный сброд студенческих работишек, ощипанных цензурой и редакторами юмористических изданий. Я верю, что, прочитав ее, многие разочаруются. Знай я, что меня читают и что за мной следите Вы, я не стал бы печатать этой книги.
Вся надежда на будущее. Мне еще только 26 лет. Может быть, успею что-нибудь сделать, хотя время бежит быстро.
Простите за длинное письмо и не вменяйте человеку в вину, что он первый раз в жизни дерзнул побаловать себя таким наслаждением, как письмо к Григоровичу.
Пришлите мне, если можно, Вашу карточку. Я так обласкан и взбудоражен Вами, что, кажется, не лист, я целую стопу написал бы Вам. Дай Бог Вам счастья и здоровья, и верьте искренности глубоко уважающего Вас и благодарного
Чехов был в таком восторге от письма Григоровича, что показал его родным и друзьям и даже переписал несколько отрывков из него, чтобы послать дяде Митрофану в Таганрог. Однако ему не хотелось, чтобы люди подумали, будто он заносится перед ними, и потому в письме к Билибину отозвался об этом событии со смесью тщеславия и мальчишеской непочтительности. Письмо Григоровича, сообщил он, прибыло самым неожиданным образом, на манер deus in machina. Почерк старческий, его трудно разбирать. Старик требует от него написать нечто значительное и отказаться от поспешной работы. Он уверяет, что у него, Чехова, истинный талант, это подчеркнуто в письме. Пишет тепло и настоятельно. «Я, конечно, рад, хотя и чувствую, что Григорович перехватил через край»,[76]76
Письмо от 4 апреля 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 120. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] – признается Антон.
Теперь он мечтал о новой поездке в столицу, где столько уважаемых людей верили в его талант. «Я вошел там в моду!» – сообщил он Александру. Но, как всегда, писателю не удавалось собрать денег на поездку. Кроме того, у него снова началось изнуряющее кровохарканье. Догадываясь об истинной природе своего недуга, Чехов не хотел получить официальное подтверждение диагноза, предпочитал пребывать в томительном и тревожном ожидании, от которого у него сжималось сердце. «Боюсь подвергнуть себя зондировке коллег… Вдруг откроют что-нибудь вроде удлиненного выдыхания или притупления!.. Мне сдается, что у меня виноваты не так легкие, как горло… Лихорадки нет».[77]77
Письмо от 6 апреля 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 11. С. 86. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] И как только Антон почувствовал себя немного лучше, тотчас поездом отправился в Санкт-Петербург.
Там он провел, с 25 апреля по 10 мая, две недели, заполненные дружеским и светским общением и лестью. Григорович и Билибин превозносили его до небес. Что касается Суворина, с успехом опубликовавшего в «Новом времени» три больших рассказа молодого автора, «Панихиду», «Ведьму» и «Агафью», тот считал себя покровителем Чехова в литературном мире. Признавая огромный авторитет этого богатого, влиятельного и язвительного человека, Чехов находил Суворина и несколько смешным с его великосветскими замашками. Брату Михаилу рассказывал о том, как Суворин его принял: он был весьма любезен и даже протянул руку, посоветовав «молодому человеку» упорно трудиться и сообщив, что он им доволен. Посоветовал почаще ходить в церковь и не пить водки. Принюхавшись и не уловив в дыхании Чехова запаха спиртного, Суворин приказал подать гостю чаю; чай принесли с кусковым сахаром, но без блюдечка. Затем достопочтенный господин Суворин дал ему денег, велев экономить и потуже затянуть пояс.
В том же письме Чехов признался брату, что не остался равнодушным к чарам одной из служащих «Нового времени», в чьи обязанности входило высылать почтовыми переводами причитающиеся ему гонорары. Ему хотелось снова с ней увидеться. Впрочем, Антон вообще охотно признавал за собой слабость к молодым женщинам. Подруги сестры Маши окружали Чехова, словно цветник, которым приятно было любоваться, вдыхать его аромат, но при этом он с удовольствием поддразнивал девиц. Время от времени ему даже приходило в голову жениться на той или другой из них. В январе Антон, опять же при посредстве Маши, познакомился с богатой молодой еврейкой, Дуней Эфрос, мгновенно пленившей его своей грацией, умом и бойкостью. Однажды вечером, провожая ее домой, он внезапно сделал ей предложение, о чем тут же сообщил в письме Билибину. После двухнедельного размышления повторил предложение, но девушка была охвачена сомнениями. То, что она была еврейкой, осложняло проблему, поскольку для того, чтобы стать женой православного русского, ей следовало креститься. Между молодыми людьми разгорелся ожесточенный спор, и Чехов с ужасом обнаружил воинственный характер девушки, которую уже считал своей невестой. Антон рассказывал об этих ссорах Билибину: сегодня они ссорятся, завтра мирятся, через неделю ссорятся снова. Дуня оказалась настоящей мегерой. Разозлившись на то, что из-за вероисповедания возникли проблемы, она переломала карандаши и изорвала фотографии на столе у Чехова. «Я с ней разведусь через один-два года после свадьбы, это несомненно»,[78]78
Письмо от 1 февраля 1886 года. (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 112.
[Закрыть] – писал Чехов. Вскоре после этого он сообщил все тому же Билибину об окончательном разрыве с пылкой девицей: «С невестой я разошелся окончательно. То есть – она со мной разошлась. Но я револьвера еще не купил и дневника не пишу. Все на свете превратно, коловратно, приблизительно и относительно».[79]79
Письмо от 14 февраля 1886 года, опубликованное в «Литературном наследии». (Примеч. автора.) Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 112. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] В другом письме, месяцем позже, он обещал Билибину больше о Дуне не вспоминать и признавал, что тот, должно быть, прав был, когда говорил, что Чехов не созрел еще для женитьбы. Хотя Антон и был всего годом младше Билибина, но чувствовал себя легкомысленным мальчишкой. Ему порой снилось, что он в классе и с ужасом ждет, что учитель велит ему отвечать урок, которого он не выучил.
Итак, жены в доме Чехова не появилось, но и одиночества не было тоже. Не переставая жаловаться на шум и суету, которые он застал в своей квартире, вернувшись из Петербурга, Чехов признавался, что ему необходимо чувствовать рядом присутствие друзей, пусть даже и докучающих ему, и писал Суворину, что совершенно не может жить без гостей. Оставшись один, он, сам не зная почему, чувствовал страх, так, будто плыл на утлой лодчонке посреди океана.
Летом Антон вновь встретился в Бабкине с Киселевыми, Левитаном и прочими гостившими в поместье знакомыми. Вместе с ними он развлекался салонными играми, устраивал розыгрыши и маскарады, которые заканчивались взрывами безудержного смеха. Единственным, что омрачало веселье, был неоднозначный прием, который оказала пресса только что вышедшим из печати «Пестрым рассказам». Один из критиков назвал рассказы Чехова бредом помешанного. В «Северном вестнике» написали: «Книга Чехова, как ни весело ее читать, представляет собой печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленной смертью газетного царства»[80]80
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 131. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] – и сравнили автора с выжатым лимоном. Эти уколы, которые несколькими месяцами раньше оставили бы Чехова равнодушным, теперь, когда он знал, что им восхищаются такие люди, как Григорович и Суворин, больно ранили. К тому же чувствительность его была в то время обострена из-за приступов геморроя и жестокой зубной боли. В конце августа Чехов уехал в Москву лечиться.








