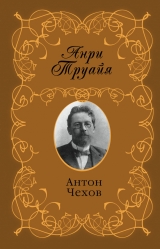
Текст книги "Антон Чехов"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
Его будущая пьеса, та, о которой он мечтал так долго, как надеялся драматург, станет иллюстрацией этой национальной пассивности. Но ему казалось, что в Ялте он никогда ее не напишет: для обретения вкуса к жизни и работе нужны были Москва, Ольга, блеск и сверкание театра. Доктор Альтшуллер, осмотревший Чехова по его просьбе 21 сентября, не проявил жестокости и не запретил поездки. «Вчера был у меня Альтшуллер, – пишет Антон Павлович жене, – смотрел меня в первый раз за эту осень. Выслушивал, выстукивал. Он нашел, что здравие мое значительно поправилось, что болезнь моя, если судить по той перемене, какая произошла с весны, излечивается; он даже разрешил мне ехать в Москву – так стало хорошо! Говорит, что теперь ехать нельзя, нужно подождать первых морозов. Вот видишь! <…> Скоро увидимся, дусик!»[692]692
Письмо от 22 сентября 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 510. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] И – два дня спустя: «Не забудь, собака: когда приеду в Москву, купим духов „Houbigant“, самый большой флакон, или два-три поменьше, и вышлем Альтшуллеру. Не забудь, пожалуйста, напомни мне. <…> Буду жить в Москве до декабря и даже дольше, смотря по обстоятельствам. Если чума будет в Одессе и зимой, то за границу не поеду – по причинам, о которых я уже писал тебе. В Москве буду только есть, пить, ласкать жену и ходить по театрам, а в свободное время – спать. Хочу быть эпикурейцем».[693]693
Письмо от 24 сентября 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 512. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] На это сообщение Ольга ответила с восторгом, достойным невесты: «Антошка, милый мой, золотой, мы увидимся скоро!!! Уррррааа!!! Можно опять жить надеждой, можно быть бодрой, не все так уж черно! Как я тебя буду целовать, как буду глядеть на тебя, рассматривать всего моего человека хорошего».[694]694
Письмо от 28 сентября 1902 г. Там же. С. 517. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Перед отъездом Чехов отправил мать к брату Михаилу в Санкт-Петербург, чтобы ей не оставаться одной в Ялте, и Маша тоже уехала в столицу, опасаясь после летних ссор оказаться в одной квартире с Антоном и Ольгой.[695]695
Все бы ничего, да только мамаша проездом в Питер довольно долго пробыла в Москве, и Маша с Ольгой ее лечили и развлекали очень дружно.
[Закрыть]12 октября Чехов наконец уложил чемоданы. Он поехал в осеннем пальто, а Ольга, если нагрянут морозы, должна была встретить его на вокзале с шубой. Она писала, что уже приготовила лекарства, рыбий жир и креозот и что будет ему все, как приедет: и пиво, и баня…
Москва и Ольга разом – двойная радость от разделенной любви и каждодневного праздника, вот что это было для Чехова. Он неутомимо ходил по магазинам и ресторанам, бывал в театрах, встречался с Шаляпиным, Дягилевым, Россолимо, Буниным, Сувориным и Горьким, пьесу которого «На дне» репетировали тогда «художественники».
Новое здание Художественного театра понравилось ему простотой оформления в соединении с изобретательностью в устройстве сцены и гримерок. Он присутствовал на представлениях «Власти тьмы» Толстого, снова посмотрел свои спектакли – «Дядя Ваня» и «Три сестры», и на этот раз постановки показались ему безупречными. Но такой калейдоскоп впечатлений вскоре утомил его, он снова начал кашлять. Прошло всего шесть недель, и Антон Павлович вынужден был вернуться в Ялту – к солнцу, одиночеству и тоске. Адские метания между Севером и Югом, между оживлением большого города и насильственным покоем приморского курорта, между семейной жизнью и холостяцкой, между иллюзией жизни и приготовлением к смерти окончательно его измотали: нервы были на пределе.
На следующий день по приезде в Ялту он написал Ольге: «В Ялте застал холод, снег. Сижу теперь за столом, пишу тебе, моей жене бесподобной, и чувствую, что мне не тепло, что в Ялте холоднее, чем в Москве. С завтрашнего дня начну поджидать от тебя письма. Пиши, дуся моя, умоляю тебя, а то я тут в прохладе и безмолвии скоро заскучаю. <…> Не скучай, светик, работай, бывай везде, спи побольше. Как мне хочется, чтобы ты была весела и здорова! В этот мой приезд ты стала для меня еще дороже. Я тебя люблю сильнее, чем прежде. Без тебя и ложиться, и вставать очень скучно, нелепо как-то. Ты меня очень избаловала».[696]696
Письмо от 30 ноября 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 532. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
В Ялте было настолько морозно, что Чехов остерегался выходить из дому. Впрочем, ничто его и не привлекало снаружи. Даже когда в город приехал на освящение новой церкви царь Николай II, писатель не стал присутствовать на торжественной церемонии. В начале января он подхватил плеврит и безропотно позволил доктору Альтшуллеру лечить себя все теми же мучительными компрессами, а единственной радостью за весь долгий январь для него стало известие об огромном успехе в Москве постановки пьесы Горького «На дне». Нет, была еще одна радость: он узнал, что его «Чайка» наконец прошла с триумфом на сцене Александринского театра, той самой, где с треском провалилась шесть лет назад. Журнал «Мир искусства» опубликовал статью Д. Философова, в которой тот сопоставлял две постановки: 1896 года и нынешнюю. И, хваля последнюю, делал вывод о том, что успех «Чайки» на императорской сцене – явление примечательное, свидетельство окончания периода борьбы для Чехова. Теперь, по мнению автора, как драматический писатель он стал классиком, а государственный театр признал это официально.
Редактор «Мира искусства» Сергей Дягилев, который вскоре прославится в мире балета, тщетно настаивал на том, чтобы Чехов публиковался в этом органе символистов. Во время одной из последних встреч в Москве они с Антоном Павловичем поспорили о будущем религиозных движений в России. И, поскольку Дягилев вернулся к этой полемике в своем письме, сопровождавшем журнал с рецензией на «Чайку», в ответ последовало: «Многоуважаемый Сергей Павлович! „Мир искусства“ со статьей о „Чайке“ получил, статью прочел – большое Вам спасибо. Когда я кончил эту статью, то мне опять захотелось написать пьесу, что, вероятно, и сделаю после января.
Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию, и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором Вы пишете, само по себе, а вся современная культура сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой нельзя. Теперешняя культура – это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, может быть, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога, т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура – это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает».[697]697
Письмо от 30 декабря 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 507–508. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] О поисках веры, столь характерных для русских людей, Чехов пишет и в записных книжках: «Между „есть Бог“ и „нет Бога“ лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало».[698]698
Цит. по: Чехов А. Т. 10. Записные книжки. Книжка первая (1891–1904). С. 49 (439). (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Чувствуя, что с каждым днем приближается к смерти, он становился все большим скептиком и все сильнее возмущался вдохновенными проповедями, публикуемыми Львом Толстым, желавшим поучать весь мир. Тексты, в которых убеленный сединами пророк объяснял читателям, кто такой Господь, казались ему просто оскорбительными для автора «Войны и мира» и «Анны Карениной». Он был недалек от того, чтобы увидеть в них проявления старческого слабоумия.
А у себя Чехов с глубоким огорчением замечал потерю жизненных сил. Неспособный посвятить себя какой-то волнующей задаче, он довольствовался тем, что прилежно докладывал Ольге о скудных событиях своего существования: «Ногти стали длинные, обрезать некому. Зуб во рту сломался. Пуговица на жакете оторвалась»…[699]699
Письмо от 12 декабря 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 547. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Вчера мыл голову и простудился… И все та же мольба, и все та же надежда: «Мне кажется, что если бы я полежал хоть половину ночи, уткнувшись носом в твое плечо, то мне полегчало бы и я перестал бы кукситься. Я не могу без тебя, как угодно. <…> Милая собака, отчего я не с тобой? Отчего у тебя в Москве нет квартиры, где у меня была бы комната, в которой я мог бы работать, укрываясь от друзей. На лето нанимай такую дачу, чтобы можно было писать там; тогда я буду рано вставать, и чтобы на даче был только я с тобой, если не каждый день, то хоть раза три в неделю».[700]700
Письмо от 25 декабря 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 562–563. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Или – с верой в то, что придет время, когда он будет жить с нею весь год подряд, что будут у них еще дети: «Дуся моя, замухрыша, собака, дети у тебя будут непременно, так говорят доктора. Нужно только, чтобы ты совсем собралась с силами. У тебя все в целости и в исправности, будь спокойна, только недостает у тебя мужа, который жил бы с тобой круглый год. Но я, так и быть, соберусь как-нибудь и поживу с тобой годик неразлучно и безвыездно, и родится у тебя сынок, который будет бить посуду и таскать твоего такса за хвост, а ты будешь глядеть и утешаться».[701]701
Письмо от 14 декабря 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 550. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Но она не загадывала вперед настолько далеко и – более или менее искренне – возвращалась к своей ответственности за то, что они живут в разлуке. А он, как обычно, мягко успокаивал жену: «Ты, родная, все пишешь, что совесть тебя мучит, что ты живешь не со мной в Ялте, а в Москве. Ну как же быть, голубчик? Ты рассуди как следует: если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена и я чувствовал бы угрызения совести, что едва ли было бы лучше. Я ведь знал, что женюсь на актрисе, т. е. когда женился, ясно сознавал, что зимами ты будешь жить в Москве. Ни на одну миллионную я не считаю себя обиженным или обойденным, напротив, мне кажется, что все идет хорошо, или так, как нужно, и потому, дусик, не смущай меня своими угрызениями. В марте опять заживем и опять не будем чувствовать теперешнего одиночества. Успокойся, родная моя, не волнуйся, а жди и уповай. Уповай и больше ничего. <…> Теперь я работаю, буду писать тебе, вероятно, не каждый день. Уж ты извини».[702]702
Письмо от 20 января 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 589–590. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Вообще-то он немножко прихвастнул, объявив, что вернулся к работе. Его рассказ «Невеста» то и дело застревал и писался крайне медленно. И не то чтобы у него иссякла фантазия, просто усталость была такова, что необходимость просто водить пером по бумаге казалась выше его сил. «Ах, какая масса сюжетов в моей голове, как хочется писать, но чувствую, чего-то не хватает – в обстановке ли, в здоровье ли», – писал он Ольге.[703]703
Письмо от 23 января 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 515. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Чуть позже он довольно спокойно объяснил причины, как он их видит: «У меня в кабинете вот уже несколько дней температура держится на 11–12, не повышаясь. Арсений топить не умеет, а на дворе погода холодная – то дождь, то снег, и ветер еще не унялся. Пишу по 6–7 строчек в день, больше не могу, хоть убей. Желудочные расстройства буквально каждый день, но все же чувствую себя хорошо, мало кашляю, температура нормальна, от плеврита не осталось и следа».[704]704
Письмо от 5 февраля 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А.. Переписка с женой. С. 608. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Зато еще через несколько дней раздался чуть ли не вопль, вот такое вот чудовищное признание: «Ах, дуся моя, говорю тебе искренно, с каким удовольствием я перестал бы быть в настоящее время писателем!»[705]705
Письмо от 16 февраля 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 620. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Тем не менее гордость и сила воли заставляли его продолжать «Невесту» – как любил говорить Чехов, «по столовой ложке через час». И 27 февраля, после пяти месяцев таких вот прерывистых усилий, рукопись была закончена и писатель смог отправить ее Миролюбову, для «Ежемесячного журнала…» которого она и предназначалась. Героиня рассказа, молоденькая провинциалка Надя, восстает против комфортабельной и удушающей атмосферы родительского дома, отказывается от неизбежного, казалось, брака с дураком и собирается сбежать в Санкт-Петербург, чтобы продолжать учебу и строить новую жизнь на самоотверженности и преданности своему делу. Тем временем Саша, дальний родственник, который привил ей склонность к борьбе с буржуазным конформизмом, возвращается на Волгу, чтобы лечиться там кумысом, и умирает от туберкулеза. Последние мысли Нади в рассказе – словно эхо мечтаний трех сестер: «Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута так, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, чужая, ненужная и что все ей тут ненужно, все прежнее оторвано от нее и исчезло, точно сгорело, и пепел разнесся по ветру. Она вошла в Сашину комнату, постояла тут.
„Прощай, милый Саша!“ – думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее».[706]706
Цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 507. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Догадывался ли Чехов, что «Невеста» – его последний рассказ? Всего им было создано более двухсот сорока произведений, одни совсем коротенькие, другие длинные, одни – брызжущие весельем, другие – исполненные пронзительной печали. И вся эта пестрая смесь представляла собой величайшую, изумительную панораму российской жизни его времени. От мужика до архиерея, от учителя до извозчика, от студента до купца – не найти социальной категории, не представленной в этом человеческом муравейнике, в чеховских творениях. Читать рассказы Чехова – все равно что совершать головокружительное путешествие в прошлое с хладнокровным и проницательным провожатым, который показывает все и не комментирует ничего. А по обеим сторонам этой вьющейся среди повседневной жизни тропинки – единство стиля, творящее истинные чудеса. «Краткость – сестра таланта», – заявил Чехов брату Александру. Эта строгость автора к себе, точность, умение скрыться за спинами персонажей не изменили Чехову и в последнем его рассказе. Читая «Невесту», ни на секунду не ощущаешь слабости писателя, жизненные силы которого истощились.
Закончив рассказ, Чехов хотел воспользоваться приливом вдохновения и заняться «Вишневым садом». Но реплики плохо вязались одна с другой. Ольга пыталась стимулировать мужа к писанию, даже пыталась «припугнуть», применяя политику кнута и пряника: «Ах, Антон, если бы сейчас была твоя пьеса! Отчего это так долго всегда! Сейчас надо бы приниматься, и чтоб весной ты уже видел репетиции. А то опять все отложено на неопределенный срок; я начну с тобой поступать более энергично. Так нельзя, дусик милый. Квасить и квасить пьесу. Я уверена, что ты еще не сел. Тебе, верно, не нужны тишина и покой для писания. Надо, чтобы были толчея и суета кругом. Авось тогда ты засядешь. Ну, прости, только обидно, что так долго. Ждут, ждут без конца, и все только и слышишь кругом: ах, если бы сейчас была пьеса Чехова! Напишешь ее к весне и потом опять положишь киснуть на неопределенный срок. Как она тебе не надоест!»,[707]707
Письмо от 27 февраля 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 628. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]«Засел ты за пьесу наконец? Что ты делаешь целый день? Я бы на твоем месте писала целый день»,[708]708
Там же. С. 631. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]«Как тебе не стыдно, что ты при писании пьесы можешь думать, что вдруг она не будет делать полный сбор. Даже в шутку нельзя допускать этой мысли. Слышишь, золотой мой?»[709]709
Там же. С. 634. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Чехов в ответ сперва вяло отшучивается, сообщая, что за пьесу уже засел и даже написал на листе бумаги название, потом немножко обижается, хотя, как всегда, прикрывается шуткой: «Ты делаешь мне выговор за то, что у меня еще не готова пьеса, и грозишь взять меня в руки. В руки бери меня, это хорошая угроза, она мне улыбается, я только одного и хочу – попасть к тебе в руки, что же касается пьесы, то ты, вероятно, забыла, что я еще во времена Ноя говорил всем и каждому, что я примусь за пьесу в конце февраля или в начале марта. Моя лень тут ни при чем. Ведь я себе не враг, и если бы был в силах, то написал бы не одну, а двадцать пять пьес».[710]710
Письмо от 4 марта 1903 г. (Примеч. автора.). Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 634. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Спустя два дня он проявляет больший оптимизм: «В „Вишневом саду“ ты будешь Варвара Егоровна, или Варя, приемыш 22 лет. Только не сердись, пожалуйста. <…> Если пьеса у меня выйдет не такая, как я ее задумал, то стукни меня по лбу кулаком. У Станиславского роль комическая, у тебя тоже».[711]711
Письмо от 6 марта 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 636. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] А еще чуть позже уточняет: «„Вишневый сад“ будет, стараюсь сделать, чтобы было возможно меньше действующих лиц; этак интимнее».[712]712
Письмо от 21 марта 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 646. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] И наконец 9 апреля внезапно заявляет: «Пьесу буду писать в Москве, здесь писать невозможно. Даже корректуру не дают читать».[713]713
Там же. С. 658. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
О Москве он мечтал уже давно, надеясь прожить там до декабря, но доктор Альтшуллер был неумолим. «…Сегодня был Альтшуллер и уверял меня, что до середины апреля мне нельзя ехать в Москву ни в коем случае», – пишет он 5 марта и сразу начинает просить, подкрепляя свою просьбу убедительными аргументами: «Дуся моя, жена моя, актрисуля, голубчик родной, не найдешь ли ты возможным приехать в Ялту на Страстной, а если поедете в Петербург – то на Фоминой? Мы бы с тобой чудесно пожили, я бы поил тебя и кормил чудесно, дал бы тебе почитать „Вишневый сад“, а потом вместе покатили бы в Москву. Альтшуллер клянется, что плеврит у меня еще не всосался и что ехать ни в коем случае нельзя. Приезжай, роднуля! Театр даст тебе отпуск, я упрошу, если твоих просьб будет недостаточно. Напиши, что приедешь, а главное – подумай. Подумай, как для тебя лучше и удобнее. Но я так соскучился, так жажду видеть тебя, что у меня нет терпения, я зову и зову. Ты не сердись, дуся, а сначала подумай, обсуди».[714]714
Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 635. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Но об ее приезде не могло быть и речи: Ольга нужна была в театре, предстояли гастроли в Санкт-Петербурге. И если Чехов зависел от решения врача, то она подчинялась режиссеру. Ни тот ни другая не были свободны в передвижениях, и отсюда – снова более чем печальное письмо в ответ: «Я в ужасном состоянии. Я ужасная свинья перед тобой. Какая я тебе жена? Раз приходится жить врозь. Я не смею называться твоей женой. Мне стыдно глядеть в глаза твоей матери. Так и можешь сказать ей. И не пишу я ей по той же причине.
Раз я вышла замуж, надо забыть личную жизнь и быть только твоей женой. Я вообще ничего не знаю и не знаю, что делать. Мне хочется все бросить и уйти, чтоб меня никто не знал.
Ты не думай, что это у меня настроение. Это всегда сосет и точит меня. Ну, а теперь проскочило.
Я очень легкомысленно поступила по отношению к тебе, к такому человеку, как ты. Раз я на сцене, я должна была оставаться одинокой и не мучить никого.
Прости меня, дорогой мой. Мне очень скверно. Сяду в вагон и буду реветь. Рада, что буду одна».[715]715
Письмо от 13 марта 1903 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 640. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Чехов пытается ее успокоить, но и ему очень грустно: «Не говори глупостей, ты нисколько не виновата, что не живешь со мной зимой. Напротив, мы с тобой очень порядочные супруги, если не мешаем друг другу заниматься делом. Ведь ты любишь театр? Если бы не любила, тогда бы другое дело. Ну, Христос с тобой. Скоро, скоро увидимся, я тебя обниму и поцелую 45 раз. Будь здорова, деточка».[716]716
Письмо от 18 марта 1903 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 644. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
И вот наконец с приходом теплых дней Альтшуллер смягчается и разрешает своему пациенту… нет, не ехать в Москву, а только – прогуливаться вдоль дамбы. Но Чехов не пользуется этой привилегией, он делает несколько шагов по саду – обе собаки по пятам, обследует деревья, перенесшие зиму, наблюдает за тем, как слуга подстригает розовые кусты, потом начинает задыхаться и садится на скамейку лицом к морю…
С весной в Крым приехали друзья писателя: Бунин, Горький, Куприн. Они часто навещали его, пытались развлечь разговорами. Но Чехов слушал их рассеянно, с почти сонным безразличием, зажав трость между коленями. Лицо его было землистым, взгляд блуждал. Похоже было, что жизнь совершенно утратила для него вкус и смысл. Иногда с его губ срывались странные фразы. Бунин вспоминает одну такую: «Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот…»[717]717
Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство им. Чехова, 1955. С. 99 (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Сказав что-нибудь такое, хозяин проявлял нетерпение, и посетители, друзья тем более, понимали, что им пора уходить. «Голова болит, кашляю, гости сидят подолгу, вчера один бородатый просидел 2 часа около моего стола, но все же чувствую себя сносно и помышляю о нашей встрече», – пишет он Ольге 11 апреля. Поездка в Москву, к жене стала для него навязчивой идеей, его не очень пугает даже то, что новая их квартира высоко: «Но вот беда: подниматься по лестнице! А у меня в этом году одышка. Ну да ничего, как-нибудь взберусь».[718]718
Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 660. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Он дошел до того, что просто возненавидел Ялту, всех ее назойливых обитателей, доктора Альтшуллера, противившегося его отъезду. И 22 апреля, ни с кем не посоветовавшись, взял да и сбежал в Москву.
Глава XV
«…как мне трудно было писать пьесу!»
После теплой солнечной Ялты – сырая и холодная Москва… Чехову пришлось какое-то время не выходить из дому. Новая квартира, которую Ольга с Машей сняли на Петровке, показалась ему очаровательной. Но она находилась на третьем этаже, а лифта в доме не было. Когда жена и сестра сообщили ему об этом в письме, он не придал сказанному никакого значения. А теперь начались муки: свист вместо дыхания, перебои в сердце, словно бы выскакивавшем из груди, – так ему давался подъем по лестнице. И путь до своей площадки занимал полчаса с остановками. Избегая выходить, он приглашал к себе друзей. Звал некоторых – приходили многие. Среди настоящих друзей был верный Бунин, который напишет потом: «Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не „грусть“, не „теплоту“. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде. Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. Руки у него были большие, сухие, приятные. Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко: сам он говорил прекрасно – всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом».[719]719
Порядок фраз Труайя сохранен. Цит. по: Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство имени Чехова, 1955. С. 73. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Весть о том, что Чехов вернулся в Москву, быстро облетела весь город, и толпой повалили просители. Как всегда, Чехов считал, что обязан принять каждого и терпеливо выслушивал юных авторов, бормочущих нечто нечленораздельное, старых писателей-неудачников, журналистов, нуждавшихся в «свежатинке» для репортажа, издателей, пришедших за рукописями, кудахчущих дам, мечтающих сделать литературную карьеру…
Чтобы приободрить Чехова, Толстой прислал ему свою фотографию с подписью и список его рассказов, которые считал лучшим из всего, что тот до сих пор опубликовал. Рассказов таких оказалось пятнадцать «первого сорта» и пятнадцать «второго».[720]720
Вот какие рассказы, по мнению Толстого, оказались произведениями «первого сорта»: «Детвора», «Хористка», «Драма», «Дома», «Тоска», «Беглец», «В суде», «Ванька», «Дамы», «Злоумышленник», «В потемках», «Спать хочется», «Супруга», «Мальчики». Рассказы, отнесенные ко «второму сорту», были следующие: «Беззаконие», «Горе», «Ведьма», «Верочка», «На чужбине», «Кухарка женится», «Ну, публика», «Маска», «Женское счастье», «Нервы», «Свадьба», «Беззащитное существо», «Бабы», «Переполох», «Канитель». (Примеч. автора.)
[Закрыть] Яснополянский мудрец даже приказал переплести в отдельный том те рассказы, которые ему особенно нравились и которые он перечитывал особенно часто. Толстой говорил Лазаревскому: «Чехов – это Пушкин в прозе», добавляя, что в рассказах Чехова, так же как в стихах Пушкина, мы находим отражение собственных чувств автора, а некоторые из этих рассказов просто восхитительны.
Теперь широкая публика и знатоки пришли к согласию: все признавали Чехова «птицей высокого полета». Но ведь он явился на литературную арену после Гоголя, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Толстого – что же такого нового он принес, чтобы оправдать увлечение им современников? Главное тут: искренность и чувство меры. Знаменитые предшественники Чехова были, каждый в своем роде, страстотерпцами. Они брали читателя за душу преувеличениями в своих речах, лиризмом описаний, роскошью и магией языка. Он первый заговорил тихо, доверительно. В противовес медленному, гармоничному, художественному развитию повествования, свойственному Тургеневу, Чехов использовал стиль, для которого характерен был лаконизм, при котором каждое слово имело свое тайное и очень важное значение. Другие великие русские писатели делились с читателем своими эмоциями, он же оставлял читателя наедине с событиями и характерами, не требовал от него во что бы то ни стало слез или смеха, но довольствовался тем, что прописывал ему время от времени щелчок по нервам. Таким образом, ничего не объясняя, он готовил читателя, преподнося ему одну деталь за другой, одно потрясение за другим, к глубокому сопереживанию со своими персонажами. И потому его читатель не глотал произведение, пассивно им восторгаясь, а – сам того не понимая – сотрудничал с творцом в создании этого произведения. Тут не было интеллектуального закармливания, а было содружество. Если же говорить о строе мыслей Чехова, выраженном в его рассказах и пьесах, то он, несомненно, отличался безрадостным отношением к настоящему, но одновременно – и простодушной верой в прогресс, в совершенствование человека, в возможность лучшей жизни. Чехов хранил в глубине души мистическое беспокойство, предчувствие чуда, которое он сам был не в состоянии определить словами. Эта причудливая смесь научного мышления и человеческой нежности, теплой иронии и холодного наблюдения и придавала его прозе необычайную, подчеркнутую правдивость. Несмотря на природную скромность, писатель сознавал, что он – основоположник нового способа мыслить и писать в России. Недаром же он говорил Горькому, что путь, проложенный им, останется неизменным и верным, в чем, собственно, и состоит его единственная заслуга.
Не первый день, даже не первый год друзья Чехова во главе с Горьким пытались убедить его, что договор с Марксом кабальный и условия нужно пересмотреть. Действительно, издатель, получив около двухсот тысяч рублей прибыли от продажи произведений «своего» автора, теперь издавал их в виде приложения к журналу «Нива», не платя Чехову ни копейки. Речи о том, чтобы расторгнуть договор, и быть не могло: в этом случае пришлось бы возвращать семьдесят пять тысяч, выплаченных, когда было подписано соглашение. Но можно было попросить Маркса пересмотреть условия этого соглашения и, учитывая блестящий коммерческий успех издания, выплачивать автору треть доходов от продажи его книг. Если бы Чехов не получал крупных отчислений от спектаклей, сейчас он был бы в нужде, несмотря на то что продавались его книги превосходно. Однако всякий раз, как друзья предлагали писателю послать письмо Марксу, он наотрез отказывался. А теперь, после долгих размышлений, решил съездить в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с ним и поговорить. Поехал и – наткнулся на стену. Издатель и слышать не хотел о пересмотре условий договора. Впрочем, Чехов никогда не умел вести деловых переговоров. Он по-детски терялся, видя ряды цифр. А оказавшись лицом к лицу с решительным противником, испытывал почти физическую невозможность что-то потребовать, говорить громко и с напором, стукнуть кулаком по столу. Вернувшись в Москву, он написал сестре, что поговорил с Марксом, но это не дало никакого результата: тот подарил ему «около четырех пудов» его роскошно изданных сочинений (Чехов взял) и предложил пять тысяч рублей на лечение (Чехов, «естественно, не взял»).
Мечтой его, лелеемой всю зиму, было поехать с Ольгой в Швейцарию и Италию. Но он боялся отправляться в такое путешествие, не получив квалифицированного медицинского совета от какого-нибудь светила. Выбор пал на профессора Остроумова, который лечил его в своей клинике несколько лет назад во время первого легочного кровотечения. Профессор после осмотра сказал, что пациент в очень плохом состоянии, от туберкулеза сильно пострадало правое легкое, а левое – сплошь в эмфиземе. При таких обстоятельствах он не мог рекомендовать больному поездку за границу – даже Ялту и ту не советовал. «Вы инвалид», – таков был приговор Остроумова. Назавтра после консультации Чехов написал сестре, которая в это время была с матерью в Аутке, что профессор долго его выслушивал, выстукивал, ощупывал, «…прописал мне пять рецептов, а главное – запретил мне жить зимою в Ялте, находя, что ялтинская зима вообще скверна, – рассказывал он, – и приказал мне проводить зиму где-нибудь поблизости от Москвы, на даче». И заканчивал письмо восклицанием: «Вот тут и разберись!», а потом долго шутил на тему о том, что Остроумов в тот день был попросту пьян.
На самом деле предписание медицинского светила привело Чехова в восторг. Забыв о печальном диагнозе, он думал только об одном: теперь ему не нужно будет проводить холодное время в опротивевшем ему уголке Крыма, он будет зимовать в Москве, рядом с женой, в суете литературной жизни. И не из-за собственного каприза, а по состоянию здоровья, по рекомендации крупного врача. Он поторопился написать Маше, что следует продать гурзуфские и кучук-койские имения, Ольга стала подыскивать дачу в окрестностях Москвы.
Однако, сам будучи врачом, он все-таки был удивлен противоречивыми мнениями коллег по медицинскому цеху. Кому верить? Альтшуллеру, который проповедовал целебность крымского воздуха, или Остроумову, приписывавшему этому воздуху, наоборот, неблагоприятное воздействие на больного? Писал доктору Средину в Ялту, что ничего не понимает: если Ялта так вредна, как же он провел там целых четыре зимы… Писал приятелю-журналисту Лаврову, что уверен: стоит ему обосноваться в Москве и начать привыкать к новым условиям зимовки, как врачи тут же снова отправят его в Крым или Каир…
В это самое время приятельница Ольги Мария Якунчикова предложила Чехову провести несколько недель у нее в Наро-Фоминском, поблизости от Москвы. Театральный сезон закончился, и Антон Павлович с Ольгой поторопились принять приглашение. Приехав в имение Якунчиковой, они обнаружили, что радушная хозяйка приготовила для них отдельный флигель, где легко могли бы разместиться десять человек. Чехов с радостью писал Марии Павловне, которая все еще находилась в Ялте, что тут есть речка, где полно рыбы, что вокруг много места для прогулок, что неподалеку старая заброшенная часовенка… И справлялся о любимом, разбитом своими руками аутском саде: «…в каком положении фруктовые деревья, розы и вообще растительность. Отошел ли эвкалипт? Как японские ирисы?»[721]721
Цит. по: Малюгин Л., Гитович И. Чехов. С. 542. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Чехов надеялся найти поблизости дачу на осень и зиму и объехал вместе с Ольгой все окрестности, но – тщетно. Те редкие дома, что казались им привлекательными, были слишком дороги. Двое суток супруги провели у «русского Рокфеллера», Саввы Морозова, в Воскресенске. Тогда Антон Павлович и сказал жене Морозова, что все написанное им – в прошлом, а как он сможет писать дальше – непонятно, и это его очень волнует. «Боюсь, мой тон вообще устарел», «мне кажется, что как литератор я уже отжил» – такие мысли точили его изо дня в день.[722]722
Там же. С. 540. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Вернувшись в Наро-Фоминское, писатель хотел вернуться и к «Вишневому саду», начатому год назад, но сначала пришлось держать корректуру «Невесты». Недовольный текстом, он стал переписывать большие куски. 5 июня 1903 года писал Вересаеву: «Рассказ „Невеста“ искромсал и переделал в корректуре», а 12-го, отсылая рассказ издателю Миролюбову, извинялся: «…сегодня послал Вам заказною бандеролью рассказ. Простите, делать мне нечего, и вот на досуге я увлекся и почеркал весь рассказ».[723]723
Оба письма цит. по: Чехов А. Т. 8. С. 554. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Труд был тяжелый, истощал его силы, но Антон Павлович никогда не мог отправить издателю несовершенное произведение. Он видел в такой работе над рукописью своего рода интеллектуальную гигиену, считал ее проявлением профессиональной чести писателя.








