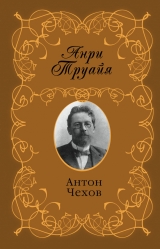
Текст книги "Антон Чехов"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
Чехов сидел чужаком, на краю стола, для всех посторонний, и с тоской поглядывал на вечереющий сад, где солнце уже резало пополам стволы берез и кипело последним золотом в их пышных вершинах.
Он ничего не ел, кроме супа, пил привезенную с собой минеральную воду „аполлинарис“ и весь обед недружелюбно молчал, лишь изредка и с неохотой отвечая на реплики Морозова, всячески старавшегося вовлечь его в общий разговор.
Обед затянулся до сумерек. Когда все встали, Чехов, сославшись на усталость, ушел к себе в комнату, ни с кем не попрощавшись и, видимо, обиженный», – вспоминал Тихонов.[662]662
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников / Серебров А. Н. (Тихонов). «О Чехове». С. 472. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
К хозяину имения, деловому человеку, изображавшему из себя благодетеля, Чехов испытывал сложное чувство восхищения и неприязни одновременно. Он ценил честолюбие, общительность, сердечную открытость Саввы Морозова, но равно презирал «непосильное бремя» богатства, символом которого был этот человек, и раболепие тех, кто подхватывал крошки с его стола. Молодому студенту Тихонову, также служившему у миллионера, он сказал, вернувшись из приемного покоя, куда ходил смотреть, как лечат больных: «Богатый купец… театры строит… с революцией заигрывает…[663]663
Ходили слухи, что Савва Морозов, чтобы продемонстрировать свободомыслие, оказывал финансовую помощь русским революционерам. (Примеч. автора.)
[Закрыть] а в аптеке нет иоду и фельдшер – пьяница, весь спирт из банок выпил и ревматизм лечит касторкой… Все они на одну стать – эти наши российские рокфеллеры».[664]664
Там же. С. 478. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Вынужденный покинуть свое поместье и уехать по делам, Морозов поручил гостя заботам Тихонова. Вначале молодому человеку, ожидавшему, что знаменитый писатель должен быть либо «величавым апостолом, как Л.Н. Толстой», либо выступать «в ореоле пламенного витии, как Герцен и Чернышевский», Чехов показался слишком простым, обыденным, раздражительным. Но вскоре они подружились: гуляли вместе по березовой роще, удили удочкой рыбу, беседовали о литературе и политике. Иногда парадоксальные суждения писателя задевали экзальтированного двадцатидвухлетнего юношу. Однажды Чехов произнес с иронией: «Студенты бунтуют, чтобы прослыть героями и легче ухаживать за барышнями…»[665]665
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников / Серебров А. Н. (Тихонов). «О Чехове». С. 476. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] – и оскорбленный этим высказыванием Тихонов нахмурился. И вот что было дальше, как он позже вспоминал:
«Чехов это заметил и переменил разговор. Ласково поглядывая в мою сторону и посмеиваясь на этот раз только одними глазами, он стал рассказывать о том, как хорошо на Каме, по которой он только что проехал, и какие там вкусные стерляди. Рассказал несколько смешных анекдотов о рассеянности Морозова и о том, как надо подманивать карасей, чтобы они лучше клевали.
Вставая, чтобы идти спать, он слегка обнял меня за плечи и спросил шепотом, как поп на исповеди:
– А сами вы не пишете?.. Нет! Вот это хорошо. А то нынче студенты, вместо того чтобы учиться, либо романы пишут, либо революцией занимаются… А впрочем, – возразил он сам себе, – может быть, это и лучше. Мы, студентами, пиво пили, а учились тоже плохо. Вот и вышли такими… недотёпами…
Он весело рассмеялся, смакуя меткое словцо, ставшее впоследствии таким знаменитым».[666]666
Оно включено в последнюю реплику Фирса в «Вишневом саде». Там же. С. 476–477. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
А в другой раз было так. «Зажав между костлявыми коленями свои длинные руки, он сидел согнувшись на стуле, против раскрытой двери террасы, и, вглядываясь в темноту сада, точно споря с кем-то невидимым, кто там находился, медленно говорил:
– Прежде всего, друзья мои, не надо лжи… Искусство тем особенно и хорошо, что в нем нельзя лгать… Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей и самого Господа Бога – были и такие случаи, – но в искусстве обмануть нельзя…
Он на минуту замолчал, как бы ожидая возражений своего невидимого собеседника, и, не дождавшись, продолжил:
– Вот меня часто упрекают, даже Толстой упрекал, что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников… А где их взять? Я бы и рад!
Он грустно усмехнулся:
– Жизнь у нас провинциальная, города немощеные, деревни бедные, народ поношенный… все мы в молодости восторженно чирикаем, как воробьи на дерьме, а к сорока годам – уже старики и начинаем думать о смерти… Какие мы герои!»[667]667
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников / Серебров А. Н. (Тихонов). «О Чехове». С. 480–481. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Незадолго до отъезда Чехова из Усолья Морозов решил дать его имя только что построенной школе. Чехову сильно нездоровилось, и он не смог пойти на торжество. Тогда хозяин решил, что пусть он так и лежит на кушетке, а делегация с приветственным адресом придет к нему. Написать адрес поручили Тихонову, прочесть его – управляющему имением, прозванному «дядей Костей».
«В комнату несмело вошла делегация: учитель, священник, фельдшер и начальник станции. „Дядя Костя“ выступил вперед и, задыхаясь от волнения, прочел мой высокопарный адрес. Настало торжественное молчание, начальник станции даже вытянул руки по швам, как на параде.
Чехов медленно поднялся, взял папку с адресом из дрожащих рук „дяди Кости“ и, оглядев его, сказал так, будто ничего не произошло:
– Константин Иванович, а у вас опять брюки не застегнуты!
„Дядя Костя“ закрыл ладонями живот и присел от испуга. Все засмеялись и громче всех, басом, начальник станции, усатый жандарм».[668]668
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников / Серебров А. Н. (Тихонов). «О Чехове». С. 479. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
А Чехов улыбался, довольный тем, что одним словом сумел разрушить унылую торжественность церемонии, показавшейся ему нелепой.
Как когда-то Горький, Тихонов был покорен простотой этого прославленного писателя и мужеством, с каким он переносил свою болезнь. Впалая грудь, надвинутое на глаза кепи, бледное лицо, седеющая бородка клином – таким студент увидел Чехова. Заметил, как он двигается, – мелкими стариковскими шажками, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание. У левого бедра на ремне через плечо была подвешена квадратная охотничья фляжка в кожаном футляре. Когда случались приступы кашля, Антон Павлович отвинчивал крышку от этой фляжки и, стыдливо отвернувшись, сплевывал в отверстие вязкую красноватую мокроту. После чего вздыхал, надевал свалившееся пенсне и пытался улыбнуться.
Тихонов жил в соседней с писателем комнате. Однажды грозовой ночью он услышал за стеной сильный кашель, перемежающийся стонами и каким-то бульканьем. Студент, как был, босой, в ночной сорочке, побежал к Антону Павловичу. Там он увидел страшную картину:
«На тумбочке у кровати догорала оплывшая свеча… Чехов лежал на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившись и вытянув за край кровати длинную с кадыком шею. Все тело его содрогалось от кашля… И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю эмалированную плевательницу, как жидкость из опрокинутой вертикально бутыли, выхаркивалась кровь». Тихонов назвал его по имени… Раз, другой… «Чехов отвалился навзничь на подушки, – пишет дальше мемуарист, – и, обтирая платком окровавленные усы и бороду, медленно, в темноте, нащупывал меня взглядом.
И тут я в желтом стеариновом свете огарка впервые увидел его глаза без пенсне. Они были большие и беспомощные, как у ребенка, с желтоватыми от желчи белками, подернутые влагой слез…
Он тихо, с трудом проговорил:
– Я мешаю… вам спать… простите… голубчик…
Ослепительный взмах за окном, и сейчас же за ним страшный удар по железной крыше заглушил его слова.
Я видел только, как под слипшимися от крови усами беззвучно шевелились его губы.
На следующий день Савва, бросив осматривать именье, увез больного Чехова в Пермь».[669]669
Воспоминания Тихонова. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников / Серебров А. Н. (Тихонов). «О Чехове». С. 482. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Прошло несколько дней, Чехов почувствовал себя лучше и отправился в Москву. И, как только вернулся в город, сразу же захотел уехать оттуда снова. На этот раз – вместе с Ольгой, которая вроде бы совсем поправилась. Мать Станиславского пригласила их в Любимовку, имение Алексеевых неподалеку от Москвы.
Дом, где остановилась чета, находился в самом центре живописной деревушки, в нескольких шагах от него текла река, вокруг росли высокие деревья. Несмотря на то что гостей тут было много, Чеховым очень нравилось в деревне. «В Любимовке мне очень нравится, – писал Чехов Станиславскому, который путешествовал в это время за границей. – Апрель и май достались мне недешево, и вот мне сразу привалило, точно в награду за прошлое, так много покоя, здоровья, тепла, удовольствия, что я только руками развожу. И погода хороша, и река хороша, а в доме питаемся и спим, как архиереи. Шлю Вам тысячи благодарностей, прямо из глубины сердца. Давно уже я не проводил так лета. Рыбу ловлю каждый день, по пяти раз на день, ловится недурно (вчера была уха из ершей), и сидеть на берегу так приятно, что и выразить не могу. Одним словом, все очень хорошо. Только вот одно плохо: ленюсь и ничего не делаю. Пьесы еще не начинал, только обдумываю. Начну, вероятно, не раньше конца августа».[670]670
Письмо от 18 июля 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 12. С. 496. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Такие солнечные и беззаботные дни продолжались для них до 14 августа, когда Чехов должен был отправиться в Ялту, а Ольга – в Москву, где уже начинались репетиции. И все-таки ее обидело, что муж даже не предложил ей поехать в Крым вместе. Подозревая, что это Мария Павловна настаивает на том, чтобы брат вернулся домой один, она написала золовке письмо, где расставила все точки над «i», и потребовала, чтобы Чехов, не читая, отдал это послание сестре. Супруги поссорились. Антон Павлович отказался задержаться даже на день и, уезжая, злился на жену, сестру, мать и себя самого.
Прибыв в Ялту, он попытался разрядить обстановку, но получилось так, что только подлил масла в огонь. Маша, прочитав письмо Ольги, возмутилась агрессивным тоном невестки и показала ее письмо брату. И Чехов тут же написал жене: «Сегодня мне дали прочесть твое письмо, я прочел и почувствовал немалое смущение. За что ты обругала Машу? Клянусь тебе честным словом, что если мать и Маша приглашали меня домой в Ялту, то не одного, а с тобой вместе. Твое письмо очень и очень несправедливо, но что написано пером, того не вырубишь топором, Бог с ним со всем. Повторяю опять: честным словом клянусь, что мать и Маша приглашали и тебя и меня – и ни разу меня одного, что они к тебе относились всегда тепло и сердечно». В том же письме он говорит, что скоро вернется в Москву, а здесь жить не станет, хотя здесь и очень хорошо, и пьесы писать не будет. И добавляет, желая сгладить упреки: «Вчера вечером, приехав весь в пыли, я долго мылся, как ты велела, мыл и затылок, и уши, и грудь. Надел сетчатую фуфайку, белую жилетку. Теперь сижу и читаю газеты, которых очень много, хватит дня на три. Мать умоляет меня купить клочок земли под Москвой. Но я ничего ей не говорю, настроение сегодня сквернейшее, погожу до завтра. Целую тебя и обнимаю, будь здорова, береги себя».[671]671
Письмо от 17 августа 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 465–466. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Не получая от нее ответа, он смиренно повторяет:[672]672
Ольга к этому времени написала ему шесть писем, и только три или четыре дня он, как сообщает в этом письме, их не получал – издержки «любви по почте»: время кажется длиннее.
[Закрыть]«Не хочешь писать – твое дело, только поручи кому-нибудь извещать меня о твоем здоровье, умоляю тебя…Радость моя, не терзай меня, не мучай понапрасну, давай знать о себе почаще. Ты сердита на меня, а за что – никак не пойму. За то, что уехал от тебя? Но ведь с тобой я прожил с самой Пасхи, не разлучаясь, не отходя от тебя ни на шаг, и не уехал бы, если бы не дела и не кровохарканье. Долга я не получил, кстати сказать, а кровохарканья нет уже. Не сердись же, родная моя».[673]673
Письмо от 24 августа 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 474. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Наконец Ольга стала подавать признаки жизни. Но – требовательным тоном. Вместо того чтобы успокоиться – все-таки время прошло, она продолжала злиться и сухо замечала, что Мария не имела права показывать письма Антону, что его мать и сестра не хотели, чтобы он оставался рядом с ней, когда она болела, и что, должно быть, он не торопится увидеться с ней снова, потому что просто разлюбил. Чехов пытается ее урезонить: «Письма твоего Маша не давала мне, я нашел его в комнате матери на столе, машинально взял и прочел – и понял тогда, почему Маша была так не в духе. Письмо ужасно грубое, а главное, несправедливое. Я, конечно, понял твое настроение, когда ты писала, и понимаю. А твое последнее письмо какое-то странное, и я не знаю, что с тобою и что у тебя в голове, дуся моя. Ты пишешь: „А странно было ждать тебя на юг, раз знали, что я лежу. Явно высказывалось нежелание, чтобы ты был около меня, больной…“ Кто высказывал желание? Когда меня ждали на юг? Я же клялся тебе в письме честным словом, что меня одного, без тебя, ни разу не звали на юг. Нельзя, нельзя так, дуся, несправедливости надо бояться. Надо быть чистой в смысле справедливости, совершенно чистой, тем паче, что ты добрая, очень добрая и понимающая. Прости, дусик, за эти нотации, больше не буду, я боюсь этого». И дальше: «Ты же не говори Маше, что я читал твое письмо к ней. Или, впрочем, как знаешь». А заканчивает печально: «От твоих писем веет холодком, а я все-таки пристаю к тебе с нежностями и думаю о тебе бесконечно. Целую тебя миллиард раз, обнимаю. Пиши мне, дуся, чаще, чем один раз в пять дней. Все-таки я твой муж. Не расходись со мной так рано, не поживши как следует, не родивши мне мальчишку или девчонку. А когда родишь, можешь поступать как тебе угодно. Целую тебя опять-таки. Твой А.»[674]674
Письмо от 27 августа 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. Кстати, в этот же день Ольга писала А.П. так: «Опять прошел день, и опять ничего от тебя. Что это значит? Сильно удерживаюсь, чтобы не послать телеграмму, так как знаю, что ты этого терпеть не можешь и будешь ругаться. Но мне тяжело сидеть здесь одной и к тому же без писем. Здоров ли ты, дусик? Сердишься на меня и потому не пишешь? Я тебе противна, потому что ною? Ты отдыхаешь без меня? Мне всякие глупости лезут в голову, когда я не чувствую, что ты около меня, что ты любишь меня.» (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]«Кланяйся матери и Маше, хотя я теперь, верно, в опале. Вероятно, имя мое избегают произносить. Целую тебя, моего дорогого, скучаю без тебя адски. Пиши мне чаще, умоляю. Мне жутко, когда ты не пишешь».[675]675
Там же. С. 477–479. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
На этот раз Ольга встала на дыбы и в ответе на письмо обвинила мужа в недостатке откровенности. Впрочем… он ведь не скрывает, что не видит смысла в их дальнейшем совместном существовании. «Сегодня пришли два твоих письма и открытка, милый мой! Спасибо, что не забываешь меня.
Тебе, значит, сюда не хочется вернуться? А я-то дура, мечтала! Отчего ты сразу мне не сказал, что уезжаешь совсем? Недаром я это предчувствовала. Отчего откровенно мне не сказал, что уезжаешь из-за кровохарканья? Это так просто и так понятно. Ты, значит, скрывал от меня. Как мне это больно, что ты относишься ко мне, как к чужой или как к кукле, которую нельзя тревожить. Я была бы спокойнее и сдержаннее, если бы ты был откровенен со мной. Ты, значит, находишь, – с горечью пишет она, – что мы достаточно пожили вместе. Пора разлучаться? Хорошо». И дальше поднимает вопрос о карьере, которая, как считает Книппер, послужила причиной «испорченной» их жизни. Но должна ли она отказаться от театра, если он так мало нуждается в ее присутствии? «Я чего-то не понимаю во всем. Просто не понимаю. Что-то, должно быть, случилось. Хотя твои письма милы и ласковы, но отчего меня дрожь пробирает, когда я их читаю по несколько раз?
Как мы с тобой чудесно жили здесь! Хоть бы одним словом ты вспомнил в письмах своих о прошлом месяце! Мне было бы так приятно.
Ты возненавидишь мои письма. А я не могу молчать. Так, не подготовившись, – предстоит большая разлука с тобой, потому что осенью тебе никак нельзя приехать в Москву. Я бы хотела провести сентябрь в Любимовке.
Вообще получается чепуха из нашей жизни. Боже мой, если бы я знала, что я тебе нужна, что я могу тебе помогать жить, что ты чувствовал бы себя счастливым – будь я всегда при тебе! Если бы ты мог дать мне эту уверенность! Но ведь ты способен, – делает она вывод, – жить около меня и все молчать. И я иногда чувствовала себя лишней. Мне казалось, что нужна я тебе только как приятная женщина, а я сама как человек живу чуждая тебе и одинокая. Скажи мне, что я ошибаюсь, разбей меня, если это не так. Не думай, что я болтаю вздор, не думай, что я сердита на тебя, если обвиняю тебя в чем-нибудь. Ты единственный человек в мире для меня, и если я тебе делаю неприятности, то только бессознательно или когда у меня очень уж смутно на душе. Ты не должен винить меня. Ты человек сильный, а я ничтожный совершенно и слабый. Ты все можешь переносить молча, у тебя никогда нет потребности поделиться. Ты живешь своей, особенной жизнью и на каждодневную жизнь смотришь довольно равнодушно. Как это ужасно, Антон, если все, что я пишу, вызовет у тебя улыбку и больше ничего, или, может, покажешь письмо это Маше, как и она сделала?
Прости мне, дусик мой, нежный мой, любимый мой, не раздражайся на тон моего письма. Пойми только хорошенько, и больше мне ничего не надо. Мне странно тяжело и пусто без тебя. Я как потерянная и дальнейшую жизнь не рисую себе совершенно. Я знаю, ты не любишь таких писем. Скажи мне, что лучше: написать все так, как я сделала, или все сжать в себе и написать милое, внешнее письмо, а себя оставить в стороне? Как ответишь, так и буду делать. Целую тебя крепко и обнимаю и ласкаю дорогого моего. Будь счастлив».[676]676
Письмо от 28 августа 1902 г. (автором не датировано). Цит. по: Чехов А. Переписка с женой. С. 479–480. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Другие пассажи из того же письма доказывают, что Ольга прекрасно разбирается в странном характере мужа. Так, она обвиняет его в том, что он, сохраняя внешнюю любезность, достаточно безразличен к судьбам других, что он всегда недоволен окружающим его миром, временем, в котором он живет, что он воспринимает женщину как предмет, не пытаясь проникнуть в ее чувства, что не ревнует ее к поклонникам, которые вокруг нее вертятся, что постоянно жалуется на изобилие визитеров, а на самом деле, в глубине души, счастлив, когда они приходят… Под таким градом обвинений встал на дыбы в свою очередь Чехов. «Милая моя, родная, опять я получил от тебя странное письмо. Опять ты взваливаешь на мою башку разные разности. Кто тебе сказал, что я не хочу вернуться в Москву, что я уехал совсем и уже не вернусь этой осенью? – отвечает он жене. – Ведь я же писал тебе ясно, русским языком, что приеду непременно в сентябре и буду жить вместе с тобой до декабря. Разве не писал? Ты обвиняешь меня в неоткровенности, а между тем ты забываешь все, что я говорю тебе или пишу.
И просто не придумаю, что мне делать с моей супругой, как писать ей. Ты пишешь, что тебя дрожь пробирает при чтении моих писем, что нам пора разлучаться, что ты чего-то не понимаешь во всем… Мне кажется, дуся моя, что во всей этой каше виноват не я и не ты, а кто-то другой, с кем ты поговорила. В тебя вложено недоверие к моим словам, к моим движениям, все тебе кажется подозрительным – и уж тут я ничего не могу поделать, не могу и не могу. И разуверять тебя и переубеждать не стану, ибо бесполезно. Ты пишешь, что я способен жить около тебя и все молчать, что нужна ты мне только как приятная женщина и что ты сама как человек живешь чуждой мне и одинокой… Дуся моя милая, хорошая, ведь ты моя жена, пойми это наконец! Ты самый близкий и дорогой мне человек, я тебя любил безгранично и люблю, а ты расписываешься „приятной“ женщиной, чуждой мне и одинокой… Ну, да Бог с тобой, как хочешь. <…> Дуся моя, будь женой, будь другом, пиши хорошие письма, не разводи мерлехлюндии, не терзай меня. Будь доброй, славной женой, какая ты и есть на самом деле. Я тебя люблю сильнее прежнего и как муж ни в чем перед тобой не виноват, пойми же это наконец, моя радость, каракуля моя. До свидания, будь здорова и весела. Пиши мне каждый день непременно. Целую тебя, пупсик, и обнимаю».[677]677
Письмо от 1 сентября 1902 г. (Примеч. автора.) Чехов А. Переписка с женой. С. 485–486. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Ольга устала ссориться и стала мягче. Она сожалела об их спорах, но, говорила она, поскольку они существа из плоти и крови, а не призраки, то заслуживают прощения. В любом случае, она клянется: «Нет такого человека, который мог бы вложить мне недоверие к тебе».[678]678
Письмо от 5 сентября 1902 г. (Примеч. автора.) Там же. С. 489. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Просто она не может вынести разлуки после такого светлого времени, какое они пережили в Любимовке. Впрочем, она признает, что выходила за рамки: «Где ты, дуся моя? Простить тебе не могу, что ты не взял меня с собой. До сей поры были бы мы вместе и так до 1-го октября. Зачем ты был так суров со мной? И так мы все врозь, а ты еще устроил ненужную разлуку. Я потом решила, что ты уехал отчасти, чтобы отдохнуть от меня. Какой я гадкий, гадкий человек!..Что я читаю? Ничего ровно. Конец моей покойной жизни. Даже газету просматриваю довольно быстро. Нервлюсь и беспокоюсь – вот мое состояние. А главное – ничего не понимаю. Пишу я тебе каждый день почти. Ты не жалуешься? А письма бессодержательны и сухи, сама знаю. Только не оттого, что я к тебе охладела, как ты думаешь, а себя презираю – вот отчего. Я знаю, ты не любишь, когда я так выражаюсь, но это верно. Когда я думаю о тебе, я всегда представляю себя стоящей перед тобой на коленях и просящей прощения…»[679]679
Письмо от 14 сентября 1902 г. Там же. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] И в знак полного примирения сообщает мужу, что с нетерпением ждет приезда Марии Павловны в Москву, что уже поставила ей цветы в комнату. Чехов же с тревогой спрашивает, не запретил ли Ольге доктор иметь детей: «А позволил ли тебе Штраух иметь детей? Теперь же или после? Ах, дуся моя, дуся, время уходит! Когда нашему ребенку будет полтора года, то я, по всей вероятности, буду уже лыс, сед и беззуб, а ты будешь как тетя Шарлотта».[680]680
Письмо от 10 сентября 1902 г. (Примеч. автора, устроившего всю эту путаницу с датировками и ответами на то, о чем еще не спрошено). Чехов А. Переписка с женой. С. 495. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] И она ему отвечает: «Тебе хочется иметь детку? Отчего ты раньше противился? Будет у нас детка непременно».[681]681
Письмо от 14 сентября 1902 г. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Несмотря на эпистолярную бурю конца лета – начала осени, Чехов был не так уж недоволен тем, что проводит время в Ялте с матерью и сестрой, которые – в отличие от Ольги – не критиковали его холостяцких привычек, позволяли есть что захочется и ухаживали за ним с нежной сдержанностью. В начале сентября к нему приехал Суворин, с которым они вволю вспоминали о былом. Не принимая политики «Нового времени», Антон Павлович по-прежнему был привязан к старому другу и щедрому издателю, хранил в сердце своем признательность ему. После отъезда Суворина он даже защищал его от издателя местной газеты Привухина. Суворин, говорил он, несмотря на все свои недостатки, был первым, кто увеличил зарплату журналистам и улучшил условия их работы, кроме того, он помогал многим нуждавшимся писателям, способствовал распространению культуры…
Эти похвалы в адрес реакционера Суворина не мешали Чехову чувствовать все большую враждебность по отношению к государственной власти. 18 сентября, узнав о смерти Золя, он написал жене: «Сегодня мне грустно, умер Золя. Это так неожиданно и как будто некстати. Как писателя я мало любил его, но зато как человека в последние годы, когда шумело дело Дрейфуса, я оценил его высоко».[682]682
Там же. С. 504. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Но на самом деле куда больше волновало Чехова совсем другое «дело» – Горького. После долгого ожидания того, чтобы оно уладилось официальным путем, писатель убедился, что теперь уже решение об отмене избрания его друга почетным академиком бесповоротно. И подумал, что настало время высказать свою позицию по поводу злоупотребления властью в жизни литературы. Впервые в жизни он ощутил моральную необходимость вмешаться в политику, и вот тогда-то, 25 августа 1902 года, отправил письмо с прошением об отставке на имя председателя Отделения русского языка и словесности Академии наук А.Н. Веселовского.[683]683
Подробно об этом было рассказано выше, в главе XIII. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] В тот же день он написал Короленко, еще в июле отказавшемуся от звания академика, чтобы уведомить его о своем поступке, признавшись, что писал медленно и трудно, в самую сильную жару, но, сказал он, «наверное, я не мог бы сделать лучше».
Его прошение об отставке было перепечатано многими подпольными газетами и опубликовано за границей. Большая часть русской интеллигенции одобряла мужественное решение Чехова и Короленко. Теперь Чехов уже не был почетным академиком, но его авторитет от этого только вырос, и известность тоже.
Читающая публика ждала от любимого писателя новых замечательных творений. Он это знал и страдал от невозможности удовлетворить желание своих поклонников, потому что чувствовал себя выдохшимся, измученным, неспособным пошевелить рукой, и в голове ни единой мысли не осталось… Ольга из Москвы теребила его: надо написать новую пьесу. И делала это с такой же материнской властностью, с какой рекомендовала принять касторку или вымыть голову. Совершенно невежественная во всем, что касалось тайн творчества, она была уверена, что писателю достаточно усадить себя за стол перед белым листом бумаги, чтобы слова сами потекли из-под его пера. Немирович-Данченко со Станиславским вторили ей. Чехов вяло защищался: он устал, ему не хватает бодрости и задора, он больше не верит в свою способность выдумывать сюжет и характеры, посетители не оставляют ему ни минуты на работу… Чтобы потешить себя самого иллюзией творчества, он переделал старый рассказ (1885 года) «О вреде табака» в сценический монолог на нескольких страницах.[684]684
Пьеса написана в сентябре 1902 года и – вместе с водевилем 1886 года – была предназначена для второго издания VII тома собрания сочинений. Чехов писал тогда Марксу: «В числе моих произведений, переданных Вам, имеется водевиль „О вреде табака“, – это в числе тех произведений, которые я просил Вас исключить из полного собрания сочинений и никогда их не печатать. Теперь я написал совершенно новую пьесу (курсив мой. – Н.В.) под тем же названием, сохранив только фамилию действующего лица, и посылаю Вам для помещения в VII томе». Письмо от 1 октября 1902 г. (Примеч. автора.) Цит. по: Чехов А. Т. 9. С. 493. Там же – ответ Маркса. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Был ли это крах его писательской карьеры? Завтра, да, уже завтра он обретет второе дыхание! А пока он удивлялся тому, как мало интереса у него теперь вызывает повседневная жизнь. Возраст и болезнь еще больше отдалили его от людей. Он не испытывал необходимости исповедаться перед кем-то, даже перед Ольгой. Он никогда не был ни с кем чересчур откровенен, даже с друзьями, теперь эта ситуация еще обострилась. Чем более любезен он был внешне, тем меньше открыт собеседнику. И в записных книжках писал: «Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу один».[685]685
Цит. по: Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство им. Чехова, 1955. С. 108. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Хорошо знавший Антона Павловича Бунин вспоминал: «Того, что совершалось в глубине его души, никогда не знали во всей полноте даже самые близкие ему люди. А что же сказать о посторонних и особенно о тех не чутких и не умных, к откровенности с которыми Чехов был органически не способен?» Но дальше: «Курдюмов характеризует Чехова как очень скромного человека, я с этим не согласен. Он знал себе цену, но этого не показывал. Не согласен, что он очень скрытен. А его письма к Суворину? В них он очень откровенен. Скрытный человек со всеми скрытен. Чехов не болтлив, и он должен был очень любить человека, чтобы говорить ему о своем».[686]686
Цит. по: Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство им. Чехова, 1955. С. 122–123. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] И тот же самый Бунин удивляется, что кто-то говорит о нежности, меланхолии, человеческой теплоте. «Долго иначе не называли его, как „хмурым“ писателем, „певцом сумеречных настроений“, „больным талантом“, человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно. Теперь гнут палку в другую сторону. „Чеховская нежность, грусть, теплота“, „чеховская любовь к человеку“… Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою „нежность“! Еще более были бы противны ему „теплота“, „грусть“…»
На самом деле искусство Чехова открывает нам его прозорливость и нечувствительность к чужим страданиям, характерные для врача-клинициста. Горький отлично понимал это, когда писал ему по поводу «Дяди Вани», что он с дьявольским безразличием препарирует людей, холоден к ним, как лед, как снежный вихрь. А старый его однокашник Сергеенко замечал, что, хотя у Чехова было много друзей, сам он не был другом никому и ни к кому не был привязан до самозабвения. Таким образом, будучи неизменно открытым на вид и самым услужливым из людей, принимая толпы нуждающихся в нем, помогая молодым писателям, учителям-беднякам, несчастным чахоточным, он остерегался слепой благодушной любви к страдающему человечеству в целом. Его распространяющиеся буквально на всех внимание и заботливость не исключали некоторого эгоизма. Наделенный исключительной интуицией, он с первого взгляда понимал психологию окружающих и использовал это для своих произведений. Но такая постоянная доступность другим не задевала глубин его существа. Живой взгляд и холодная голова – он жил будто под стеклянным колпаком. Даже те, кто полагал, что затронули его сердце, рано или поздно наталкивались на эту прозрачную стенку. В повседневной жизни он боялся как непомерной радости, так и непомерного горя. Он был человеком золотой середины. Единственной его страстью было его искусство – литература. Когда он писал, ему казалось, что время остановилось. Внезапно там, где только что он видел только пустоту, являлись исписанные мелким почерком листы бумаги, новые персонажи, возникала неизвестная прежде история. Какое может быть чудо большее, чем это возникновение чего-то из ничего? Тем не менее, несмотря на свою возрастающую известность, Чехов вовсе не считал себя высшим существом. Ненавидя тщеславие и хвастовство у других, он был не способен, даже на самом гребне успеха, считать свой талант безграничным. И это не была скромность, еще меньше – смирение, это было выражение ясного видения и хорошего воспитания. Трудясь как вол над правкой, отделкой, вычисткой стиля своих рукописей, он не верил в то, что они бессмертны. «Мне все же кажется, что, несмотря на то, что Чехов стоял в литературе уже высоко, занимая свое особое место, он все же не отдавал себе отчета в своей ценности»,[687]687
Цит. по: Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись. Издательство им. Чехова, 1955. С. 81. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] – напишет Бунин после его смерти. А Куприн скажет так: «К молодым начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его огромным талантом и собственной малозначительностью».[688]688
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 419. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
Держа корректуру полного собрания сочинений, шестой том которого должен был выйти из печати в 1902 году, Чехов осознал, что с самого начала и до их пор его концепция литературы не изменилась. Прежде всего – простота и искренность. Точные и строгие описания. И никакого авторского вмешательства в течение рассказа. Ставя себя на место персонажа, предлагая решения моральных проблем, с которыми он сталкивается, только проигрываешь. Читатель должен выработать собственное мнение. Судить по тому, что написано. Причем – свободно. Чем старше становился Чехов, тем больше он убеждался, что его литература – отражение его жизни. Никаких особенно ярких, зрелищных событий, никаких высоких фраз, никаких героических поступков – только глухо звучащая музыка, похожая на ту, что живет внутри тебя, хватающая за душу, только вопросы без ответов, только легкая абсурдность повседневного существования, которое подобно набегающему волна за волной прибою с головокружительной неумолимостью тянет нас за собой, но не к желанному берегу, а к бездне в конце…
Как-то Чехов объяснял студенту Тихонову, что его пьесы не предназначены для того, чтобы публика плакала на них, как полагает Станиславский, нет, они – для того, чтобы зритель задумался о том, как живут люди. «Вот вы говорили, что плакали на моих пьесах… Да и не вы один… А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев сделал такими плаксивыми. Я хотел другое… Я хотел только честно сказать людям: „Посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!..“ Самое главное, чтобы люди это поняли, а когда они это поймут, они непременно создадут себе другую, лучшую жизнь… Я ее не увижу, но я знаю, она будет совсем иная, не похожая на ту, что есть… А пока ее нет, я опять и опять буду говорить людям: „Поймите же, как вы плохо и скучно живете!“ Над чем же тут плакать? „А те, которые это уже поняли?“ – повторил он мой вопрос и, вставая со стула, грустно закончил: – Ну, эти и без меня дорогу найдут…»[689]689
Цит. по: Чехов в воспоминаниях современников. С. 481. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть]
О том же – в записных книжках: «Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть».[690]690
Цит. по: Чехов А. Т. 10. Записные книжки. Книжка первая (1891–1904). С. 126 (491). (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] Однако он только баюкал себя туманной надеждой на это, не рассчитывая ни на какие политические потрясения, которые помогли бы надежду его реализовать на самом деле. Его персонажи говорят о ней как об утешительной и несколько безрассудной мечте. Вот слова Вершинина из «Трех сестер»: «Жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же, надо сознаться, она становится все яснее и легче, и, по-видимому, недалеко то время, когда она станет совсем светлой… Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами, теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить; человечество страстно ищет и, конечно, найдет. Ах, только бы поскорее!.. Если бы, знаете, к трудолюбию привить образование, а к образованию трудолюбие».[691]691
Там же. Т. 9. С. 397–398. (Примеч. переводчика.)
[Закрыть] А пока следовало принимать Россию такой, какая она была: с царем, бюрократией, полицией. Нигде власть так не давит, как у нас, русских, а мы смиренно принимаем наше вековое рабство и боимся свободы, покоряясь судьбе, замечал Чехов.








