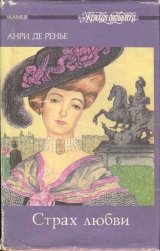
Текст книги "Первая страсть"
Автор книги: Анри де Ренье
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Антуан де Берсен, закрывши свой ящик с красками, прервал его раздумье:
– Они идут завтракать к Фуайо. Таково преимущество возраста и славы. Нам еще далеко до них, не правда ли?.. Ну, до скорого свидания, мне нужно идти домой. Алиса должна позировать для меня голой сегодня после полудня, а я голоден.
Искусным движением он развернул свой испанский плащ и задрапировал им свои плечи, потом, пожав руку Андре, он удалился крупными шагами, в то время как этот последний направился по дороге к улице Бо-з-Ар.
Андре Моваль шел и думал об Антуане де Берсене. Какое странное существо! В глубине души он ненавидел труд и его порабощающую силу. Он любил охоту, лошадей, физические упражнения, а целый день проводил за мольбертом. Он любил постель, позднее вставание, и вставал рано. Он охотно предавался бы светской жизни, ее удовольствиям, а жил в стороне в своей мастерской на улице Кассини. Он жил, так сказать, вопреки самому себе, но в этой постоянной борьбе его поддерживало что-то могучее и глубокое, его неустанное стремление к известности и славе. Так как случайный природный дар сделал из него художника, то он со всей своей энергией развивал и культивировал этот дар. Это было «его добро», и он стремился к увеличению его ценности, подобно своим деревенским предкам, старавшимся увеличивать свои доходы. Талант художника упал на него с дерева жизни подобно тому, как на шевелюру Полифема у фонтана Медичи упал тот лист, который Андре только что видел весь покрытый пурпуром и золотом, оттого что осень вытерла о него свои чудодейственные кисти!
III
Любопытным человеком был г-н Гюбер Моваль, дядя Гюбер, как его называли в семье. С тех пор как Андре помнил его, он видел его в своих воспоминаниях всегда одним и тем же. По внешности дяде Гюберу не прибавилось ни одного дня. Между тем добряк дядя не был молод. Сводный брат г-на Моваля, он был гораздо старше его, но годы, казалось, не были ему в тягость. У дяди Гюбера была круглая голова и коротко остриженные волосы. Он носил усы и эспаньолку, и эти украшения его лица всегда сохраняли прекрасный черный цвет. Правда, что этим неизменным цветом они были обязаны употреблению сильной краски. Значит, дядя Гюбер мог безнаказанно стариться так, что этого никто не замечал, по крайней мере по его растительности. Что до остальной его особы, то и с ней не происходило перемен. Дядя Гюбер был среднего роста; он не худел и не толстел. У него была все та же военная, немного деревянная походка. Но г-н Моваль предполагал, что его брату все же не удалось избежать общей участи. Он указывал даже множество признаков, по которым видно было, что дядя Гюбер слабеет. Всякий раз, как касались этого вопроса, г-н Моваль в конце концов таинственно прикладывал ко лбу свой согнутый указательный палец. При легком стуке, производимом этим движением, г-н Моваль подымал глаза к потолку и вздыхал.
Несмотря на такие намеки со стороны г-на Моваля, дядя Гюбер чувствовал себя недурно. У него к тому же всегда было великолепное здоровье, и поэтому он ужасно опасался болезней. Андре помнил, что во время довольно сильной скарлатины, которой он захворал лет одиннадцати, дядя Гюбер, во избежание заразы и под тем предлогом, что его присутствие не могло принести никакой пользы, воздерживался от посещений улицы Бо-з-Ар, довольствуясь вестями, получаемыми у привратника. Хотя г-н Моваль и многое прощал тому, кого он охотно называл «этот чудак Гюбер», он счел дурным такой избыток осторожности и дошел до того, что назвал это эгоизмом и трусостью. По этому поводу между обоими братьями возникло некоторое охлаждение. В течение этого времени дядя Гюбер перестал приходить обедать по средам, чего он до того никогда не переставал делать. Тогда-то Андре впервые увидал таинственное движение отца и услышал знаменитый стук, все чаще и чаще повторявшийся теперь, когда в семье заходила речь о бедняжке дяде…
Все-таки в конце концов дядя Гюбер снова появился в доме. Однажды в среду, когда все выходили из-за стола, добряк велел доложить о себе. Андре побежал к нему навстречу. Такой прием все уладил. В следующую среду для дяди по обыкновению был поставлен прибор, и обеды снова продолжались, как прежде. Г-н Моваль не был недоволен тем, что эта ссора таким образом прекратилась. Конечно, он не сделал бы первого шага, но раз уж брат сам вернулся, он был рад этому возвращению. Г-н Моваль испытывал некоторое удовольствие оттого, что дядя Гюбер раз в неделю, во всякую погоду и во всякое время года, проходил путь из Сен-Мандэ, где он жил, на улицу Бо-з-Ар. Регулярное присутствие дяди Гюбера доставляло тайное удовлетворение его самолюбию. Оно как бы сообщало ему достоинство главы семьи, чем он гордился. Из-за него кто-то беспокоился. Дядя Гюбер мирился с таким положением вещей и, хотя был старшим, признавал за г-ном Мовалем превосходство. К тому же г-н Моваль считал себя вправе притязать на него. Он был женат, имел сына, занимал высокий пост в важном учреждении и представлял собой, как он сам говорил, «центр»; в то время, как дядя Гюбер, холостой, без места, не занимал никакого положения в обществе. Да и жил-то он черт знает где, почти вне Парижа, у заставы. Было естественно, чтоб он и беспокоился. Дяде Гюберу, казалось, нравилось, что дела обстояли так, и он сам, после женитьбы г-на Моваля, установил такие отношения. Он избавил раз навсегда своего брата и невестку от необходимости отдавать ему визиты, выставляя как предлог отсутствие у него благоустройства, расстояние, квартал. Разве у старого холостяка может быть свой угол?
Итак, дядя Гюбер был чудаком, и Андре довольно скоро понял это. Совершенно так же, как он не желал, чтобы его посещали, дядя ненавидел, когда вмешивались в его дела или расспрашивали о его занятиях. При малейшем вопросе по этому поводу он делался сумрачным и отвечал довольно сухо. Вообще о нем было известно лишь то, что он сам соглашался рассказывать. Все остальное составляло тайну. На что употреблял дядя Гюбер свои дни и вечера, где проводил он их, кого он посещал? Тут он был нем. У него было небольшое состояние, маленький домик с крохотным садиком. Он никогда не жаловался на свое одиночество. Дядя Гюбер был по-своему мудрецом.
Впрочем, это был превосходный человек, легко соглашавшийся с мнением другого, не оспаривая его. Г-н Моваль ценил в нем приятного слушателя. О развитии Мореходного Общества и об улучшении условий службы г-н Моваль мог рассуждать перед своим братом, не боясь противоречий. Единственная область, в которой дядя Гюбер позволял себе иметь свое мнение, были военные вопросы. Но тут уж дядя Гюбер оказывался совсем несговорчивым. Он один на свете точно знал, что такое армия, чем она не была и чем она должна быть. Организация, вооружение, тактика – все это составляло область его исключительного ведения, и он совершенно не терпел, чтобы кто-нибудь проникал в нее. Он бдительно стоял на часах у входа и выстрелил бы во всякого, кто захотел бы пробраться туда.
Эти притязания происходили оттого, что восемнадцати лет он поступил в 6-й стрелковый конный полк, проделал Итальянскую кампанию [7]7
«Итальянская кампания» – австро-итало-французская война 1859 г. В этой войне Франция в союзе с Сардинским королевством выступала против Австрии, оккупировавшей Ломбардско-Венецианскую область на севере Италии. По Туринскому договору (1 860) к Франции отошли Ницца и Савойя.
[Закрыть]и принимал участие в битве при Мадженте [8]8
Маджента – город в Ломбардии, в окрестностях которого 4 июня 1859 г. союзные войска Франции и Пьемонта под командованием Наполеона III нанесли сокрушительное поражение австрийской армии.
[Закрыть]. По окончании службы он вернулся к своему очагу в чине вахмистра и с медалью за кампанию, ленту которой он тщательно избегал носить. Разве он нуждался в таких значках для того, чтобы его всюду признавали за бывшего военного! Разве не было достаточно его эспаньолки и его военной выправки? Хотя его брат и волочил слегка ногу, когда двигался, г-н Моваль предполагал, что это делалось для того, чтобы заставить поверить в какую-то старую рану. В сущности, дядя Гюбер ничего не имел бы против какого-нибудь повреждения. Эта неприятность доставила бы ему крест, который он заслужил не хуже всякого другого своим блестящим поведением при Мадженте. Но справедливости на этом свете нет, и дядя Гюбер, не переставая браниться на то, что он был обойден, не проявлял никакой неприязни к своему прежнему ремеслу и продолжал им интересоваться. Все, касающееся защиты родины, не переставало занимать его, и в своей семье он составил себе из всего этого нечто вроде специальности, перед которой все должны были преклоняться.
Благодаря этому неоспоримому военному авторитету дядя Гюбер сумел внушить восхищение своему племяннику. Как и все дети, маленький Андре страстно любил оловянных солдатиков. У него была их целая армия, которую он методично и яростно устанавливал для битвы. Дядя Гюбер являлся авторитетнейшим судьей в этих играх. Поэтому-то Андре с нетерпением ожидал каждую неделю среды. Как только раздавался дядин звонок, он прибегал. Обед казался ему бесконечным. По окончании еды, в тот момент, когда г-жа Моваль вставала из-за стола, Андре с восторгом слушал, как дядя Гюбер произносил свою традиционную фразу: «Ну, дорогая невестка, я знаю, вы не любите табаку; я останусь здесь, выкурю трубочку… малыш посидит со мной…»
Эти слова весело раздавались в ушах Андре. Тогда, пока г-н и г-жа Моваль уходили в гостиную, он бежал за коробками, в которых лежали пехотинцы, кавалеристы и артиллеристы. Он вынимал жестяные укрепления, картонные крепости и, отодвинув тарелки и стаканы, располагался в углу на скатерти. Блаженный миг! Дядя Гюбер вынимал из кармана свой кисет из свиной кожи, набивал свою маленькую трубку с длинным почерневшим мундштуком, и смотр начинался. Дядя Гюбер между двумя затяжками отвечал на вопросы племянника и поучал его своим стратегическим знаниям. Запах олова, покрытого лаком, смешивался с запахом трубки, дым которой казался Андре дымом самой славы!
Впоследствии, когда Андре подрос, оловянные солдатики стали менее забавлять его, но боевые вечера по средам по-прежнему были для него полны очарования. Что за прелестные истории битв выслушивал тогда Андре из дымящихся уст дядюшки Гюбера! Дядя подкреплял их своими личными воспоминаниями. Он чистосердечно присоединял к своим повествованиям очевидца события и анекдоты, о которых он читал. Казалось, что этот ветеран принимал участие не только в Итальянском походе, но также и в Китайском, и в Крымском, и в Мексиканском. Даже великие войны первой империи казались ему такими близкими, что можно было подумать, что он также присутствовал в те славные дни. Все это смешивалось в уме Андре и составляло один торжественный фон, на котором поступью героя шествовал дядюшка Гюбер. Андре испытывал к своему дядюшке великое восхищение и не мог не вздрагивать от воинственного трепета всякий раз, как г-н Гюбер Моваль давал ему пощупать сквозь кожаный футляр револьвер, который он носил с собой, чтобы иметь возможность отражать опасные встречи, которым он подвергался, возвращаясь поздно в такой малолюдный квартал!
К несчастью, всему бывает свое время, и наступил час, когда военные забавы Андре отодвинулись на второй план. Рассказы дяди Гюбера, слишком часто повторяемые, стали не столько возбуждать восхищение слушателя, сделавшегося менее наивным, сколько вызывать нарождавшееся критическое отношение. Андре стали бросаться в глаза некоторые неправдоподобности. Играл ли, например, дядя Гюбер ту самую роль при Мадженте, которую он себе приписывал? По мере того, как уменьшалась вера Андре, вещи, не раз рассказанные его героем, теперь заподозренным, теряли понемногу свой интерес. Таинственное постукиванье по лбу г-на Моваля получало для Андре более ясный смысл. Притом же он чувствовал, что становится все более и более равнодушным к разговорам о вооружениях, о реформах, о тактике, которые вел с ним дядя.
Вот почему он с меньшей радостью смотрел на уход из-за стола г-на и г-жи Моваль, оставлявших его наедине с дядюшкой Гюбером, с его кисетом из свиной кожи и с его трубкой. Ему хотелось бы поговорить о других предметах, но с дядей Гюбером нечего было и думать об этом. Правда, Андре по-прежнему очень любил своего добряка дядюшку, но порой, слушая его, он зевал и раздумывал о средствах, которые могли бы прекратить курение маленькой трубочки, которая не наполняла больше комнату прежним героическим и волшебным облаком!
Теперь, когда Андре Мовалю было девятнадцать лет, общество дяди Гюбера откровенно докучало ему, и каждую неделю он с грустью сознавал приближенье дня, когда ему придется выносить послеобеденный разговор этого превосходного человека. Впрочем, дядя Гюбер стал меньше говорить с ним о Мадженте, о баллистических новостях и о тактических нововведениях. У г-на Гюбера Моваля был и другой конек. Его занимала также политика, и он сообщал Андре свои предвидения в этой области. Дядя Гюбер беспокоился. Он всегда примечал «черные точки на горизонте». По его словам, все предвещало европейские осложнения и близость мирового пожара. С каждой неделей война казалась ему все неизбежнее, а война с такой армией, как у нас, это было бы поражением, капитуляцией, расчленением государства. Эти предсказания раздражали Андре. Если войне суждено было быть, никто не мог воспрепятствовать этому. К чему беспокоиться заранее? Придется провести плохие минуты, и каждый устроится, как сможет. А там видно будет. В сущности, он не верил зловещим пророчествам дяди Гюбера. Его юность и его невольный оптимизм инстинктивно возмущались против этих мыслей о поражении; но если он иногда замечал дяде, что Франция – все-таки великая страна, что ее армия – все-таки армия, ее пушки – пушки, ее ружья – ружья, ее солдаты – солдаты, г-н Гюбер Моваль вздыхал так глубоко, с отчаянным видом теребя свою бородку, что Андре не смел усомниться, будто страна не достигла последней степени слабости, беспомощности и распадения!
Андре Моваль несколько раз попытался спастись от этой повинности по средам, под предлогом какой-нибудь прогулки с товарищами. Г-жа Моваль любезно помогала ему в этих хитростях. Но в следующую среду дядя казался таким огорченным отсутствием в предыдущий раз своего племянника, что Андре покорился. К чему огорчать превосходного человека, которого он любил к тому же? Впрочем, эта великодушная покорность была вызвана в нем чувством признательности. Эта признательность относилась к событию, имевшему место несколько лет назад. Ах! В тот вечер дядя Гюбер не казался ему скучным!
Андре Мовалю было около пятнадцати лет, когда произошло событие, за которое он сохранил благодарность к дяде. В тот день, когда он вернулся домой – была как раз среда, – ему открыла дверь горничная его матери. Эта девушка была красива, молода и кокетлива, и звали ее Розиной. Розина! При этом воспоминании сердце Андре билось сильней. Розина!.. Пока он вешал свое пальто на вешалку, он чувствовал ее позади себя. Вдруг он повернулся. Он посмотрел на нее, улыбающуюся и лукавую. Он оказался во власти какого-то резкого и сильного движения. Не будучи в силах противиться искушению этой свежей кожи, он смело схватил талию Розины своими жадными руками и запечатлел звучный поцелуй на шее камеристки в тот самый момент, когда г-жа Моваль переходила переднюю, из которой Розина тотчас убежала, вскрикнув.
Андре помнил драму, последовавшую за этим сюрпризом: г-жу Моваль в негодовании и слезах, г-на Моваля, предупрежденного о скандале, строгого и презрительного, и патетическую сцену, вызванную шалостью, которою он был обязан одной прогулке по Люксембургскому саду со своим другом Эли Древе, во время которой они беседовали о женщинах, куря первые папиросы; Андре помнил и выговоры, и свою комнату, куда его заперли, и обед, принесенный насмешливой кухаркой, и слезы сожаления и позора, которые он пролил, ужасно стыдясь того, что мать застала его за такой непристойной лаской. Он считал себя как бы обесчещенным в ее глазах. Он хотел умереть, и все же Розина была очень красива, и кожа ее – нежна. При этих-то обстоятельствах появился дядя Гюбер. Андре при виде его, входящего в комнату, покраснел до ушей. Что-то скажет ему дядя Гюбер? Присоединит ли он свои упреки к упрекам г-на и г-жи Моваль, также порицая его, со своей стороны, за прегрешение с прислугой? Между тем у дяди, казалось, не было дурных намерений. В то время, как Андре стоял, смущенно опустив голову, дядюшка Гюбер подвинул себе стул. Усевшись на него верхом, как он любил это делать, он вытащил из кармана свой кисет и трубку. Когда чиркнула спичка, Андре поднял глаза. Окруженный облаком дыма, дядюшка Моваль дружелюбно посматривал на племянника. Ободренный этим, Андре снова сел. Для приличия Андре выпил несколько капель вина, оставшихся на дне стакана. Когда он ставил стакан на столик, вдруг он почувствовал, что рука дяди хлопает его по коленям, в то время, как голос произносит с громким смехом: «Ну-с, пострел, я узнал прелестные вещи о тебе. Поздравляю, мой мальчик; оказывается, тебе уже нравится юбка»…
И в то же время, как Андре смотрел на него с изумлением, он прибавил, затягиваясь: «Честное слово, я тебя понимаю… плутовка-то хорошенькая… Ах, ветреник какой!»
Андре захотелось броситься на шею дяде Мовалю. Как! Ни порицания, ни упрека; более того – какая-то сочувственная снисходительность! Так значит, тот сорванный поцелуй был лишь естественным? Значит, его вина была простительна? Значит, он не был чудовищем, раз его дядя смеялся этой шалости и заключил: «В другой раз старайся, по крайней мере, чтоб тебя не поймали на месте преступления, черт возьми, но, честное слово, из-за всей твоей истории не стоило подымать столько шума! К тому же я все устроил. Конечно, уж Розине придется завтра уйти, но тебя оставят в покое».
По мере того, как дядюшка Гюбер говорил, Андре чувствовал себя облегченным. Завтра никто не будет больше думать об его грешке. Ему казалось, что жизнь снова вступает в свое течение. И это чудо совершил дядя Гюбер, и он, сидящий верхом на стуле, в облаке дыма от трубки, казался ему каким-то снисходительным и освобождающим гением!
Андре часто вспоминал об этом приключении по средам, когда дядюшка Моваль после обеда принимался за свои излюбленные разговоры, и часто также, рассеянно слушая его, он думал о хорошенькой Розине своих пятнадцати лет. Что сталось с ней после того, как она покинула их дом? И он с грустью вспоминал ее лукавые глаза и ее крепкий и свежий затылок.
В то время Андре уже начал интересоваться женщинами. С ранних пор он был чуток к их красоте и грации. Ребенком в Люксембургском саду, в Тюильри, он искал общества маленьких девочек. Какие занятные игры он устраивал с маленькими Жадон! Их отец, г-н Жадон, был товарищем г-на Моваля по Мореходному Обществу. Они встречались на прогулках… Как он любил их, этих трех Жадон, всех трех старше его, так как младшей теперь было двадцать один год, а старшей – двадцать пять, Этьеннету, Евгению и Луизу, подруг своих забав! Он испытал к ним сильные чувства, так как у детского возраста – свои страсти. К несчастью, маленькие Жадон, став барышнями Жадон, утратили, выросши, всю миловидность и красоту, и Андре перестал интересоваться ими; но вместо них он стал интересоваться некоторыми особами, бывавшими в их доме, лица и присутствие которых ему нравились, на которых он смотрел со странным вниманием и о которых мечтал, когда их не было.
Из них особенно одна волновала его. Ее звали Шарлоттой Леруа. Ей было тридцать лет, и она не была замужем. Г-жа де Сарни пригласила ее в Варанжевилль, где Мовали проводили лето. М-ль Леруа была приятна, немного полна, у нее было свежее лицо, прекрасные глаза, умные и ласковые. Она была сиротой и жила одна. Она сразу понравилась Андре. Она была очень мила с ним. Они часто гуляли вместе. Она не отказывалась сыграть с ним партию в теннис. В то время Андре было четырнадцать лет. Он был одновременно большим шалуном и очень рассудительным мальчиком. Часто прогуливаясь по аллеям рядом с м-ль Леруа, он исподтишка любовался ее гибкой талией и ее изящной походкой. Однажды утром, перед завтраком, его тетка, г-жа де Сарни, послала его отнести м-ль Леруа телеграмму, только что прибывшую на ее имя, в то время, как м-ль Леруа поднялась в свою комнату, чтобы снять шляпу. У двери Андре постучался. Послышался голос м-ль Леруа: «Войдите». Но на пороге он остановился, покраснев до ушей. М-ль Леруа в нижней юбке и корсете поправляла свою прическу, стоя перед зеркальным шкафом. Андре увидел белую грудь, темные подмышки и поднятые кверху обнаженные руки. М-ль Леруа рассмеялась, сказав просто: «Телеграмма! Давайте, Андре», и прибавила: «Я думала, что это горничная». Андре убежал. За столом он не поднимал глаз от своей тарелки. Днем он отправился в сосновый лесок и уселся там на крутом берегу. Море было серо. Ветер покачивал гибкие вершины деревьев. Было приятно и тепло, ему хотелось плакать.
После этой маленькой сцены Андре Моваль пережил довольно тревожный период, о котором он вспоминал не без некоторого стеснения, период, если можно так выразиться, полового и физиологического любопытства. Женщины представлялись ему физически таинственными существами, о которых он подолгу думал с какой-то смесью точности и неопределенности. Это было время запрещенных книг и разговоров шепотом. Друг его, Эли Древе, более осведомленный, чем он, посвятил его во многие вещи. Все это возбуждало в Андре какое-то бесстрастное любопытство, которому не соответствовало никакое определенное желание. Поцелуй Розины был скорее бравировкой. Ведь Древе хвастался выходками покрупнее!
Его собственная выходка имела одно определенное следствие. От смутных мечтаний, которыми он ограничивался до тех пор, она привела его к более реальным желаниям. С того самого дня его мечты получили цель. Они подготовили его к акту, сущность которого ему была известна, выполнение которого он мысленно предвосхищал и более или менее близкий момент которого предвидел.
Случай представился благодаря содействию Древе, приблизительно когда Андре исполнилось шестнадцать лет. Служанка из пивной, с которой его познакомил Древе, пришла на помощь его неопытности. Она жила в маленькой комнате на улице Месье-ле-Пренс. Андре посещал ее довольно регулярно в течение нескольких месяцев, потом сразу перестал ходить к ней и не подыскивал ей заместительницы. Он остановился, как только улеглось его чувственное беспокойство. Затем наступил фазис чувства. Андре вообразил, что глубоко влюблен в м-ль Леруа. Потом он бывал страстно влюблен в некоторых героинь романов и многие лица на знаменитых картинах. Мастерская Антуана де Берсена прекратила весь этот платонизм. У Андре появилось несколько любовниц: натурщицы, девицы из его квартала, маленькие работницы. Не привязавшись особенно сильно ни к одной из них, он научился у них понимать наслаждение, но, переходя таким образом от одной к другой, он хранил в глубине сердца желание ласк более верных, более нежных, более пылких. Он с тоской и грустью спрашивал себя, узнает ли он когда-нибудь истинную любовь! Когда он уедет в далекие страны, куда уведет его карьера, определенная родительской волей, неужели он не увезет с собой ни одного из прекрасных воспоминаний, дающих изгнанникам возможность мечтать и примешивающих к горечи разлуки сладость хранимого памятью любимого образа?








