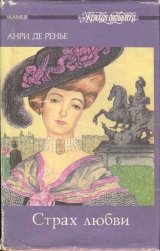
Текст книги "Первая страсть"
Автор книги: Анри де Ренье
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Анри де Ренье
Первая страсть

Повествование, текущее медленно, но в широком и глубоком русле, как многоводная река; подробное описание всей жизни и характеров действующих лиц, по мере их появления в рассказе; острый психологический анализ их переживаний; ряд ярких сцен, порою подходящих к границе «рискованного», но никогда не переступающих за нее, – таковы отличительные черты романов Анри де Ренье. В то же время это – типические черты современного французского романа, который создан был Бальзаком, которому классическую стройность придал Флобер [1]1
Флобер, Гюстав (1821–1880) – французский романист, мастер формы. Выдвигал концепцию «безличного» творчества и художественного «бесстрастия». Его творчество оказало сильнейшее влияние на развитие французской литературы, в том числе на прозу Ренье.
[Закрыть]и которому все разнообразие жизни дал Мопассан. Анри де Ренье, начавший в 80-х годах в рядах «декадентов», довольно быстро оказался сначала на «крайней правой» молодой поэзии, а потом скорее в рядах охранителей традиций, чем революционеров литературы. Однако от дней своей юности, когда он преимущественно писал стихи, Анри де Ренье сохранил страстную любовь к стилю, умение пользоваться всеми теми утонченными средствами, что выработала современная поэзия, и благородную потребность ко всем явлениям и вопросам подходить не с банальной точки зрения. А опыт лет, круг знания людей дал ему мудрую уравновешенность мировоззрения и научил его ко всему в жизни относиться с тем ироническим, но добродушным скептицизмом, который так успокаивает душу, освобождая ее ото всяких «проклятых» вопросов… Понемногу Анри де Ренье становится во Франции – и совершенно по праву – одним из наиболее любимых и наиболее читаемых романистов.
Символом своего нового романа Анри де Ренье избрал первый большой огонь, разводимый в камине ранней осенью, – la flambee. Автор сравнивает этот огонь с первой страстной любовью, охватывающей душу в годы перехода от юношества к зрелому возрасту. Психология первой страсти прослежена в романе с большой остротой и тонкостью.
В. Брюсов
I
Когда Андре Моваль проснулся от шума занавеси, скользившей по железному пруту, он не сразу открыл глаза. Он чувствовал, что его веки отягощены одним из тех снов юности, которые не рассеиваются после отдыха длинной ночи, и он охотно поспал бы еще. Вот почему его раздражало чье-то расхаживанье по его комнате. Почему это Жюль, вместо того чтобы тихо унести платье для чистки, все медлил уходить? Вдруг Андре Моваль услыхал чирканье спички. Он припомнил. Накануне вечером его мать сказала слуге: «Завтра утром разведите огонь у господина Андре. Становится свежо». Сразу дурное расположение молодого человека перешло в довольство. Он подождет вставать, пока огонь не разгорится хорошенько, и перед одеваньем он с минуту погреет себе икры. Он, нежась, повернулся к стене. Жюль исчез. Дрова затрещали. Вдруг раздался взрыв. То вспыхнули сосновые шишки, привезенные из Варанжевилля в большом мешке вместе с багажом, которые Жюль присоединил к хворосту вязанки.
Андре Моваль, сидя на своей кровати, свесив ноги, смотрел на веселое осеннее пламя. Оно наполняло камин острыми языками и живыми искрами. Чешуйчатые шишки горели, распространяя запах коры и смолы. Он снова увидал лесок, на возвышавшемся над морем крутом берегу, где он собирал их среди коричневых игл, устилавших землю; старый нормандский дом, в котором он прожил август и сентябрь у своей тетки, г-жи де Сарни. Теперь каникулы окончились. Он это слишком хорошо видел: вот уже десять дней как его рано приходят будить, вместо того чтобы, как в Варанжевилле, дать всласть понежиться. К счастью, сегодня его матери пришла восхитительная мысль об этом веселом огоньке. Ничто так не облегчает вставанья с постели, как этот согревающий свет.
Он приблизился к камину и, расположившись на низком стуле, почувствовал себя легко. Теперь он меньше жалел о Варанжевилле. У Парижа есть свои хорошие стороны. Андре был доволен тем, что вновь нашел свои книги, не учебные, но те, которые он читал, – стихи, романы, рассказы и описания путешествий. Право, изучаемое им – он был на третьем курсе, – давало сколько угодно свободного времени. Он проходил курс, чтобы доставить удовольствие своему отцу, но что до экзамена, то рассчитывал особенно на своего превосходного репетитора, г-на Перрэна, к которому он отправится при приближении испытания, чтобы просить содействия его многолетней опытности. Но до тех пор он мог делать что угодно. Тем не менее, чтобы соблюсти благопристойность, он соглашался быть готовым к нужному часу; но если немного поспешить, то все же прибудешь вовремя в школу. В его возрасте ноги сильные.
Он посмотрел на свои. Пламя освещало их слегка рыжеватые волосы. Ноги были мускулистые и крепкие. Он провел рукой по их волосатой округленности с чувством гордости. Все-таки он не был более ребенком; он был молодым человеком. До сих пор жизнь его была тесно связана с жизнью его родных, была в ежеминутной зависимости от них. Но теперь он чувствовал, что понемногу освобождается от этого постоянного общения. Правда, он нисколько не думал о подчеркивании этого разделения, но он замечал, что его родители сами мирятся с этой необходимостью. Если молодость имеет свои обязанности, то она имеет также и свои права, и если он соглашался исполнять одни, то предполагал, что за ним будут признаны и другие. То, чем могли быть эти права, впрочем, довольно смутно представлялось его уму. Он был счастлив у себя дома и пришел бы в замешательство, если бы ему пришлось серьезно потребовать чего-нибудь иного, в смысле свободы, чем то, что ему предоставлялось. Впрочем, он смутно предчувствовал, что могли бы представиться некоторые обстоятельства, при которых возможно было его столкновение с родительской волей. Это предчувствие не столько причиняло ему беспокойство, сколько придавало важности в собственных глазах. В такие минуты его девятнадцать лет представали перед ним во всем их обаянии, и ему казалось, что они заслуживают исключительного почтения.
Это почтение к тому же могло великолепно мириться с заботливостью и баловством, которыми его окружали. Он нисколько не желал отказываться от тех приятных нежностей, которыми его осыпали дома. Так, ему нравилась эта утренняя вязанка дров, которою его мать распорядилась облегчить его пробуждение и которая делала таким приятным и веселым его вставание. Он не считал, что с ним обращаются, как с ребенком, более чем это нужно: к этому г-жа Моваль все-таки была немного склонна. Нет, этот красивый огонь скорее представлялся ему как бы намеком на его молодость и преклонением перед ней. В нем он видел образ того, что молодость обещает живого, сверкающего, светлого, радостного. Он наслаждался блестящим пламенем. От его пригретых ног чувство довольства расходилось по всему его телу и озаряло в его мыслях жизненные перспективы, и он долго еще продолжал бы мечтать, если бы не вернулся Жюль, неся на плече вычищенное платье и в руке кувшин горячей воды. Жюль, проходя, бросил растроганный взгляд на горящие сосновые шишки. Они напоминали ему Варанжевилль, откуда он был родом и откуда Мовали привезли его с собой.
Андре был в нерешительности. Он не хотел обходиться ни слишком фамильярно, ни слишком гордо с новым слугой. Вот почему ему хотелось обратиться к нему, но не хотелось затевать разговора. Нужно было показать, что он в доме лицо, заслуживающее того, чтобы ему старались угождать. Он колебался. Наконец, пока слуга наполнял таз, Андре решился:
– Ну что, Жюль, жалеете вы о Варанжевилле? Привыкаете к Парижу?
Нормандец улыбнулся. Он, вероятно, не любил высказываться, так как ответил:
– Варанжевилль не Париж, а Париж не Варанжевилль, конечно!
И он прибавил в виде сентенции:
– Известно, мы не птицы, не можем быть в двух местах в одно время.
Довольный своим ответом, он искоса посмотрел на своего хозяина. Андре, смутившись, подобрал щипцами наполовину сгоревшую сосновую шишку и подбросил ее в золу.
– Тогда я напишу тетушке, что вам здесь не плохо и что вами довольны.
Он пожалел, что не сказал: «что я вами доволен». Тем не менее этого «довольны» было достаточно, так как эта похвала включала его в общество г-на и г-жи Моваль. Жюль поймет. Малый был хитер.
И Андре Моваль, сняв сорочку, уселся с достоинством в таз, сложив ноги по-турецки, устремив глаза на камин, где догорали последние сучья и сосновые шишки первого осеннего огня.
II
Андре Моваль не заметил бы, что профессор покидает кафедру, если бы суматоха среди студентов, спешивших к двери, вниз по лестнице, не известила его о конце лекции. Выведенный из оцепенения, он засунул свои бумаги в сумку, положил карандаш в карман и поднял шляпу, упавшую на пол. Направляясь к выходу, он констатировал, что еще один лишний раз он довольно бесполезно совершил путь от дома до Пантеона, ибо он не помнил ни одного слова из материй, которые обсуждал монотонным голосом несравненный г-н Гюйоннэ. Эта рассеянность была для него обычна, но редко ему случалось отвлекаться сильнее, чем в тот день. Но зачем же его отец накануне вечером излагал еще раз перед ним планы будущего, которые строил для него?
Андре давно уже знал эти родительские проекты. Когда сын окончит изучение права, г-н Моваль желал, чтобы он приготовился к конкурсу министерства иностранных дел. Конечно, он мог бы изучать зараз оба предмета и проходить одновременно с курсом юридического факультета курс Школы моральных и политических наук, посещать вместе и улицу Суффло и улицу Сен-Гюйом, но г-жа Моваль выставила против этого утомительность такого двойного труда. У Андре было слабое зрение; поэтому, если он не будет освобожден от воинской повинности, то, по крайней мере, будет зачислен во вспомогательные отряды, где ограничиваются простыми поверочными призывами. Г-н Моваль согласился с опасениями своей жены. К тому же он не желал, чтобы его сын вступил слишком молодым в Кэ-д'Орсэ [2]2
Кэ д'Орсэ – набережная в Париже, на которой расположено Министерство иностранных дел.
[Закрыть]. Лучше будет, если у Андре полнее сложатся и сердце, и ум. Кроме того, г-н Моваль не мечтал для своего сына ни о месте в канцелярии, ни об одном из тех блестящих дипломатических постов, привлекающих к карьере стольких легкомысленных и элегантных юношей. Нет, Андре не сделается цветком посольства. Впрочем, г-н Моваль и не обладал достаточным состоянием, чтобы содержать сына на столь дорогом поприще. Андре должен будет заняться консульской службой. Там он сможет приносить пользу своей стране точно так же, как косвенно делал это сам г-н Моваль в своем Соединенном Мореходном Обществе, в котором в течение двадцати пяти лет он содействовал распространению французского влияния на самые отдаленные страны.
Итак, Андре отправится в один прекрасный день представлять свою родину в одну из этих стран. На его консульском доме будет развеваться тот самый французский флаг, который так гордо развевается на мачтах почтовых пароходов, за полезными и правильными рейсами которых мысленно следил г-н Моваль. Значит, Андре Моваль будет где-нибудь консулом, и г-н Моваль уже с удовольствием представлял себе местожительство, которое достанется будущему чиновнику.
Это было как раз то, чем занимался г-н Моваль в продолжение доброй половины вечера накануне. Он странствовал по всему свету, из Старого в Новый, отыскивая там пункт, из которого Андре выступит на защиту наших интересов и для покровительства наших соотечественников. Андре, привыкший к этим географическим забавам, охотно предавался им; но всю ночь, во сне, он слышал, как раздавались в его ушах экзотические имена, благозвучные или причудливые, и, проснувшись, он еще до такой степени находился под впечатлением этой номенклатуры, что, когда г-н Гюйоннэ, слог которого славился изяществом и точностью, излагал перед своей аудиторией строгие нормы административного права, Андре продолжал свое воображаемое странствование и свои прогулки по всему миру.
Перед его глазами вставали образы различных городов. Иные из них вырисовывались на сером небе, изрезанном дождем или испещренном снежными хлопьями, под скупым светом Севера. Над ними дым от заводов смешивался с пеплом облаков. Резкий ветер продолжительных зим просушивал в их мрачных улицах грязь дождливой осени. Они вызывали в Андре мысль о печали, одиночестве и изгнании, поэтому его греза быстро отвертывалась от них. Инстинктивно он вызывал перед собой светлые страны, к ним направлялась его любознательность. Имена, говорящие воображению, привлекали его. Увидит ли он когда-нибудь золотую Калифорнию, богатую Луизиану, цветущую Флориду, благоуханные Антильские острова, большие реки Бразилии или Перуанские Кордильеры? Поедет ли он в Японию, в Китай? Он не знал этого. Забросит ли его случай в Новый или Старый Свет, в безмерную Африку или в таинственную Азию? Его заветнейшим желанием было жить среди необыкновенных народов, на отдаленной земле, в каком-нибудь живописном городе.
Мысленно он определял свое стремление к лучезарным и красочным странам, одним словом: Восток. Он будет консулом на Востоке. Он видел его, этот Восток, сквозь воспоминания о прочитанном, неясным и чудесным, неопределенным и искусственным, в мираже красоты. Солнце было там больше, чем в других местах, небо голубее, воздух прозрачнее. Для него было безразлично, Персия это или Египет, Индия или Марокко. Он знал только, что там на горизонте возвышаются сверкающие купола почти баснословных городов. Для него Востоком были – оружие, ковры, ткани, драгоценные камни, копошащаяся тень базаров, прохлада садов, журчанье фонтанов, трепет ветра среди пальм, шаги верблюдов по песку, следы слонов в тростниках, текущая река, цистерна, колодезь; то были пустыня, джунгли, кустарники, оазис; дворцы, мечети, храмы, гробницы; истома жарких дней, молчание звездных ночей и разлитый по всему этому великолепию, вялый, медленный, горячий, божественный зной, который расслабляет члены, изнуряет тела, притупляет мозг в сладострастной неге, благоухающей розой, жасмином, сандалом, и наполняющий своими неясными видениями опиум трубки или табак наргиле.
И мысленно, в продолжение лекции г-на Гюйоннэ, он вкушал эту жару, в которой энергия растворяется, а душа испаряется в видениях. Он увидел себя лежащим на ковре в своем восточном доме. Где находится этот дом? Он не мог бы этого сказать. Он знал только, что дом маленький и стены у него толстые. Комната, в которой он был, выходила аркадами во внутренний двор, вымощенный мрамором. Посередине его струя воды падала в водоем. В углу – дверь. Вдруг дверь эта повертывается на петлях, и Андре приподымается на ковре, чтобы увидеть, кто собирается войти. Появляется негр в чалме, подходит к нему с поклонами, произнося непонятные слова, потом снова удаляется и возвращается опять, впустив несколько женщин. Они закрыты покрывалами и одеты в яркий и легкий газ. Негр, сидя на корточках возле водоема, странно ударяет по звонкой коже тамбурина. Тогда, одна за другой, женщины раздеваются, сохраняя только покрывала на лице. Среди них есть белые, как луна, медно-желтые, как солнце, и черные, как ночь. Они танцуют. Слышно, как позвякивают их браслеты и ожерелья на теле. Вдруг они исчезли. Опустел двор, полный солнца, с одним только постепенно увеличивавшимся углом тени. Негр перестал играть. Стало очень жарко. Потом послышалось шлепанье туфель. Появилась новая женщина, тоже под покрывалом. Она медленно растянулась рядом с ним на ковре. Андре смотрел на нее. Подымавшаяся грудь приводила в движение кисею, скрывавшую ее. Понемногу покрывало, таившее лицо, становилось все тоньше и тоньше, рассеивалось, как пар, а лицо это, по мере того как показывалось, становилось восхитительным. Они взялись за руки и замерли так, не говоря ни слова. Воцарилось глубокое молчание. Можно было расслышать шорох насекомых, точивших дерево сундука, в котором была заперта форменная одежда. Андре видел эту одежду: брюки с золотыми лампасами, треуголка, шпага, завернутые в папиросную бумагу. Порыв ветра заставлял трепетать листы книги, положенной на сундук, и Андре знал, что книга эта была «Саламбо» [3]3
«Саламбо» (1862) – исторический роман Г. Флобера, посвященный эпохе борьбы Древнего Рима с Карфагеном; в нем изображены бурные человеческие страсти на фоне экзотических пейзажей и интерьеров.
[Закрыть]. Сквозь узкое окно он видел море и готовое к отплытию огромное судно. Подымали якорь. Отдавали канаты. Дожидались только его. Пусть! Он чувствовал себя так хорошо в своем уединенном домике. Он никогда больше не увидит своей родины. Он прижимал свои уста к душистой руке. Во дворе тенистый угол захватил все пространство. Фонтан увлажнял томный и жгучий воздух…
Андре Моваль вздрогнул. Перед ним раскинулась своей сероватой мостовой площадь Пантеона. Группы студентов рассеивались, перекликаясь. На бледно-голубом небе, покрытом небольшими облачками, купол здания выделялся своей стройной округленностью. В этой картине не было ничего восточного, точно так же, как и в свежести этого ноябрьского утра. Андре живо поднял воротник пальто. Его мать не раз наказывала ему беречься от простуды. Будущему консулу не следовало схватывать насморка! Он улыбнулся. Что подумала бы г-жа Моваль, если бы узнала, что гурии Востока сочетали свои обнаженные танцы с лекциями доброго г-на Гюйоннэ! Андре убедился лишний раз в том, что, вырастая, мы начинаем иметь тайны от своих родителей. Наступает момент, когда у каждого является своя собственная жизнь и право поступать по своим желаниям. Согласует ли он свою жизнь с консульскими планами г-на Моваля? У него было еще достаточно времени, чтобы позаботиться об этом вопросе. Впоследствии видно будет. А пока к чему огорчать отца? Без сомнения залитый солнцем Восток должен быть прекрасен, но и у этого тонкого осеннего парижского утра была своя прелесть. Эта большая площадь, пустынная и правильная, была не лишена некоторого скромного благородства, как и сама улица Суффло – известной приятности. Вдали деревья Люксембургского сада, начинавшие обнажаться, за позолоченными железными решетками показывали свою рыжую листву, закрывавшую серые крыши дворца. Андре подумал о террасах сада. Они, наверное, устланы прекрасными палыми листьями.
Он замедлил шаг. Сумка мешала ему. Он больше не станет брать ее с собой. Она придавала ему вид студента, а это раздражало его. К чему тащить с собой этот знак школьных занятий? Разве г-н Гюйоннэ ходит по улицам, наряженный в свою тогу? Как раз профессор только что перегнал его; красивый мужчина, элегантно одетый; говорили, что он любовник одной светской женщины, которая иногда по окончании лекций дожидалась его в своем экипаже возле Пантеона. Сегодня г-н Гюйоннэ возвращался пешком, и Андре поклонился ему, когда тот проходил, столько же затем, чтобы показать, что он был воспитан, сколько и для того, чтобы в душе извиниться перед ним за недостаточное внимание во время лекции. Г-н Гюйоннэ ответил на его поклон. Вместо цилиндра и хорошо скроенного жакета, Андре представил себе на голове и плечах профессора докторские шапочку и одеяние. Как смешон был бы г-н Гюйоннэ, предаваясь любви в этом одеянии! Эта мысль позабавила юношу. Положительно его восточные фантазии привели его в игривое настроение.
Он остановился перед витриной букиниста. Взгляд его пробежал по заглавиям ряда книг по праву. Над ними стояли ряды других томов, среди которых он заметил экземпляр «Любовных поэм» Марка-Антуана де Кердрана. Вдруг в его памяти запела строфа, благородная, чистая, звучная. Другая ответила ей. Андре был изумлен. Эти прекрасные стихи гнали из его души пошлые образы. Стихи очищали атмосферу его мыслей. Великий поэт воспевал не увлечение, не прихоть сердца или чувственности, но ту любовь, которая захватывает жизнь человека, овладевает ею, наполняет ее; то была чудесная и божественная страсть, которая навсегда поражает и облагораживает того, кто испытал ее. Марк-Антуан де Кердран был одним из таких избранных. От этого вместе со славой он приобрел нечто нежное, значительное и скорбное.
Между тем Андре Моваль достиг решетки Люксембургского сада. Под рассаженными в шахматном порядке деревьями площадки песок был устлан палыми листьями, которые садовники сгребали и собирали в большие золотистые кучи. В длинном бассейне фонтана Медичи они покрывали темную воду своими плавучими гирляндами. То были листья платанов, широкие, с вырезанными краями, желтизна которых была усеяна пурпурными жилками. Один из них застрял в растрепанной шевелюре Полифема, нагнувшегося со своей скалы к Нимфе и Пастуху, страстно обнимавшимся в углублении грота. Андре, опираясь на балюстраду, смотрел на мраморную чету. Белое и жеманное тело Галатеи [4]4
Галатея – морское божество, нереида; возлюбленная Ациса, сына лесного бога Пана. Влюбленный в Галатею страшный циклоп Полифем подстерег Ациса и раздавил его скалой; Галатея превратила своего любимого в прозрачную речку. Миф о Галатее послужил основой для скульптурной группы фонтана Медичи в Люксембургском саду а Париже (1852; скульптор Огюст-Луи-Мари-Оттен, 1811–1890).
[Закрыть]занимало его. Он любовался его покорной стройностью. Конечно, великая любовь – вещь прекрасная, но и простое объятие живого тела разве не восхитительное наслаждение? Это так, но он не делался от этого менее смешным, стоя здесь, как любопытный школьник, мечтательно любующийся мраморной женщиной! Это было хорошо в четырнадцать лет, когда отец водил его в дождливые воскресенья в Луврский музей! Что он тут делал, перед этими героями мифа, спрятанными под скалой, возле тосканского портика? У него было о чем подумать. Разве для него Галатея не раскрыла своих покровов? Он знал женское тело и наслаждение, которое оно дает. У него бывали любовницы.
Любовницы! Слово показалось ему слишком внушительным для определения мелких любовных приключений, выпадавших на его долю. Поэтому, чтобы придать им больше значения, он предпочитал соединять их в одно-единственное представление, делать из них, так сказать, одно тело, одно лицо, так чтобы отдельные индивидуальности не выделялись, но представлялись его уму, как нечто осязаемое и ощутимое, а не как пустая фантазия.
Дворцовые часы, пробившие половину одиннадцатого, вывели его из мечтаний. Нужно было подумать о возвращении на улицу Бо-з-Ар, где он жил. Завтрак был в половине первого, а г-н Моваль не любил, чтобы его заставляли ждать, так как к двум часам ему нужно было возвращаться в свою канцелярию. Андре жалел его за эту подчиненность, от которой г-н Моваль, однако, не страдал. Он был человеком точным, аккуратным и умеренным. Он даже не курил. В этом Андре завидовал ему. Сам он любил хорошие папиросы, но это подрывало тощий бюджет юноши. Бюджет этот являлся всегда одной из его забот. Как часто эта относительная бедность заставляла его пропускать много приятных увеселений и даже тех маленьких случайностей, которые в Париже, если отдаваться им как следует, требуют нескольких луидоров. Эта зависимость, в которой его держали и на которую он не смел жаловаться, ибо на этот счет он был горд, удалила его от друзей, которых он приобрел в коллеже. Многие из тех, которых он предпочитал, были богаты, а он не считал для себя возможным разделять с ними их развлечения, равняться с ними в удовольствиях, которым посвящали они свой первый пыл молодости. Поэтому он понемногу перестал ходить к ним и жил одиноко. К счастью для него, он любил чтение и прогулки. Все же ему хотелось бы быть немного побогаче. Ах! Синие бумажки не падали в его кошелек подобно золотым листьям на Люксембургской площадке! Он проворно поймал один из них на лету. Чей-то хохот заставил его повернуть голову.
– Браво, Моваль!
Антуан де Берсен вместе со своим ящиком с акварелью, положенным на перила террасы, и с большой вазой, около которой он расположился, представлял собой приятную романтическую виньетку. Его широкие брюки, суженные у щиколоток, свободный вестон с отложным воротником, большой галстук, фетровая шляпа с длинным ворсом придавали ему живописный вид. Антуан де Берсен носил усы и острую бородку. У него было цветущее, загорелое лицо с правильными чертами, крепкое тело и тонкие руки. На стуле, позади него, лежал аккуратно сложенный испанский плащ. Андре познакомился с ним в первый год изучения права в одной пивной Латинского квартала. Его друг, Эли Древе, представил их. Они встретились снова, и однажды Берсен попросил Андре позировать ему для головы в одной картине – Андре согласился. Благодаря этим сеансам они стали приятелями, хотя Берсен был много старше его: Антуану было двадцать семь лет. Но художник относился к Андре с дружеской сердечностью, чем Андре был очень тронут.
Антуан де Берсен протянул руку молодому человеку:
– Разве Древе не сказал тебе, что я в Париже? А ведь я поручил ему передать это тебе, но у него сейчас голова кругом идет. Я его недели две, по крайней мере, не видел. Он воображает, что основывает журнал. Он лучше бы полечился, на что он похож! Впрочем, ты знаешь, как я об этом думаю… Прежде всего здоровье, без которого не бывает ни труда, ни таланта, ни медалей! Ах! В этом отношении я принадлежу к школе госпожи Моваль, твоей матушки. Гений не должен простужаться. Само собой, все это я говорю для себя, а не для тебя, презренный юрист… Ну, не смотри на мою мазню, посмотри лучше сюда. Не правда ли, хорошо?
Кончиком своего карандаша Берсен указывал на старый дворец в итальянском вкусе, возвышавшийся над цветниками, над лужайками, над аллеями сада, обрамленного отлогими площадками. Бассейн простирал свое круглое жидкое зеркало. Вдали, под деревьями, одетыми в золотые листья, меж стволов белели статуи.
Быстрый карандаш художника набросал несколько линий на бумаге. Он продолжал:
– И к тому же этот сад полон женщин! Я наблюдаю за ними, когда работаю здесь. Это забавляет меня. Тут встречаются все категории. По утрам особенно это бывает смешно. Сюда приходят буржуазки, возвращающиеся от обедни или из магазинов, работницы, служанки, торговки, настоящие дамы, маленькие бульварные феи. Трем четвертям из них совершенно нечего делать в сих местах, как говорится в трагедиях. Я уверен, что они делают крюк, чтобы зайти сюда. Их привлекает сюда правильность, образцовый порядок этого места, его благоустроенный вид, его некоторая неизменность, потому что, видишь ли, они больше всего на свете любят то, от чего веет продолжительностью, постоянством. Принято говорить, что они ищут приключений, романтики, – как бы не так! Им нужна лишь уверенность в том, что завтра будет походить на сегодня. Поэтому-то они и любят деньги, так как при них непредвиденное сводится к минимуму. И от этого же происходит их наклонность к браку. В каждой женщине таится скрытая буржуазка. Правда, у них бывают минуты безумия. Они бросают свои чепцы через мельницы, но при этом не желают ничего лучшего, как стать самим мельничихами… У меня вот есть любовница, Алиса, девчонка лет двадцати. Семнадцати лет она бросила своих родных для того, чтобы пуститься во все тяжкие. Это скорей указывает на темперамент, не так ли? Один бог знает, где только она не путалась! И что же, едва только она водворилась у меня, как возымела только одну мысль – разыгрывать большую даму! Образцовая хозяйка, милый мой. Ты ее увидишь, когда придешь в мою мастерскую, так как мы живем вместе, с лета… Не хочешь ли пообедать с нами сегодня вечером?
Андре Моваль покачал головой.
– Невозможно, среда – это день дяди Гюбера.
Антуан де Берсен не настаивал. Он знал, что Андре Моваль – покорный сын. Приглашенный в прошлом году к родителям Андре, он угадал, с кем имеет дело, и явился к ним в корректном сюртуке. Он держал себя у них как молодой человек из хорошего общества, не как художник, а как сын провинциального дворянина, который, если и имеет в Париже мастерскую, все же владеет в своей провинции и усадебкой, и голубятней. Андре был ему благодарен за выказанный такт. Впрочем, Антуан очень понравился г-ну и г-же Моваль. Дядя Гюбер, присутствовавший на обеде, объявил, что молодой Берсен похож как две капли воды на убитого при Сольферино [5]5
Сольферино – местечко близ Мантуи (Италия). 24 июня 1859 г при Сольферино союзные войска под командованием Наполеона III одержали решающую победу над армией Франца-Иосифа, что повлекло за собой полное освобождение Ломбардии от австрийского владычества.
[Закрыть]некоего Монара, из 3-го стрелкового полка.
– Тогда приходи, когда захочешь, около пяти часов. Ты познакомишься с Алисой. Ну а у тебя есть кто-нибудь в настоящее время?
Берсен засмеялся:
– Нет… В таком случае обращаю твое внимание на Селину, натурщицу. Она находит тебя очень милым. К тому же ты нравишься женщинам, поросенок! Вот, полюбуйся собой.
На одной из страниц своей записной книжки Антуан во время разговора наскоро набросал силуэт юноши. Андре узнал себя в нем и не остался недовольным своим видом. У него было овальное свежее лицо с пробивавшимися усиками. Да еще Берсен не мог нарисовать прекрасной пряди волос на его лбу из-за шляпы, закрывавшей ее. С подобным лицом ему не было никакого основания бояться не быть любимым женщинами, не только какой-нибудь Алисой или Селиной, но настоящими женщинами, из тех, которые любят не по расчету, не по профессии, но для наслаждения, для страсти, для любви. И он желал этой любви, любви взаимной и добровольной, пылкой, свободной, нежной, в которой оба любовника совместно наслаждаются друг другом, в которой сердце участвует так же, как и чувственность; которую не нарушает ни одна забота, чуждая сладострастию; которая, слившись из чувства и чувственности, ищет в них совершенства и умеет усиливать свое обаяние прелестью пейзажей, красивым расположением вещей, изяществом украшений, элегантностью туалета, красотой и благоуханием цветка.
Антуан де Берсен взял из рук Андре Моваля листок и разорвал его на кусочки.
– Довольно, Нарцисс! Вот, посмотри-ка лучше.
Он толкнул локтем юношу, указывал на двух гуляющих, которые приближались к ним, и прошептал ему на ухо два имени, заставившие его вздрогнуть.
Первый из них был уже пожилой человек, высокого роста, слегка сгорбленный, с лицом благородным и добрым. Он шел, опираясь на трость и разговаривая со своим спутником, менее высоким, чем он сам, но хорошо сложенным и с изящной внешностью. Второму было около сорока пяти лет. Из-под темных бровей смотрел пронзительный взгляд. У обоих в петличке красовалась ленточка Почетного Легиона. Проходя около молодых людей, старик отшвырнул концом трости лоскутки бумаги, только что брошенные Берсеном.
Андре Моваль смотрел им вслед. Взволнованным голосом он спросил Берсена:
– Тот высокий – Марк-Антуан де Кердран, не так ли? А другой?
– Другой? Да это – Дюмэн, романист. Разве ты не видал его портрета, написанного Спира, в последнем Салоне [6]6
Салоны – периодические выставки современного искусства во Франции, учрежденные Людовиком XIV в 1667 г. по инициативе Ж. Б. Кольбера. Сначала они устраивались раз в два года, а в период с 1733 по 1751 гг. и с 186 3 г. – ежегодно. Свое название Салоны получили от квадратной гостиной (Salon carre) Лувра.
[Закрыть]? Это поразительная вещь.
Жак Дюмэн был знаменит. Успех он имел выдающийся столько же в литературе, сколько и в свете. Он выступил тридцати с лишком лет и сразу достиг известности, которая делалась все большей с каждой новой книгой. Будучи замечательным писателем и проницательным наблюдателем, он сделался могучим и тонким изобразителем современной парижанки. Женщины были без ума от его романов, в одно и то же время смелых и тонких, и они выказывали свою благодарность романисту за то, что он разгадал их. Дюмэн, несмотря на несколько связей, наделавших шуму, был не столько человеком, имеющим успех у женщин, сколько каким-то оракулом феминизма, советчиком и духовником. Андре Моваль задумался. О чем могли говорить между собой великий поэт любви и проницательный психолог любви, проходя по этому грустному осеннему саду? Каким сентиментальным и чувственным воспоминаниям предавались они, ступал по увядшим листьям этих аллей?.. Андре хотелось бы подслушать, о чем они говорят. Он завидовал и тому и другому… Подобно одному из них, он хотел бы познать великую страсть, ту, что оставляет в сердце благоуханный и горький пепел; подобно другому, он хотел бы срывать на своем пути разнообразные цветы и сохранить в своей памяти их высохшие и душистые лепестки; пережить, как Марк-Антуан де Кердран, единственное и полное откровение любви и, как Жак Дюмэн, научиться распутывать все ее хитрости и разгадывать все ее маски!








