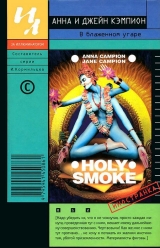
Текст книги "В блаженном угаре"
Автор книги: Анна Кэмпион
Соавторы: Джейн Кэмпион
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
21
Самый прикол в том, что больше ни одной машины. Я давно уже здесь торчу, но после того красного фургона – фиг, ни легковушек, ни грузовиков. А я-то, увидев это поганое шоссе, чуть не умерла от счастья, изо всех сил рванула вниз по склону, думала, вот оно, спасение, сейчас же что-нибудь поймаю. Силы, видно, были самые последние, и теперь у меня подкашиваются коленки. Ладно, можно и посидеть, рано я обрадовалась. Смотрю на сизое дорожное полотно. Оно нестерпимо блестит и словно бы течет, словно бы меня гипнотизирует. Зыбкие струи жара над расплавленным гудроном пересекаются, кружатся, и голова моя кружится, наливается тяжестью… все… сплю-ю-ю.
…Вдруг просыпаюсь – оттого, что мне кажется, будто кто-то на меня смотрит, так, наверное, смотрят привидения. Но на дороге – ни единой души или машины, никаких признаков жизни. Нет, нельзя ему поддаваться, если распсихуюсь, будет еще противней, еще больнее… а голова просто сейчас лопнет, это от напряжения, оттого что стараюсь отогнать эту одурь, эту мутную пелену перед глазами. Прищуриваюсь и пытаюсь сообразить, куда она ведет, дорога. Но не могу определить, где запад, а где восток. Солнце садится на западе, однако пока оно никуда не собирается, вон как шпарит, печет мою несчастную голову… Да… А где же трусы? Ч-черт, не сразу понимаю, что ноги мои бредут вдоль шоссе, а глаза ищут эти проклятые трусы. Очень может быть, что я обронила их раньше, еще до того, как заснула. Господи, я должна их найти, роюсь в пластиковых пакетах, валяющихся на обочине. Может, эти пакеты связать и сварганить нечто вроде подгузника? Нет, ничего не получается, концы не связываются, расползаются в руках, тянутся, как разжеванная жвачка. Я в полной прострации, боже, это какой-то кошмарный сон: будто сидишь на толчке, а стены туалета вдруг исчезают. Даже не знаю, заметно ли вообще, что я без трусов. Плотнее прижимаю к паху край посудного полотенца, смотрю, не просвечивают ли волосы, оно ведь тоненькое. Хороша, ничего не скажешь! Я и не говорю… я уже ни о чем не могу думать, просто мечусь то туда, то сюда вдоль дороги, тупо продолжая высматривать машины – ни черта. Высматривать – сильно сказано, я так психую, что почти ничего не вижу. Та-а-ак, вроде едут, сразу две. В одной семейство с детишками, мама – за рулем. Она машет мне, я ей, она подъезжает, продолжая мне махать, хочу подойти, но вместо этого прищуриваюсь: вдруг мне просто показалось… что она готова меня забрать. Вторая катит – «вольво», на этот раз становлюсь посреди дороги. Улыбка – мах рукой – снова улыбка, и результат: «вольво» притормаживает. О-о, мужчина. Осторожненько подъезжает, смотрит, останавливается, снова смотрит. Шатен с короткой стрижкой, усы, темные очки фирмы «Рей-бан». Я бросаюсь к окну: «ПОМОГИТЕ! СПАСИТЕ! Помогите мне…» Проклятые книги все уже истрепались, рассыпаются, пальцы болят, натерла. Раздается скрежет: «вольво» отваливает, клочки страниц от резкого колебания воздуха взвиваются и летят на середину дорожного полотна. Видок у меня, однако… как у чокнутой, сбежавшей из психушки. Почему как? Я и есть чокнутая, кто бы сомневался… Нет, никто не захочет такое чучело везти.
Мысли путаются… никак не могу сообразить, с какой стороны лучше встать, где больше шансов кого-нибудь заловить. Картинка прямо из журнальчика Робби: голожопая красотка ловит попутку. Но никто на нее не клюет, хоть плачь. Стою как приклеенная у обочины, вся такая скромная и смирная, но они мимо и мимо – и легковые, и грузовые… Стараюсь держаться с достоинством: легкая скорбь, никаких жестов отчаянья, иначе опять спугну. Стыдливо помахиваю очередной машинке. Надо же… гудит, сбрасывает скорость, фары почему-то включенные. О господи… это же папа! Это его голова торчит из окошка, это он счастливо улыбается, скаля ровные желтоватые зубы. Резко свернув, подъезжает. Мне кажется, что я брежу, нет, не может быть. Даже страшно. А рядом с папой Билл-Билл, который во всю глотку орет:
– Рут! Рут!
Папа, вклинившись между его воплями, тоже кричит:
– Ох, Рути… Господи Иисусе, это ты?! Ты же вся обгорела. Живо залезай! Живо!
Но я не двигаюсь с места. Мне сейчас гораздо нужнее другое…
– Хочу пить!
– Конечно, детка, ну давай, прыг-скок.
Голос у него странно высокий и вибрирует, он зазывно трясет бутылкой:
– Ну же, дорогая, я жду.
– Пи-и-ть, – жалобно ною я, в этот момент я ничего не вижу, кроме бутылки.
Тут папа вылезает, он без рубашки. Он медлит… мы оба чувствуем себя неловко. Билл-Билл нервно хихикает… ха-ха-ха: вроде как, будет вам, вы никогда раньше так не ссорились. Для разрядки вспоминаем прикольные шуточки Синатры, типа: «Каждая поющая блядь хочет выбрать мой путь». [64]64
Обыгрывается название известной песни из репертуара Фрэнка Синатры: «Мой путь».
[Закрыть]
– На, Рути, попей, только маленькими глоточками. – Поддерживая донышко, папа подносит бутылку к моему рту.
– Маленькими. – Оба тщательно следят, чтобы я не захлебнулась.
Взрослой Рут больше не существует. Я для них сейчас просто маленькая девчушка, которая разгуливает в жутких лохмотьях по шоссе, жалкая, и беспомощная, и вся в слезах. Ну да, все верно, я действительно беспомощный младенец, я так их ждала, мне так нужно их сочувствие, их защита… Папа робко подходит ближе.
– Хватит, мы не можем торчать тут целый день. – Хочет забрать у меня бутылку, но я тяну ее назад.
– Пап, он ударил меня, сбил с ног.
– Да что ты? Даже так? Это он зря, перестарался. А кстати, где он?
– Пап, ты не слушаешь меня.
– Почему же, мы слушаем тебя очень внимательно, правда, Билл-Билл?
– Конечно, – отвечает Билл-Билл, – конечно, а для чего же мы тут, уладим все в лучшем виде, не бойсь.
Чпок! Бутылка падает и, грохнувшись о гравий, отлетает на середину дороги. Я, шатаясь и прихрамывая, устремляюсь к ней.
– Слева, Билл, заходи слева!
Они обступают меня с обеих сторон.
– Брать будем под коленки, так, чтобы ноги на весу.
Я сажусь прямо на дорогу, опускаю голову и вся сжимаюсь.
– Пап, я не хочу идти в полицию.
– Вот и умница, ты всегда верила, что в людях больше хорошего. Билл думает, что в последнее время ты много чего поняла, правда, Билл?
– Правда. Мы действительно так думаем.
– Пап, он сбил меня с ног.
– Я слышал, слышал… но ты же говоришь, что в полицию идти не хочешь…
О-охх, я больше не могу, в полном ауте, мне все равно, что я, где я, жива ли я… пле-вать.
– Ладно, поезжайте, прямо на меня.
– Что?
– Садитесь в машину и вперед – давите меня.
Я прячу голову в колени и слышу, как они вполголоса что-то обсуждают, потом слышу щелчок зажигалки, шелест шин, скрежет тормозов. Потом хлопает дверца, топот, хруст гравия.
– У детки поехала крыша, – испуганно кричит папа, – срочно в больницу, к психиатру!
Огромная ладонь нежно обхватывает мой затылок, потом его пальцы стискивают виски. Самая ласковая, самая родная рука, как крепко, как плотно она меня держит, и теперь совсем близко его голова, самая глупая на свете… Бедный папа растерян, не знает, что делать. Щуримся от солнца, молчим, говорят только глаза. Его, немного мрачные, мои, торопливо пытающиеся внушить: «Ты же знаешь, что я не сумасшедшая, папочка. Я просто испугалась».
– У меня, между прочим, брат шизофреник.
Не знаю, что сказать, помолчав, небрежно интересуюсь:
– А он привязывает книжки к ногам?
Папа хохочет и спрашивает: как мне в таких сандаликах, удобно?
– Да не очень. Быстро рвутся.
Он снова хохочет:
– Ну как ты, ничего?
– Да не очень. Если честно, мне жутко плохо.
Покрепче ухватившись, они пытаются меня поднять. И тут диафрагма моя конвульсивно вжимается внутрь, позыв рвоты понуждает согнуться почти до земли, только рвать мне нечем, я натужно кашляю и давлюсь. Вдруг пальцы мои нащупывают какой-то острый камешек и цепко в него впиваются. Поднимаю глаза. Что это? На меня движется белый фургончик. Он медленно-медленно подкрадывается к руке, сжимающей камень, я чувствую, как в истоме ожидания напрягаются мускулы.
Папа и Билл-Билл проходят вперед.
Фургончик, вильнув в сторону, тормозит.
Папа и Билл-Билл подбегают к кабине, у Билл-Билла появляются в руках какие-то одеяла, он носится туда-сюда вдоль машины.
А из нее вдруг вылезают Тим и Робби, оба закуривают.
Ивонна. Наклоняется, перегнувшись через спинку заднего сиденья, над багажником.
Робби орет на папу.
Билл-Билл тычет пальцем в мою сторону.
Камень впивается в ладонь, это когда Тимми крепко меня обнимает, потом подводит к багажнику и показывает Пи Джея. Он истекает кровью, сплошные ушибы, он ужасен. Я не могу на это смотреть. Папа почему-то дает Робби пинка, слезы холодят мои щеки. Робби и папа начинают драться. Я кричу на них, я не хочу, чтобы Пи Джей умер.
Когда мы приехали в мотель, я сообразила, что все еще сжимаю в кулаке тот острый камушек, – ну просто жаждущая возмездия Кэрол. Мама (вот бред!) зачем-то решила помыть его теплой водой. Я потребовала, чтобы мне его сию минуту вернули, что было еще большим бредом. Мама стала звонить врачу.
Я рассказала докторше про камень, и она тут же сунула мне таблетку валиума. [65]65
Валиум – мягкий транквилизатор.
[Закрыть]Она не старая и не вредная. Толстенькая, невысокая, белобрысая, с пухлыми руками, усыпанными веснушками. Она сидит у меня на постели. В комнате больше никого. Спрашивает, не принуждали ли меня к сожительству. Я мотаю головой.
– А с вашего согласия?
Киваю.
– Пользовались контрацептивами?
Мотаю головой.
– Хотите таблетку «утро-после»?
Киваю.
Говорит, что назначит мне мазь от солнечных ожогов, мазаться нужно будет неделю. И что мне нельзя пользоваться духами, пудрой, пахучими шампунями и мылом с отдушкой, а также крепкими лосьонами.
Возникает пауза: это она пишет мне рецепт.
Я выразительно покашливаю и указываю на дверь:
– Кхм-кхм. Они нас слушают?
Она поднимает голову:
– Кто?
Чувствую себя полной идиоткой и тупо рассматриваю свои ладони… слышу, как она рядом дышит. Так проходит кошмарная минута, потом докторша встает, идет к двери и высовывает голову наружу.
– Никого. – Она снова усаживается на край кровати. – Так что вы хотели мне сказать?
– Я хотела… мм… тот американец, он…
– Тот, с которым вы имели половой контакт?
– Да, тот. – О г-господи… как она это сказала, выдала прямым текстом. Я жутко краснею, сама не знаю почему. Они все знают. Наверное, поэтому. Конечно же, они все знают. Мне в общем-то плевать, и в то же время… выходит, не совсем. Я сосредоточенно утюжу простыню своим камушком.
– Скажите, где он.
– Гмм. – Она внимательно на меня смотрит.
– Я просто хочу знать, где он. В больнице?
Она сверлит меня долгим тяжелым взглядом, я в ответ улыбаюсь долгой вымученной улыбкой, мы обе смотрим на камень, которым я часто-часто постукиваю по матрасу… а ведь неплохой повод похихикать, свести все к шутке. Протягиваю камень докторше.
– Спасибо.
Ей мой камушек на фиг не нужен, но подарок все-таки, еще и домой его потащит, я мысленно снова хихикаю.
– Ловкий ход, – говорит она. Я гордо киваю и секунду-другую еще держусь, но потом меня прорывает: я бессовестно хохочу, до истерики…
22
Очнулся я под кислородной маской и увидел, что лежу в незнакомой темной комнате, но в нее попадает свет из окон более низкого соседнего здания. Пульса почти нет, зато в правой ноге что-то здорово бьется и дергает. Взгляд натыкается на длинную трубку. Она тянется к комку ваты, облепленному пластырем, через секунду-другую соображаю, что этот комок – моя рука. Ну и уродина. Мне, пожалуй, не хочется знать, что с ней такое. Малейшее движение – интересная штука! – тут же отдается пульсирующей болью в руках и ногах. Но самое поразительное другое: оказывается, я жив, и рядом – никого.
Последнее, что я помню: Рут танцует, вскоре их уже двадцать, одетых в сари, кружатся в танце; часть их исторглась из огромной ее статуи, часть – это преобразившиеся, отколовшиеся от нее, от каменной, кусочки. Малютки в сари двоятся, троятся. Они падают на землю и разбиваются, превращаясь в переливчатые дрожащие капли ртути. [66]66
В эзотерических учениях (в частности, в учениях алхимиков) ртуть – символ женской природы, непостоянной и непредсказуемой, символ, означающий интуицию как противоположность рациональности.
[Закрыть]Капли тоже продолжают танцевать. Сбиваются в стайку, перетекая влево, потом перемещаются вправо. Какие у нее… у них… легкие движения, неземная красота, а это ритмичное притопыванье – пяточкой, потом всей ступней… непередаваемо… Как в Бали-Хаи. [67]67
Бали-Хаи – знаменитый морской курортный комплекс, расположенный на индонезийском острове Бали.
[Закрыть]Крошка моя ненаглядная, приди, приди же ко мне…
Поднос с питьем на всякий случай отодвинули подальше, на самый край тумбочки. Та-а-ак, значит, я в больнице и теперь гораздо более беспомощен, чем в том проклятом домике: ни телефона, ни единой души у постели страждущего, даже Кэрол нет. Вот-вот, даже ее… наверняка они ей такого наговорили… А она не их тех, кто умеет мыслить широко. Нет, не из тех. Если Ивонна выложила ей все примечательные и «достоверные» подробности, у Кэрол я точно не найду понимания. Ну и плевать, расслабься, ты на карантине, вот и отдыхай.Да уж, по крайней мере, не придется все это выслушивать. Заново все пережевывать. И дожевывать.
…«А потом он сказал, что специально надел ее вещи и намазался ее косметикой, ему хотелось любить ее не как мужчина любит женщину, а как женщина женщину».
«О-о, нет (и пулеметная очередь из громких прерывистых „нет-нет-нет“), он не мог этого сделать!»
«А вот и мог, мог! Он сам говорил. Говорил, что так он чувствует более полную с ней близость».
«Какая гадость!..»
Гадость? Еще бы не гадость – эти разоблачения, почерпнутые из обширного опыта ее муженька Робби, обожающего жесткое порно.
«Ее заставили…» – красноречивые паузы: дескать, сами понимаете.А потом уже и пауз никаких, ибо нет слов, чтобы ЭТО передать. А потом… Боже… надо будет отослать им чек.
А ведь я правда извращенец. Опять упиваюсь миазмами унижения – свежий воздух, видимо, слишком для меня чист.
Они наверняка уже нашли ее. Не могла она сильно меня обогнать. Ищу глазами часы. Я всегда полагал, что в больницах везде должны быть часы. Но в этом боксе их нет. И меня это почти не трогает – то, что я очутился вне временных ориентиров. Это что-то новенькое, опасный вирус, состояние, которого я всегда боялся. Боялся быть «менее», точнее говоря, обнаружить перед кем-то, что я «менее», чем кажусь. Менее умный, менее собранный, менее щепетильный, менее, мм… сообразительный.Не знаю вот, какое сегодня число – двадцать третье или двадцать четвертое? Это даже забавно, до тех пор, пока не поймешь, что неизвестно, когда сможешь узнать…
Рут, я люблю тебя и знай: сейчас я обббязззательно доберусь до подноса, да-да, я хочу быть спокойным и бесстрастным, я выпью чистой воды, и потом ни крошки пищи. Я совершу обряд очищения.
23
В шесть часов(!) двадцать четвертого я все-таки испортила им праздник. Мама безропотно везет меня в больницу, уверяет, что никогда не любила Рождество и что ничего я не испортила, наоборот, ей очень приятно проехаться с утра пораньше. Мама наклоняется и сжимает мою руку:
– Ну как ты, солнышко?
Жмет еще сильнее, мне даже больно.
– Ох, прости, дорогая, я нечаянно.
И снова:
– Так как ты?
Совсем меня достала, но, честно говоря, мне это страшно нравится.
Когда мы подъезжаем к воротам, на меня вдруг находит ступор – от смущения. Сидим в машине, молчим. Начинает мама:
– Та-а-ак.
– И что? Что ты хочешь этим сказать?
– Так, – снова произносит она и гладит мой лоб, – тебе совсем не обязательно это делать, – ее пальцы ловко убирают с моей брови выбившуюся прядь, – если хочешь, давай развернемся и поедем домой.
Одна захожу в калитку, из кроны дерева доносятся пронзительные вопли розовых какаду. Тут прохладно, в этом шатре из света и тени, но ладони сразу потеют. Такое ощущение, что с меня сняли кожу и теперь каждый может увидеть мою душу, все мои недавние постельные подвиги. Толкаю дверь туалета, мою руки, пью, присаживаюсь пописать. Сама не знаю, зачем я пришла, знаю только, что должна каким-то образом закончить эту историю. Вот только, спрашивается, как? Хотелось бы попроще, без всяких выкрутасов, но я совсем не уверена, что сумею… без выкрутасов. Вижу дверь с цифрой 113: сто тринадцать и огромная стрелка, указывающая налево. Потрескавшиеся потолки, на полу чуть заметные следы от колесиков каталок, в местах разворота, лампы без абажуров, детские рисунки на стенах, бирюзовые занавески. Вся проблема в том, что я вряд ли бы смогла так – чтобы больше с ним не увидеться. Да, в этом весь прикол. Мама меня поняла, и я очень ей за это благодарна.
Его бокс в самом конце коридора, напротив огромного, залитого солнцем окна. На ручке висит табличка: «Просьба не беспокоить». Я робко берусь за ручку, чуть поворачиваю, но, помедлив, кручу назад, так и не открыв замок. Топчусь около окна, наблюдаю за попугаями, которые скачут по газону. На его зеленой поверхности желтеют заплатки высохшей травы. Несколько вытоптанных тропинок: по ним короче идти к парковочной площадке. Под деревом болтают две медсестрички, все время хохочут, что-то пьют из белых одноразовых чашек. Та, что в голубой кофточке, сняла туфли и гладит ступней ствол. У второй в руках пакет с воздушной кукурузой. Открыв его, она бросает на газон пригоршню кукурузы. Попугаи чумеют от восторга…
Вот это нормальная жизнь, мелькает у меня в голове.
Так зачем я сюда явилась? Может быть, мной двигало желание снова оказаться в одном с ним пространстве: не просто в комнате, а в егокомнате. Боже, какая же я дура и мерзавка, накручивала себя, делала из него чудовищного монстра, дурацкие глюки. Когда мы разговаривали, ничего подобного не происходило, я видела его таким, какой он и есть. Но стоило мне отойти в сторону, фантазия начинала работать. Я мысленно раздувала его могущество и коварство, превращала бедного Пи Джея в ВОПЛОЩЕНИЕ ЗЛА. А когда мы снова усаживались за столик, он становился обыкновенным человеком, и я понимала, как сильно я раздула своего виртуального надувного чертика, именно чертика, а не черта. Да, настоящий Пи Джей, из костей и мяса, разочаровывал, а мне жутко хотелось видеть в нем рокового злодея, страшного и сильного. Иногда я даже внушала себе, что он прячет другое свое «я» – тщательно упакованное – в гардеробе…
А боюсь я вот чего: сейчас войду, а он опять скажет что-нибудь не то, какую-нибудь коронную свою фразу, я заведусь и снова проиграю. Вычислить, что это будет за фраза, конечно, невозможно. Так что нечего и дергаться.
Ну а сама-то я что ему скажу? Что у меня к нему куча всяких претензий и я такое могу сказануть, что мало не покажется. Покажется очень даже много, гарантирую. Например, вот это: «Ради денег ты не моргнув глазом ввязался в эту историю с моим похищением»; или: «Ты, индивидуалист хренов, даже одеться не умеешь нормально, ходишь в этой своей униформе: отстойные рубашки, глаженые джинсы, жуткие ботинки»; или: «Ты шарлатан, и я не хочу выслушивать твои объяснения, потому что это сплошное вранье. Не хочу, потому что ты никто, и на фиг мне сдалась твоя помощь… у меня все в порядке. В отличие от тебя. И не такой уж ты добренький, до сих пор ненавидишь своего гуру. А со мной ты как… стоило мне что-то рассказать, ты тут же оборачивал это против меня, тут же демонстрировал свою силу и власть. Быть главными хотят все. Только слабые на это не способны, и по-настоящему сильные личности должны быть терпимы, ведь они у власти». И еще я ему сказала бы: «Я тебя вроде как обвиняю, но так уж устроен мир: каждый всегда ищет виноватых».
А он бы мне в ответ на все это:
«Рут, у тебя изумительно красивое те…»
Нет, он скажет другое:
«О-ох. Пожалуйста, посмотри на свой лобик. И прочти, что там написано».
Поворачиваю ручку и вхожу. В комнате темно, и по абсолютно полной тишине понимаю: он спит. Первая мысль: притворяется, самый лучший способ застать меня врасплох, схватить… Боже, какая чушь… И веки, и губы, и кожа на голове чудовищно распухли и сплошь в волдырях. Голова у него стала вдвое больше, над бровью – рана, стянутая швом. Хочу прикоснуться, погладить и – боюсь. Но гораздо страшнее то, что он в таком тяжелом состоянии. И еще то, что он сейчас чем-то напоминает смешного уродца Франкенштейна. Подхожу к раковине и рассматриваю в зеркале свое припухшее лицо и… не знаю, что же мне делать. Нащупываю в кармане случайно завалявшийся обрывок бумаги, пишу:
МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ. НЕ ВСЕ. ПРИВЕТ. РУТ.
~~~
Дорогой Пи Джей!
За то время, что мы не виделись, я успела пообщаться с шестерыми гуру. Это праведники, их чаще называют по-другому: святые. Пятеро мужчин и одна женщина. Мужчины сказали мне, что я напрасно теряю время в разъездах, что Австралия, как им рассказывали, чудесная страна и очень богатая, короче, немного меня успокоили. Святая, та вот что говорит: тебе нужен не муж, тебе просто нужно научиться видеть Бога во всем. Я призналась ей, что до сих пор не могу понять смысл существования того «я», в котором я сейчас нахожусь. Она рассмеялась. Но я думаю, это она зря, нормальный вопрос, даже очень. С мамой у меня теперь мир. Мне все больше кажется, что на самом деле – в большинстве случаев – не она меня раздражала, а я сама, только до меня это не доходило. Конечно, она и сейчас иногда меня раздражает: то собирается целую вечность, то начинает выяснять отношения с наркоманом, который в отключке, то ее не оттащишь от очередной «ах какой красоты», от развалин, например. Со святыми общается запросто, будто сто лет их знает.
Один чувак сказал мне, что многие гуру очень ревнивы и терпеть друг друга не могут и что они ни в чем себе не отказывают. Еще он сказал, что все эти саньяси и саньясини – обыкновенные лодыри, неспособные адаптироваться к нормальной жизни. Я спросила, как он понимает смысл жизни и свой долг, он ответил, что ему некогда думать о всякой ерунде, поскольку он помогает бедным (это был, разумеется, намек). Глаз у этого чувака только один, вроде он им на тебя и не смотрит, но все подмечает, лучше любого двуглазого. В общем, поработали мы недельку в его приюте, отбыли наказание в пещере старого циклопа. Водил он нас в свою школу, впечатлений масса… дети у него там играют в игрушки, сделанные из всякого хлама, из веревок, жестянок, пробок. Одна девчушка показала мне свою кошку: кусок шины, обвязанный шерстью, я даже заплакала. Следующий наш пункт: «Приют для животных» в Джайпуре-Дургапуре, Раджастхан, это мамин бзик. Что буду делать дальше, еще не решила. Мама считает, что теперь нужно просто отдохнуть.
Ах да, у меня появился друг, он немного ревнует меня к тебе, и тут он прав. Не знаю и за что я тебя люблю, но люблю – издалека. Что там у тебя стряслось? Ведь что-то стряслось, я угадала?
Привет!
Рут.








