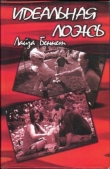Текст книги "День после ночи"
Автор книги: Анита Диамант
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Брайс не появлялся в ее комнате, пока там гостил мальчик, но и не возражал против этих непродолжительных разлук. Когда Дэнни приезжал в лагерь, глаза Тирцы, казалось, начинали светиться, а морщинки в уголках губ разглаживались. Все, что Брайс мог сделать для Тирцы и ее сына, – это угостить Дэнни ириской. Но полковнику хотелось большего. Он мечтал снять для нее квартиру в Тель-Авиве, как снимали другие офицеры для своих любовниц. Тогда можно было бы проводить вместе больше трех часов, вместе ужинать, вместе любоваться закатом.
Но сколько бы полковник ни представлял себе эту сцену, он понимал, что ничего этого никогда не произойдет. Тирца не из таких. Кто знает, как бы все обернулось, пожелай он сверх того, что у них было в душной тесной каморке. Возможно, любовь – или видимость любви – дала бы трещину. Как бы он ни хотел надеяться, что Тирца думает о нем, что бы ни говорили ему ее глаза и губы, он никогда не будет полностью уверен в ее чувствах.
Они давно перестали скрывать свои роли в той трагедии, что разыгрывалась сейчас в Палестине. Тирца открыто расспрашивала его обо всех лагерных делах – вплоть до количества часовых и маршрутов патрулей. А он, добровольный сообщник, подробно отвечал на ее вопросы.
Брайс ненавидел свою должность в Атлите. Он полагал возмутительным держать этих людей взаперти как преступников, особенно после того, как прочитал некоторые отчеты об освобождении концлагерей. Он видел фотографии, которые никогда не публиковались, потому что считались слишком шокирующими. Первое время он даже не мог спать. Но страшнее было другое. Эти снимки делались с самолета два или три года назад. А значит, союзники уже тогда знали и о концентрационных лагерях, и о подведенных к ним железных дорогах. Мысль о том, что ВВС Великобритании могли остановить массовые убийства, разбомбив эти скотобойни, ужасала его куда больше, чем снимки высохших тел, сложенных в штабеля. Он чувствовал себя соучастником тайного преступления и стыдился своей военной формы.
Он мечтал жениться на Тирце и тренировать еврейских солдат для борьбы с арабами, которые готовились к войне против еврейских поселений. Но он знал, что мечты эти неосуществимы. Ему доводилось видеть, как англичане «ассимилировались» в Индии. Профессиональный риск никто не отменял, а платить приходилось женщинам. Он никогда не допустит, чтобы Тирца оказалась в подобной ситуации.
Он также знал, что начальство рано или поздно узнает о его прегрешениях. Его демобилизуют и отошлют домой, где он займется рыбной ловлей, как его отец. И пить будет, как его отец. И будет от корки до корки прочитывать все газеты, выискивая новости из Палестины, гадая, что сталось с Тирцей и ее мальчиком. Будет сочинять длинные, откровенные письма, но так и не напишет ей ни строчки.
Звук шагов согнал их с постели. Тирца, завернувшись в простыню, сидела на кровати и смотрела, как он одевается. Она надеялась, что отношения между ними закончатся прежде, чем Дэнни объяснят, почему он должен ненавидеть полковника.
– Тирца, – сказал Брайс, – на севере неспокойно.
– Я знаю.
Газеты постоянно сообщали о растущей напряженности на границах с Ливаном и Сирией, где беженцы со всего региона пешком пробивались через горы. За время войны антиеврейские настроения в арабских странах усилились, и жизнь там становилась для евреев все опаснее. Дискриминация, преследования и погромы сделались обычным явлением даже в таких местах, как Багдад, где еврейская община процветала вот уже много лет. «Сионистская угроза» объединила арабский мир против еврейских планов создания родины, а заодно против исполнения британцами Палестинского мандата.
В надежде задобрить арабов британские командиры приказали еврейским иммигрантам на северных границах немедленно сдаться. Распоряжение это жители кибуцев дерзко проигнорировали. По слухам, Пальмах послал в помощь беженцам некоторое количество людей призывного возраста – улаживать территориальные споры.
– Я слышал, наши посылают туда еще одну дивизию, – сказал Брайс. – Хотят перекрыть границу. Похоже, будет заваруха. Думаю, тебе это важно знать.
– Ну да. – У Тирцы возникло чувство, будто ей заплатили за услуги.
– Жаль, что нельзя провести с тобой всю ночь. – Он словно не заметил стальных ноток в ее голосе. – Вдруг однажды получится, как ты думаешь?
Тирца представила, как они стоят вдвоем у окна с видом на море. По утрам она варила бы кофе.
Он шагнул к выходу, а она, повинуясь внезапному порыву, вскочила с кровати и обняла его сзади.
– Джонни, – прошептала она.
Сначала она называла его Джонни с тайным умыслом – чтобы не чувствовать себя шлюхой и чтобы заставить его казаться слабее. Потом – чтобы доказать себе, будто ее чувства к нему ничего не значат. Но теперь, как бы она ни старалась выговаривать это имя насмешливо или с прохладцей, оно стало проявлением нежности.
– Лайла тов[10], Джонни, – сказала она. – Спи сладко.
Эсфирь
Поскольку Зора ясно дала понять, что общаться ни с кем не желает, она порой целые дни проводила в полном одиночестве. Это ее устраивало, вот только о новых книгах она узнавала последней. Утром доставили посылку с крупным пожертвованием, но к тому времени, как эта новость дошла до Зоры, в коробках почти ничего не осталось.
Все романы и сборники рассказов разобрали, равно как и все, напечатанное на идише, немецком, польском и французском. Пришлось довольствоваться древнееврейской грамматикой с оторванной обложкой да ветхим сборником библейских мифов, переведенных на английский. Следующие три дня Зора провела в бараке, раздевшись по случаю жары до нижнего белья, – она увлеченно решала языковые головоломки.
Зора обожала изучать языки – к ним у нее был талант. Она с головой ушла в древние падежи и устаревшие глагольные времена из рассыпающегося учебника, принадлежавшего некоему Саулу Глиберману. Он оставил свою изящную подпись на внутренней стороне обложки и пометил галочками самые трудные, по его мнению (и по мнению Зоры тоже), места.
Книга мифов оказалась еще более интересной задачей, так как познания Зоры в области английского ограничивались киноафишами в Варшаве и несколькими словами, услышанными в Атлите от британских солдат. Каждую фразу приходилось перечитывать по многу раз, пока в памяти не всплывали родственные слова из других языков. Так, «night» удалось перевести благодаря «nacht» из немецкого и идиша, а польское «noc» и французское «nuit» послужили дополнительной подсказкой.
Одно-единственное слово могло стать ключом ко всему предложению, которое, в свою очередь, помогало понять, о чем говорится в следующем. Разгадав абзац, Зора поднимала от страницы воспаленные глаза. Вот бы рассказать кому-нибудь – хоть кому-нибудь, – что она поняла! Убив целый день на бесплодные попытки перевести слово «бледнеть», она разыскала Арика, служившего в палестинской бригаде британской армии в Италии. Но– слово «бледнеть» не было ему знакомо, так что Зора потащила его к одному из британских охранников; тот, прочтя предложение об огромной птице, которая заставляла бледнеть орлов и грифов, покатился со смеху.
Книги поглощали все дни Зоры и так утомляли ее, что она засыпала без особого труда и просыпалась рано, чтобы в тишине пустого барака поскорее вернуться к работе. Однако на шестой день своих лингвистических изысканий Зора, вернувшись с завтрака, обнаружила в бараке двух новичков. Они спали без задних ног на двух соседних койках – мать и ее маленький сын.
Они спали до вечера, потом до утра, спали весь следующий день. С завтрака до обеда и с обеда до ужина их не было слышно, и Зора перестала обращать на них внимание.
К третьему дню оба оправились достаточно, чтобы сидеть между приемами пищи. Они по-прежнему вели себя очень тихо, но Зора все-таки услышала, как они шепчутся по-польски. Диалект оказался ей знаком – она узнала говор своих варшавских соседей, выросших в деревне. Ее отец называл их крестьянами, что в его устах звучало как ругательство.
Мать звали Эсфирь Залински. Ее сынишка, Якоб, льнул к ней как грудной младенец, хотя ему наверняка было лет пять, а то и все шесть. А может, даже больше: трудно судить по детям, измученным голодом и страхом.
Зора наблюдала за ними в столовой. В сторону других детей Якоб даже не смотрел. Эсфирь гладила его по темным ломким волосам.
– Хороший мой, – шептала она. – Сыночек мой любимый.
Мальчик глядел на мать с таким неприкрытым обожанием, что Зора подумала, уж не отсталый ли он, как ее брат. Но потом услышала, как он переводит с иврита на польский слова «хлеб», «свет» и «няня». На польский, но не на идиш.
В Атлите многие беженцы не знали иврита, но они были родом из таких мест, как Голландия и Англия, где еврейские общины малы и более ассимилированы; либо это были венгры или французы из богатых семей, изо всех сил старавшиеся отмежеваться от своего некультурного, восточноевропейского прошлого. Но в Польше идиш издавна считался для каждого еврея первым языком, независимо от достатка и образованности.
Когда Эсфирь и Якоб отважились вылезти из барака, Зора, пробормотав «Слава тебе, Господи», с облегчением открыла книгу. Но сосредоточиться не получалось – ее разбирало любопытство, куда это они отправились.
Она поискала возле уборной, обогнула санпропускник и обнаружила Эсфирь и Якоба на залитой солнцем скамейке. Зора уселась к ним спиной и сделала вид, что с головой ушла в книгу, а сама обратилась в слух.
Эсфирь без конца тормошила Якоба: не разболелся ли у него животик от сыра? Какал ли он сегодня? Не жарко ли тут ему? Не принести ли водички? Почему он разулся?
Последнее особенно ее беспокоило. В Атлите почти все ребятишки с утра до вечера бегали босиком, но она волновалась, что он поранится или что другие женщины подумают, будто сын у нее без присмотра.
– Не могу я их носить, – пожаловался мальчик, когда она в очередной раз завязывала ему шнурки. – Они мне малы. Мам, ну пожалуйста! Они жмут.
– Надо раздобыть тебе приличные ботинки,– сказала Эсфирь. – Ну почему я никак не могу языкам выучиться? Придется тебе за нас попросить.
Странная парочка, подумала Зора. Эсфирь явно была когда-то симпатичной девушкой, голубоглазой и белокурой с носом-кнопочкой и пухлыми щеками. Мальчик, напротив, был узколицым, темноволосым, бледным и носатым. И пальцы у него были тонкими, а у нее – как сосиски.
Зора решила, что мальчишка похож на отца. А потом ей пришло в голову, что Эсфирь, вероятно, вообще не еврейка. Может, она работала прислугой в зажиточном еврейском доме и загуляла с хозяином. Подобные связи не назвать редкостью. Иногда они заканчивались увольнением и конвертиком с наличными, а иногда, если это было настоящее чувство, организовывалась спешная поездка в микву, тайная свадьба – и на тебе, голубоглазый малыш.
Укрепившсь в этом подозрении, Зора начала избегать Эсфирь. В бараке она утыкалась в книжку, а в столовой, если Якоб или Эсфирь садились рядом, передвигалась на другой конец стола.
Однажды, заметив это, Теди выбежала следом за ней на улицу и спросила:
– Ты чего от Эсфири шарахаешься?
– Ума не приложу, о чем ты.
– Она все время на тебя смотрит. Ей, наверное, что-то от тебя нужно, может, просто о чем-то спросить хочет. А ты все время от нее бегаешь, как будто она заразная.
– Не знала, что ты у нас мысли читаешь, – усмехнулась Зора. – Не собираюсь я ни бегать от нее, ни общаться с ней. Мне до нее дела нет.
– Потому что она не еврейка?
– Это она тебе сказала?
– А ты на нее посмотри внимательно.
– Забавно слышать это от тебя. Ты сама-то на еврейку не больно похожа.
– Я похожа на свою голландскую бабушку, – сказала Теди. – Она была добропорядочной лютеранкой. Но даже если так, я – еврейка.
– А она, значит, нет? – парировала Зора.
Теди покачала головой:
– Думаю, что нет
– Тогда почему здесь?
– Видимо, из-за мальчика. Но если она не еврейка, это не значит, что надо ее избегать. И не значит, что она глупая. Да и ребенок все видит. Им здесь друг нужен, а ты знаешь польский.
– Здесь полно тех, которые знают польский, – сказала Зора, кладя конец беседе. – Их и проси.
Той ночью Зора не один час пролежала с открытыми глазами, слушая как тоненько посвистывает Якоб. Он спал на своем любимом месте – в ногах у Эсфири, свернувшись калачиком, словно щенок.
Зора не понимала, почему эти двое не идут у нее из головы. Какое ей дело, что польская гойка пытается сойти за еврейку? Может, Эсфирь пообещала отцу ребенка, что отвезет мальчишку в Палестину и вырастит из него сиониста-героя?
Или Эсфирь так ее раздражает, потому что – полька? Поляки хуже немцев. Когда Зорину семью уводили нацисты, соседям-полякам было наплевать. Почему им было наплевать? Их что, немцы заставляли? И потом им было наплевать, когда она вернулась после войны, чтобы посмотреть, не уцелел ли кто-нибудь.
Прав был отец: поляки – тупое быдло, которое ненавидит евреев до мозга костей. Нечего с ними любезничать, решила Зора. Даже с полькой, которая притащила в Палестину ребенка-полукровку.
С соседней койки послышался низкий стон. Эсфирь сидела, задыхаясь и прижимая руки к животу. Потом схватила платье и помчалась к двери.
Зора поняла, что этой ночью нормально выспаться не удастся. Значит, завтра она будет носом клевать и так и не узнает, чем закончилась очередная легенда, основанная на первых главах книги Бытия. В ней рассказывалось о том, как поспорили между собой луна и солнце, кто из них сильнее.
Она покосилась на Якоба. Мальчик вцепился в подушку Эсфири, словно в спасательный круг, плечи его тряслись от беззвучного плача.
Боится, что мать его бросила, подумала Зора и досчитала до шестидесяти, надеясь, что за это время кто-нибудь поможет ребенку. А то он еще, чего доброго, подумает, что маму убили.
Досчитав до шестидесяти еще дважды, Зора подсела к Якобу.
– Мама скоро вернется, – прошептала она.
Малыш перестал вздрагивать.
– Она в туалет пошла. Скоро придет, честно.
Он повернул голову. Слезы блестели на ресницах.
Зора стала гладить его по спине, нежно и медленно, пока не почувствовала, что ее рука поднимается в такт его ровному дыханию, – мальчик заснул.
Зора не спешила убрать руку. Детское сердце мерно стучало под ладонью.
Ярость вспыхнула у нее в груди. И Зора не собиралась ее подавлять. Не собиралась, и все.
В тяжелые дни и невыносимые ночи она жила одной-единственной мыслью: «Если я забуду вас, моих убиенных друзей и моих умученных родных, да отсохнут руки мои и потеряет язык мой дар речи на веки вечные».
Она видела жестокие и печальные свидетельства того, что мир – это орудие разрушения. Память об этой простой истине удерживала ее от безумия. А большего и не надо.
Но стук детского сердца свидетельствовал о чем-то еще. Колотясь в Зорину ладонь, это сердце словно твердило: «Вставай, очнись, поднимемся на гору и споем песню о ребенке, который спит и верит».
Этот стук неопровержимо доказывал: у разрушения есть антитеза, и она называется... Зора никак не могла подобрать слово. И вдруг она вспомнила белый персик, который ела в детстве. Мама разрезала его на дольки и дала ей и брату. Небо было ясным и синим после летнего дождя. Они сидели у окна, глядя на крепкий кирпичный дом через дорогу, где жила ее подруга Аня. Через несколько лет этот дом разбомбят до основания вместе со всеми его обитатателями, но воспоминания о персике, о лучах солнца на кирпичной стене и о беззубой Аниной улыбке были по-прежнему свежи и прекрасны.
Зора смотрела, как вытатуированные цифры колышутся, будто живые, у нее на руке в такт дыханию спящего Якоба, и слово неожиданно нашлось.
Антитеза разрушению – созидание.
Серый неверный свет начал проникать в барак, когда возвратилась Эсфирь. Увидев, что Зора сидит у нее на постели и смотрит на Якоба так, словно он мог в любой момент исчезнуть, она ахнула.
– Все в порядке, – прошептала Зора по-польски. – Он проснулся, и я ему объяснила, что ты скоро придешь.
– Спасибо – сказала Эсфирь. – Вы такая добрая!
Зора покачала головой:
– Я не добрая.
Утром Эсфирь отвела Якоба на урок иврита для малышей. Преподавала его старательная молодая женщина с широкой улыбкой и парализованной рукой. Ученики, завороженные странным сочетанием жизнерадостности и уродства, были тихи и послушны в ее присутствии и легко усваивали материал.
На этот раз Эсфирь, вопреки обыкновению, не осталась в классе. Она нашла Зору на койке с книгой и сказала:
– Я хотела попросить прощения за вчерашнюю ночь. Никак не могу привыкнуть к здешней пище.
– К здешней пище никто не может привыкнуть, – буркнула Зора, не поднимая глаз. – Особенно поначалу.
– Пани, меня беспокоит не только пища. Меня беспокоит одна вещь... как бы это сказать... – Эсфирь запнулась. – Я кое-чего не знаю и потому не могу... Мне очень неловко, но не могла бы пани уделить мне буквально минутку? Есть один вопрос... То есть я хотела сказать, он меня очень волнует.
– Как отсюда выбраться, я не знаю, – перебила Зора. – Я торчу тут дольше всех.
– Я не о том. Мне сказали, что пани разбирается в религии.
– Тебе к равину надо?
– Нет-нет, – затараторила Эсфирь. – Я не решусь. И потом, язык... Прошу вас, пани...
– Что ты ко мне так официально обращаешься?
– А как надо?
– Никак. Просто объясни, чего ты хочешь. – Раздражение Зоры постепенно сменялось любопытством.
Эсфирь ульэнулась:
– Вот видите? Вы добрая. Но чтобы задать вам этот вопрос, я должна немного злоупотребить вашим вниманием, а то будет непонятно. Вы позволите?
Зора пожала плечами.
Эсфирь вырямилась, словно отвечала урок у доски.
– На самом деле меня зовут Кристина Пьертовски. Вернее, так меня звали, пока мы не сели на корабль. Там я взяла имя матери Якоба. Бог послал мне этого малыша, но родила его не я. Таких добрых, таких образованных людей, как его мать, я никогда не встречала. Она говорила по-польски, по-немецки и по-французски так же, как и на идише. В детстве она мечтала стать врачом, но тогда женщинам это было сложно, особенно еврейкам. Она вышла замуж за Менделя Залински. Он был скорняк. Такой хороший человек, прямо обожал ее. Ей тогда было уже тридцать пять. А на следующий год родился Якоб.
Меня наняли, чтобы его нянчить. Когда он родился, я взяла его на руки и сразу полюбила. Другие няни в парке все время твердили, что можно потерять работу, если ребенок слишком к тебе привяжется, но мадам Залински была не такая. Она говорила: «Чем сильнее его любят, тем сильней он сам будет любить». Благородная, мудрая женщина. Понимаете, о чем я?
Мы жили в Кракове, и пан Залински понял, что происходит. Он отправил нас в деревенский дом на окраине одного городка – не слишком далеко, чтобы иногда нас навещать, но и не слишком близко, чтобы знать, что мы в безопасности. – Эсфирь помолчала. – Говорят, его убили, когда он пытался принести поесть одной старушке с нашей улицы. Хорошо хоть мадам Залински не узнала. Слава Богу.
В этом городке нам было хорошо, но по соседству жил один человек. Ему приглянулся наш домик. И этот сукин сын, извините за выражение, донес в полицию, гореть ему в аду.
Мадам Залински велела мне в случае чего забрать Якоба и бежать. Она дала мне шубу – там в подкладке были зашиты золотые монеты, – чтобы я тратила на наши с Якобом нужды и о себе не забывала. Представляете? В такое время она еще и обо мне думала.
В тот день она поцеловала нас обоих и села на стул лицом к двери. До сих пор ее вижу: спина прямая, у ног – небольшой чемоданчик.
Я увезла Якоба на ферму к моим дедушке с бабушкой, недалеко от Северного моря. Оттуда до ближайшего города много километров и больших дорог нет. Хорошее место, чтобы спрятаться. Старики были уверены, что Якоб – мой сын. Дед называл его «еврейским отродьем», когда думал, что я не слышу. Но мы неплохо жили, пока не пришли немцы и не забрали все: скотину, недозрелую картошку, даже кормовое зерно. Тогда нам пришлось туго. Я меняла мебель на рыбу. Мы жгли половые доски, чтобы не замерзнуть. Иногда неделями ели суп из одних грибов и лука. А ведь это плохо для ребенка. Я боюсь, что Якоб теперь даже отца своего по росту не догонит, а ведь он был невысокий. Но зато он у меня такой умненький, правда же? Весь в мать.
– Он о ней знает? – спросила Зора.
Эсфирь, казалось, поразил этот вопрос.
– Да. То есть нет. Вернее, сначала я ему рассказывала на ночь про папу с мамой – как они выглядели,– как они его любили. Мы с ним вместе за них молились, и он мне обещал никогда их не забывать. Но потом я испугалась – вдруг солдаты нас остановят и спросят о его отце? Вот я и перестала говорить с ним о родителях, а когда он называл меня мамой, отвечала: «Я тут». Я ведь правда его люблю, как родная мать. И правда, что она сама разрешила нам с ним любить друг друга, но...
Сложив ладони, Эсфирь снова помолчала.
– Когда-нибудь я ему скажу. Я только молю Бога, чтобы Якоб меня простил и по-прежнему Называл мамой.
– А почему ты в Палестину-то подалась? – спросила Зора. – Родителям обещала?
– Они не были сионистами, – ответила Эсфирь. – И набожными не были. Вот только свинину не ели. И то мадам Залински говорила, что это просто традиция. Но они были очень хорошие люди, добрые, трудолюбивые.
– Так почему ж ты не осталась у деда с бабкой? Там бы ребенка и растила. Кто вас сюда гнал? Он же мог умереть по дороге. Ты что, не знала, как это опасно?
– А вы думаете, в Польше не опасно? – горько сказала Эсфирь. – Якоб обрезан. Его могли вычислить, и что тогда? Узнай он правду, он бы меня возненавидел. Почему бы и нет? В Польше столько ненависти накопилось, вы и представить себе не можете.
Недалеко от нашей фермы жила еврейская семья – молочник с сыновьями. После войны один из сыновей вернулся домой – остальные, наверное, погибли. Так соседи его увидели, встретили на дороге и забили до смерти. Прямо средь бела дня. Оттащили канаву и помочились на него, а потом еще хвастались. Рассказывали об этом, как о подвиге каком. В Польше говорят: «жалко не всех жидов перебили».
Там кругом одна ненависть, все ею отравлено. Как я могла там оставить Якоба? Мне и самой было невмоготу. Пришлось достать деньги из-за подкладки – я ведь к ним так и не притронулась даже когда мы ели суп из травы, – и добраться до Италии. Там мы встретили людей, которые знали, как попасть в Палестину. Я им заплатила, и они посадили нас на корабль. Вот теперь, пани, я наконец добралась до самой сути.
Эсфирь впервые посмотрела Зоре в глаза и сказала:
– Перед тем как сесть на корабль, я вошла в море и назвалась еврейкой. Как бы окрестилась. Ведь это так делается, да?
– Да, – подтвердила Зора. – Именно так.
– Значит, теперь я еврейка? Как Якоб?
– Да‚ – кивнула Зора, отлично зная, что мало кто из раввинов и даже обычных евреев с ней бы согласились, но все равно добавила: – Можешь больше никого не спрашивать. А если тебя кто-нибудь спросит о твоих корнях, скажи ему в лицо: «Я – еврейка».
– Я – еврейка, – повторила Эсфирь.
– Якобу очень повезло, что у него такая мать, как ты. – Слово «повезло» вырвалось нечаянно, но сейчас Зора об этом не жалела. Иногда «везение» – это лишь другое название «созидания», а созидание так же неотвратимо, как и разрушение.
Эсфирь будет любить Якоба, что бы ни случилось. Якоб будет петь «Атикву» независимо от того, подпоет ему Зора или нет.
– Понятно, почему ты все время молчала, – сказала Зора. – Но теперь надо учить язык.
– Боюсь, у меня не получится.
– У тебя-то? – И, перейдя с польского на иврит, Зора спросила: – Разве ты не мать Якобу Залински?
– Да, – медленно ответила на иврите Эсфирь. – Да, я мать Якобу Залински.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОКТЯБРЬ
Суббота, 6 октября
Шендл протирала столы после завтрака, когда Тирца поманила ее на кухню. Там на стойке лежал какой-то бежевый кирпич, похожий на кусок сыра.
– Говоришь, ты халвы ни разу не ела? Бери тогда. Эта из тех мест, где знают, как ее делать. Попробуй.
Шендл поразилась такой щедрости. Наверное, это просто награда за хорошую работу. Недавно она выполнила очередное поручение – уточнила график каждого охранника в Атлите. Хотя такой широкий жест со стороны суровой Тирцы выглядел почти как предложение дружбы.
– Спасибо, – сказала Шендл, откусила большой кусок и чуть не скорчила гримасу. Лакомство оказалось одновременно жирным и рассыпчатым, не то сладким, не то соленым. Как будто песку в рот насыпали. – Это из кунжута, да? – спросила она, наливая себе стакан воды.
– Выглядит аппетитно, – донеслось с порога. Там стоял полковник Брайс, будто ждал, пока его пригласят.
Шендл никогда еще не видела начальника лагеря так близко. Теперь она разглядела, что ростом он невелик, а виски седые. Форма на нем совсем выцвела, но была безукоризненно выглажена и сидела как влитая. Полковник снял головной убор и сунул под мышку.
– Угощайтесь, – сказала Тирца. – Барышне, похоже, не очень понравилось.
Полковник деликатно отщипнул кусочек двумя пальцами.
– Чудесная. Очень свежая, – произнес он на иврите. – Иностранные языки – моя страсть, – объяснил он, заметив удивление Шендл. И повернулся к Тирце: – Я правильно выразился, госпожа Фридман? Страсть?
– Так точно.
Брайс взял еще халвы и улыбнулся Шендл:
– Я, помнится, когда в первый раз эту штуку попробовал, тоже решил, что на вкус она глина глиной.
– Ничего, бывает, – равнодушно сказала Тирца.
– Все равно спасибо. То есть спасибо огромное, – поправилась Шендл. Она вдруг поняла, что никогда не обращалась к Тирце по имени. – Так приятно, что вы обо мне вспомнили.
Тирца пожала плечами и скрестила на груди руки, а Брайс, положив на стол свою фуражку, начал выстукивать пальцем какую-то морзянку. Шендл догадалась: им надо о чем-то поговорить. Она стянула через голову фартук.
– Если не возражаете, пойду погляжу, что там за новый физрук приехал. Всего доброго, полковник.
– И вам того же, – ответил он.
Тирцу насторожил визит Брайса – раньше он к ней на кухню не заглядывал. Наверняка уже весь лагерь об этом гудит.
– Какая честь! Чем обязана?
– До меня дошли слухи из кибуца Кфар-Гилади, – сказал он. – На ливанской границе. У тебя ведь там родня, кажется?
Оба знали, что так далеко на севере никакой родни у нее нет.
– И что? – спросила Тирца.
– Вчера ночью человек шестьдесят или семьдесят евреев прорвались из Ирака и Сирии. И наткнулись на англичан. И тут же люди из Пальмаха оказались... В общем, была стрельба.
– Жертвы?
– Двое убитых и двое в больнице.
– Скверно.
– Так все неудачно вышло, – вздохнул он. – Большую часть группы задержали наши патрули. И сейчас мне доложили, что пятьдесят человек в течение суток доставят к нам. У меня приказ выделить барак с усиленной охраной. Наверное, тебе стоит связаться со своим начальством в Еврейском комитете. Пусть хотя бы поставки хлеба увеличат. И всего остального.
Тирца кивнула, зная так же хорошо, как и он, что в течение часа ей все равно сообщили бы о поступлении беженцев – не по телефону, так через молочника или «учителя» с липовыми документами.
– Я думаю, все, кому надо, уже в курсе, – сказала она, продолжая их давнюю игру в иносказания и намеки.
– Все равно. Я хотел, чтобы ты успела подготовить кухню. И еще. Только что вспомнил – сегодня же твой сын приезжает.
– Завтра.
– Может, лучше на этот раз отложить поездку?
По спине Тирцы пробежал холодок.
– Говорят, их собираются выдворить обратно. Причем как можно скорее.
– Шутишь... – выдавила она. – Евреям в Ираке с сорокового года житья нет! А багдадский погром? Двести человек ни за что убили! Всю еврейскую общину за горло держат. Им нельзя обратно! Там уже знают, что они сионисты. Их на части порвут! Вы же всех тамошних евреев подставляете.
– Ну, это вряд ли, – возразил Брайс. – Пока что наши ситуацию в регионе контролируют.
– Вот именно «пока что»!
– Я тебя понимаю, – кивнул он.
– Да ну?
– На самом деле понимаю. Я уверен, что в какой-то момент – может, даже в ближайшее время – ишув начнет военную операцию против британских сил. В том числе из-за беженцев.
– И здесь тоже?
– У меня, в отличие от некоторых, к разведданным доступа нет, – сказал Брайс, разом нарушая правила игры. – Но Дэнни сюда луцше не пускать.
Тирца кивнула.
– Вот и отлично, – решительно заявил Брайс и надел фуражку. На мгновение Тирце показалось, что сейчас он возьмет под козырек, но он вместо этого сказал вполголоса: – Шалом, госпожа Фридман.
Полковник направился к выходу – плечи расправлены, голова высоко поднята, словно маршировал на плацу. Тирца проводила его взглядом. Чем больше она размышляла, тем больше соглашалась с его подозрениями. История с арестом иракских евреев, вне всякого сомнения, появится в завтрашних газетах. Пальмах ни за что не согласится с этой высылкой, значит, действовать будет быстро. Грядут большие перемены.
Заворачивая халву в толстую оберточную бумагу, Тирца задумалась, будет ли Дэнни вспоминать Брайса – карамельки, которые он приносил, его добрые зеленые глаза? И долго ли ей с Брайсом осталось быть вместе?
Шендл вышла из кухни в полной растерянности. Она была уверена, что отношения между офицером и кухаркой сугубо односторонние: потерявший голову старый полковник и молодая, намного более привлекательная женщина, которая пошла на эту чудовищную жертву ради своего отечества. Но оказывается, чувства у них взаимны. Значит, Тирца – коллаборационистка? Выдает секреты врагу?
Что-то подсказывало Шендл, что это не так. Да, Брайс вполне мог быть двойным агентом, но не Тирца.
«Бедная женщина, – подумала Шендл. – Хотя вряд ли ей нужно мое сочувствие».
Шендл завернула за угол санпропускника, и на секунду ей показалось, что из лагеря она попала прямо в театр. Похоже, здесь собрались все обитатели Атлита – одни наблюдали, другие принимали участие в пародии на урок физкультуры.
Самые крепкие мужчины и юноши – их было не меньше сорока – выстроились в шеренгу на пятачке у забора, а коренастый брюнет, которого она никогда прежде не видела, демонстрировал бег на месте, тараторя при этом с пулеметной скоростью.
На нем была серая нижняя рубашка, какие носят американские солдаты.
– Выше колени, ребятишки, – командовал он на бегу, высоко вскидывая ноги в военных ботинках. – Всего пять минут прошло. Значит, нам осталось еще десять. Потом будут прыжки «ноги врозь». Вот это действительно трудно. Не смотрим на соседа, – подзадоривал он, переходя с иврита на идиш и обратно. – Смотрим на меня. Что видим? Я бегу и ору. И все одновременно. И могу так целый день. Когда я вас натренирую, будете пешком из Хайфы в Тель-Авив ходить. Раз-два, раз-два, раз-два! Что, жарко? Долой футболки, парни! И вы, дамы.
Он улыбнулся девушкам в заднем ряду, среди которых были Леони и Теди. Увидев Шендл, они попытались зазвать ее к себе, но та лишь помахала в ответ и устремилась в тень под рифленым навесом.