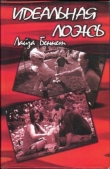Текст книги "День после ночи"
Автор книги: Анита Диамант
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Какой может быть мир, – подумала Зора, – на земле, искореженной до неузнаваемости?
Несколько молодых людей запели последние слова, осе шалом, ускоряя темп в духе народной песни. Отшвырнув ногами стулья, они пустились в пляс в тесном хороводе, обняв друг друга за плечи и кружась так быстро, что самые маленькие ребята оторвались от земли и с визгом понеслись по кругу.
Через некоторое время они запели новую песню, современный еврейский гимн, прославляющий каменщиков, строителей нового государства. Зора присоединилась, чтобы вознести хвалы чудесам, созданным человеческими руками.
– Никогда не слышал, как ты поешь, – раздался у нее над ухом чей-то знакомый голос.
Зора не обернулась. Майер придвинулся поближе и спросил:
– Ты скучала по мне?
– Только когда курить хотелось, – ответила она.
– А я тебя очень часто вспоминал, – сказал Майер.
– А я думала, ты со своей семьей был. С женой и детьми.
– Нет у меня жены, Зора. Я из-за сестры домой ездил. Мама умерла в прошлом году, а отец о Нили заботиться не может. Или не хочет. У нее синдром Дауна. Знаешь, что это? Ей двадцать лет, а у нее ум маленького ребенка. Сам я за ней ухаживать тоже не могу, пришлось отвезти ее в Иерусалим, в приют для таких, как она. А что я еще мог сделать? Там чисто, там хорошо, но все равно я знаю, что бедная мама в гробу переворачивается. А здесь я только для того, чтобы повидаться с тобой. – Он придвинулся так близко, что Зора ощутила жар его тела, его несвежее дыхание после дневного поста. – Я больше не приеду в Атлит, но я тебе обязательно напишу. На ответ я не надеюсь. Но даже если бы ты и захотела ответить, вряд ли до меня твои письма дойдут. Зато тебе не придется делать вид, что ты ко мне равнодушна, а мне – что это не так.
Пение прекратилось, и толпа быстро двинулась к столовой.
– Я бы тебе сигарет послал, – сказал Майер и сунул ей в руку пачку. – Но их ведь украдут мигом. Просто всякий раз, когда будешь получать от меня письмо, знай, что я собирался послать целый блок «Честерфилда». Я – романтик, да?
Зора боролась с соблазном посмотреть ему в лицо, пожелать удачи, сказать «до свидания».
– Молись иногда обо мне. Совсем чуть-чуть. Ладно, Зора? А я буду желать тебе спокойной ночи, где бы я ни был.
Зора стояла и слушала его удаляющиеся шаги. Она досчитала до тридцати, прежде чем обернуться. Он уже дошел до ворот. Не оглядываясь, он помахал рукой на прощанье. Словно знал, что она будет смотреть ему вслед.
Лазарет
Давно перевалило за полдень, в лазарете все было спокойно, поэтому Леони с Алицей вытащили стулья на улицу.
– Скоро дни гораздо холоднее станут, – сказала Алица, протягивая Леони сигарету. – Еще две недели – и уже октябрь.
– Октябрь? – отозвалась эхом Леони.
Безоблачное небо и медленно ослабевающая жара притупили у нее ощущение времени. Почти каждый день в Атлите появлялись новые лица, как листья весной, а затем рассеивались, иногда за несколько часов. Дни как-то незаметно складывались в недели. В лагере она уже два месяца, значит, скоро увидит, как сменится время года.
Леони больше не могла упомнить всех женщин, прошедших через ее барак. Недавно появилась группа новеньких – таких больных и слабых, каких она в жизни не видела; они несколько дней плыли сюда под конвоем крепких девушек, которые провели войну в Англии. Здоровые или больные, казалось, будто все они вечно в пути, – или почти все.
Всякий раз, провожая очередной грузовик с беженцами, которые с песнями покидали Атлит, Леони казалась себе прокаженной на карантине. Может, она под подозрением? Может, кто-то узнал, как она провела те последние два года в Париже? Вдруг пришлют полицейского, чтобы обрить ей голову и выслать обратно во Францию?
Но этот страх не мешал ей спать по ночам. Она решила, что ей просто не везет. Жизнь – не пьеса, в ней все случайно. Это было единственное объяснение того, почему, например, Шендл до сих пор сидит в Атлите. В мире, устроенном разумно, героиню-партизанку Шендл сразу бы выпустили и наградили медалью за храбрость, а высокая блондинка Теди, всеобщая любимица, уже давно обосновалась бы в каком-нибудь процветающем кибуце. Даже Зора ничем не хуже множества ожесточенных «бывших», что проходили через этот лагерь. Леони знала, что в их мытарствах нет никакой мистики – обычное невезение.
Она оторвала взгляд от желтой пыли на своих ботинках и посмотрела на ломкие колючки в поле за забором. Атлит был местом унылым и даже страшноватым, но Леони, в отличие от всех остальных, не мечтала поскорее отсюда уехать. Здесь ей не надо было принимать решений. Здесь ей не грозили несчастья, которые она всегда сама себе организовывала. И потом, это ведь только отсрочка. Не сегодня-завтра, без всякого предупреждения, она потеряет Шендл и Алицу – единственных людей во всем мире, которых волновала ее судьба.
Леони возвратила сигарету Алице и спросила:
– Газету принесла?
Медсестра кивнула и достала из кармана огромный свернутый лист. Газеты в лагерь приходилось проносить контрабандой: британцы предпочитали держать иммигрантов в неведении относительно кипевших вокруг них страстей. Но, разумеется, несмотря на все усилия, новости просачивались ежедневно.
Алица скользила взглядом по первой полосе, выбирая статьи, которые можно прочитать вслух. Она внимательно изучила заметки о молочной промышленности, рецензии на спектакли и концерты, трогательные отчеты о праздничных торжествах. Порядок. Нет ничего, что могло бы заставить Леони нахмуриться или, хуже того, расплакаться.
Леони больше не приходилось просить Алицу читать помедленней. Если люди не тараторили или не бормотали себе под нос, она понимала, о чем они говорят. Совсем иначе дела обстояли с письменной речью: на странице Леони могла разобрать только слово «пионер» – одно из первых слов на иврите, выученных в лагере для перемещенных лиц.
Два энергичных молодых человека из Палестины ходили за ней по пятам, пылко рассказывая о том, как она могла бы помочь строительству родины. Ее подкупила возможность начать с чистого листа, а пуще того мысль, что она, Леони, кому-то нужна. Но, едва ступив на палубу, Леони поняла, что ввязалась в очередную авантюру. Ее окружали люди, помнившие наизусть слова бесчисленных сионистских песен и, казалось, знавшие карту Палестины как свои пять пальцев. А Леони даже спустя два месяца все еще путалась в географии страны. Правда ли, что Иерусалим находится по другую сторону восточных гор? Действительно ли на севере страны холодно? И неужели на юге еще жарче? Но спросить она стеснялась.
Более-менее ясные представления о пейзаже и жизни Палестины она получила из рассказов Алицы о Хайфе. Леони покосилась на свою – если можно так сказать – подругу, погруженную в статью, где предлагалось выращивать ананасы в долине Изреель.
Алица была старше Леони почти на тридцать лет. Она носила черные ботинки на толстой подошве, носки оливкового цвета и белый халат. Ее круглые щеки были усеяны веснушками, а широкий нос, наверное, вообще не знал, что такое пудра. Она всегда о всех заботилась, но любила при случае поговорить о себе.
Леони легко представляла себе крутые улочки, взбирающиеся на холм – туда, где в квартире с видом на сверкающее море жила Алица со своим мужем по имени Сиг, водителем автобуса. Леони знала, на каком из арабских рынков продается лучший сыр и в каких пекарнях пекут лучший хлеб, потому что главным событием недели для Алицы был субботний завтрак, который она устраивала для бесчисленных кузенов, племянников, племянниц, дядь и теть. Она потчевала их за чугунным столом на крошечном балконе, усаженном цветами.
– Кто у вас был на прошлой неделе? – спросила Леони. – Небось дядя Офер снова с твоим свояком поцапались?
Алица засмеялась:
– Да они по любому поводу цапаются.
– Даже из-за ананасов?
– Чаще из-за политики. В этот раз Офер завопил, что пришло время дать британцам коленом под зад, раз и навсегда. Он теперь их называет оккупантами. Даже кулаком по столу начал колотить. Все кричал, что Пальмах должен дать им «решительный отпор» на севере. Это он про то, что англичане стреляют в беженцев, которые переходят границу через горы.
– Так ведь Офер вроде без ума от всего английского? Даже трубку курит, и чайник у него есть заварной.
Алица опять засмеялась:
– Видно, слишком много я о них болтаю.
– А мне нравится про них слушать. Скажи, Пальмах... он ведь отделился от Хаганы[9]?
– Не отделился. Пальмах – это часть Хаганы. Сначала британцы обучали Пальмах защищать Палестину от немцев, – сказала Алица, – но теперь они ополчились против ишува – палестинских евреев, которые, между прочим, защищают твои интересы. Ну, не только твои, Леони. Не надо краснеть. Я имела в виду всех вас, иммигрантов. Вы – чудесные работники, можешь мне поверить. Мы в Эрец-Исраэль все время друг с другом спорим – и насчет ананасов тоже. Но когда речь заходит о евреях из Европы, которым надо дать возможность сюда приехать, – тут мы все как один. Надо сжечь эту проклятую Белую книгу и добиться, чтобы все, что обещалось Декларацией Бальфура, было выполнено.
Алица никогда прежде не говорила о политике с такой страстью. Леони виновато пожала плечами.
– Я вроде все слова поняла, – сказала она, – но что такое эта «Белая книга»? А Бальфур? Ты прости, что я такая темная...
– Не извиняйся, – перебила ее Алица. – Когда это решалось, ты была ребенком. Подумать только... – Она покачала головой. – Да ты и сейчас ребенок. Тебе нужно знать только одно: в 1917 году английский министр иностранных дел, Бальфур, написал официальное письмо, обещавшее евреям родину в Палестине. А в тридцать девятом англичане это обещание нарушили. Они сочинили другой документ, Белую книгу, и связали еврейскую иммиграцию по рукам и ногам.
Алица сложила газету и сунула ее обратно в карман.
– Если бы они только сдержали слово, сколько бы народу в живых осталось! Просто сердце кровью обливается. В Германии до сих пор остается миллион жертв геноцида. И я слышала, что союзники начинают запирать их в концлагерях. Уму непостижимо! Прав мой дядя: квоты и блокады нас не остановят. А ведь англичане всегда предпочитали арабов евреям. Они действительно антисемиты, хотя бывают, конечно, и исключения. Вроде нашего миляги-командира здесь, в Атлите.
Алица поднялась.
– Ладно, хватит политики. Пойду загляну на кухню, может, апельсином каким разживусь, тогда покажу тебе, как уколы делать. – Она взяла Леони за подбородок и улыбнулась. – Ты и опомниться не успеешь, как замуж выскочишь. Но хорошая профессия никогда не помешает – так, на всякий случай.
Леони с нежностью посмотрела ей вслед. Алица заботилась о других и ни на что не жаловалась, как будто всегда всем была довольна. «Интересно, – подумала Леони, – откуда у нее такие огромные золотые серьги?» Это свое единственное украшение Алица не снимала никогда. Может, муж подарил, а может, от матери достались. И о детях Алица ничего не рассказывала – то ли их и не было, то ли она потеряла их во время войны.
Несмотря на то что они проводили вместе много времени, друг о друге они почти ничего не знали. Спросить напрямую Леони стеснялась. К тому же существовал неписаный закон, запрещавший говорить с «бывшими» о том, что они пережили.
Леони встала и пошла в лазарет. Раньше чем через час Алица не вернется. Сколько бы она ни порицала Тирцу за связь с полковником Брайсом, этим двум женщинам всегда было о чем поговорить. Леони блуждала между койками, ища себе занятие. Она уже прибралась после утреннего наплыва больных и страждущих: нагноившийся порез, кашель, сыпь, запор, понос и боль в животе по причине несварения. Наступившее после многолетнего голода изобилие овощей и фруктов породило множество желудочных неприятностей.
Самая жаркая пора в небольшой больничке наступала, когда прибывали партии новых иммигрантов. Чтобы справиться с осмотрами, прививками и документами, приходилось на день вызывать дополнительных докторов и медсестер. Самых тяжелых немедленно госпитализировали, а заурядные случаи обезвоживания, солнечных ожогов и вывихнутых лодыжек оставляли для штатных работников. В течение многих дней Алице и ее напарницам оставалось лишь перевязывать царапины, ставить клизмы да пичкать ребятишек противным рыбьим жиром.
Леони подметала пол под койками, когда в дверь влетела Алица, таща за собой багрово-красную девушку, державшуюся за живот. Следом спешили еще три женщины. Все они говорили хором.
– Леони, постели на столе за занавеской клеенку и принеси полотенца. И хирургический комплект, – скомандовала Алица. – А вы, девочки, идите сюда и помогите мне уложить ее на стол. Так, Элка, – строго сказала она, – какой у тебя срок?
– На прошлой неделе должна была родить, – пропыхтела та. – У нас в семье долго не носят.
– Вот и надо было сказать на прошлой неделе, когда приехала, – проворчала Алица, расстилая клеенку.
– Я не могла. Меня бы с таким сроком здесь не оставили. А я хотела, чтоб мой ребенок родился в Палестине. И плевать мне на всех! Никто бы меня не остановил. Никто... – Она задохнулась, скорчившись основой схватки.
– Дыши поглубже, – сказала ей Алица. – И можешь орать сколько влезет.
Элка немедленно повиновалась, взревев так, что ее подруги покатились со смеху.
Прибежала Тирца с горячим чайником, и Алица отослала Леони обратно на кухню, чтобы та принесла еще. Снаружи в ожидании новостей уже собралась толпа, совсем как взволнованные родственники, – при том, что имени матери никто не знал.
– Долго еще, как ты думаешь? – спросил кто-то у пробегавшей мимо Леони.
– Спорим, это мальчик?
Тирца зажгла горелку под большой кастрюлей и выгнала Леони шататься по столовой, пока вода не закипит. Спустя пятнадцать невыносимо долгих минут Леони пронесла кастрюлю через застывшую в ожидании толпу, где уже никто не улыбался.
– Что происходит? – спросил кто-то. – Уж больно там тихо стало.
Леони толкнула дверь. Ощущение было такое, будто она спускается в могилу. Тишина была абсолютной, и Леони на мгновение подумала, что вокруг ни души. Но когда ее глаза привыкли к полумраку, она увидела Алицу, которая склонилась над окровавленной куклой, лежащей на полотенце. Алица надавливала на крошечную грудку, а затем наклонялась еще ниже, чтобы прижать губы к носу и рту ребенка. Глаза Элки были крепко зажмурены, и, хотя подруги держали ее, ноги роженицы дрожали так сильно, что стол под ней трясся. В комнате воняло кровью и испражнениями.
Кастрюля с горячей водой выскользнула из рук Леони и грохнулась на пол. Женщины, окружавшие Элку, подскочили от неожиданности. Но Алица, казалось, не услышала шума, шепча что-то на ухо ребенку между выдохами. Элка начала тихо всхлипывать. Стенные часы заиграли бесстрастную панихиду, с каждой секундой все более жуткую.
И тут из-под рук Алицы послышалось слабое хриплое мяуканье.
– Хорошая девочка! – негромко сказала она. – Только не умолкай. – Она подняла ребенка и засмеялась. Писк усилился, постепенно становясь похожим на человеческий плач. – Десять пальчиков на ручках, десять пальчиков на ножках. Просто загляденье, – ворковала Алица.
Она обмыла девочку и, завернув ее в полотенце, положила на руки Элки.
– Мазл-тов, молодая мамаша. Ты только погляди, какой у нее прелестный ротик. Имя-то уже выбрала?
– Алия Сион.
– Красиво! – одобрила Алица.
– Что оно означает? – шепотом спросила Леони.
– Это означает «вернуться на Землю Израиля», – ответила Элка.
– А фамилия? – спросила Алцца, накрывая Элку и протирая клеенку у нее под ногами.
– Фамилия – Сион.
– Это у твоего мужа такая?
– Не говори мне о нем, – отрывисто бросила Элка.
Алица склонила голову, решив, что он умер.
– Извини, – сказала она.
– Не извиняйся. Жив он. Но я это мигом исправлю, если его увижу.
– Шутишь? – сказала одна из подруг Элки.
– Кто? Я? Он должен был здесь быть. Он мог приехать со мной, но его мамаша захотела дождаться корабля побольше. И получше. Вот он с ней и остался. Так что теперь пусть катится ко всем чертям. Наверняка в Палестине найдется хоть один парень с характером. И без чертовой мамаши!
Ее слова повисли в воздухе, как темная туча. Настенные часы тихонько укоряли: «Так – так – так!»
Подруги Элки отвернулись, а она вдруг завыла, прижав личико девочки к груди с такой силой, что Алица бросилась к ней и еле вырвала сверток у нее из рук.
– Полегче, мамочка, – сказала она. – Леони, вынеси малышку на минутку. Покажи всем, что с ней все в порядке, только трогать никому не давай. И ради бога, улыбайся.
Толпа подалась вперед, нахваливая губки бантиком, крошечные пальчики, золотисто-каштановый пушок. Тем временем рыдания Элки становились все громче и безутешней.
– Мама! – внезапно закричала она. – Где моя мама? Почему она не едет?
Леони принесла ребенка обратно, но Элка не перестала плакать и отказалась взять его на руки. Алица пыталась успокоить ее – сначала чаем, а потом бренди. Она то увещевала ее, то осыпала упреками, напоминая о материнском долге. Ничего не помогало – даже крики новорожденной. Наконец Алица дала Элке успокоительное и накормила девочку из бутылочки.
На другое утро Элка была в том же состоянии. Что бы вокруг нее ни происходило, как бы громко ни кричала девочка, она даже не смотрела в ее сторону.
На второй день выражение Элкиных глаз показалось Леони знакомым: такой же бессмысленный взгляд был у девушки, выдравшей себе целый клок волос, и у мужчины, что отказывался вставать с постели. Иногда так называемые сумасшедшие бушевали и несли околесицу, но чаще были безразличны и вялы, как Элка.
Алица в подобных случаях быстро теряла терпение. Она была уверена, что это жертвы собственной слабости, а не реальной болезни. Она дала Элке еще один день на выздоровление, но, проведя трое суток с кричащим ребенком и безразличной ко всему матерью, она призвала «доктора Нонсенса», как именовала всех без исключения психиатров.
Доктора Нонсенса на самом деле звали Симона Хаммермеш. Это была элегантная бельгийка с копной белых как снег волос, безукоризненным маникюром и шестью иностранными языками в арсенале. Она подтянула стул к кровати Элки, взяла ее за руку и целый час просидела, не проронив ни слова. Потом наклонилась и что-то забормотала тихо и ласково, так обычно матери говорят с детьми. Элка вроде бы начала расслабляться, но по-прежнему молчала.
Наблюдая за работой доктора, Леони надеялась, что Элка не поддастся этому доброму гипнотическому голосу, что она встанет с постели сама, не раскрыв тайны, которая ее туда уложила.
Доктор Нонсенс оказалась терпелива и настойчива, но все, что ей удалось добиться от Элки после двух долгих сеансов, было: «Оставьте меня в покое».
Она вздохнула, пригладила свой белоснежный шиньон и, поднявшись на ноги, подозвала Алицу:
– Пожалуйста, оденьте пациентку и отведите ко мне в машину. А я позвоню в родильное отделение и предупрежу их о ребенке.
Когда они уехали, Алица, помогая Леони застелить постель свежими простынями, сказала:
– Не переживай. Элке просто надо немного отдохнуть, и все с ней будет как надо. Вы еще с ней встретитесь где-нибудь на улице, а потом будете за чашечкой кофе вспоминать и хихикать. Хотя вряд ли она что-нибудь вспомнит. Я такое много раз видела. А теперь, деточка, принеси мне шприц, хорошо? – Алица достала из авоськи небольшой апельсин. – Я же тебе обещала показать, как уколы делают.
На следующий день Леони не пошла в лазарет. Она осталась лежать в постели, прижимая к животу подушку, чтобы все подумали, будто у нее колики.
– И как ты там выдерживаешь целый день? – Шендл подсела к Леони, когда остальные отправились завтракать. – Я от одного вида крови загибаться начинаю. Это же надо – столько времени с больными проводить. Крики, шрамы, раны, вонь. Фу.
Леони пожала плечами. На самом деле она завидовала тем, со шрамами, ранами и даже, прости Господи, с татуировками на руках. Никто не спрашивал, почему они злы или несчастны, почему отказываются танцевать хору, почему не хватают конфеты, присланные американскими евреями. Им все разрешали, все прощали, по крайней мере до тех пор, пока они одевались как все, принимали пищу и держали при себе свои тайны.
Никаких шрамов у Леони не было. Она не пряталась в польском коллекторе, не дрожала в русском сарае. Она не видела, как расстреливают ее родителей. Бараки и колючую проволоку она впервые увидела в Атлите. Она пережила войну, не страдая от голода и жажды. У нее были вино, гашиш и розовое атласное покрывало, чтобы приглушить ужас.
В конце декабря 1942 года в пять часов вечера на парижских улицах было уже темно. Леони завернула за угол, прикрывая желтую звезду отворотом пальто. Она шла домой, в квартиру, которую делила со своим дядей и двоюродным братом в дальнем конце квартала, где евреи были редки. Дядя дал кому-то взятку, и поначалу звезду можно было не носить, но потом в полицейском управлении сменилось начальство, и пришлось зарегистрироваться. Теперь все на них таращились, и Леони так издергалась, что, когда кто-то внезапно взял ее под локоть, она чуть не закричала, думая, что ее сейчас арестуют.
– Только не волнуйся, – прошептала мадам Кло, жена табачника. – У вас на квартире были немцы. Забрали твоих. Я давно к тебе приглядываюсь. Идем со мной.
Мадам Кло была высокая, шагала размашисто, и Леони пришлось бежать, чтобы не отстать. Леони знала, что никогда больше не увидит ни брата, ни дядю. С тех пор как прошлым летом тринадцать тысяч евреев согнали на велодром, никто не верил, что их «эвакуировали». Не было никакого «переселения». Не было никаких «трудовых лагерей».
Леони поднималась вслед за мадам по крутым ступеням на верхний этаж, пытаясь пробудить в себе хоть капельку жалости к единственной семье, которую имела. С самых малых лет кузен только издевался над ней. «Ты – байстрючка, – бывало, ухмылялся он, повторяя слова своего отца. – У твоей мамаши ума не хватило от богатого залететь».
Ей было семь лет, когда тетушка Рената – сестра матери – внезапно ушла от дяди Манни, мелкого жулика и игрока. Когда у Леони обозначились груди, дядя начал пожирать их глазами и при случае больно щипать. «Быстрее вырастут», – говорил он с улыбкой, от которой у нее внутри все переворачивалось. По утрам он лез к ней в комнату, поглядеть, как она одевается, а когда она говорила, что у нее под подушкой нож, смеялся ей в лицо. Леони исполнилось пятнадцать, и через неделю она получила работу на конфетной фабрике. Леони старалась задерживаться там допоздна.
Преодолев шесть лестничных маршей, Леони с трудом перевела дыхание. Мадам Кло полезла за ключами и отперла массивную деревянную дверь. Бросив сумку в прихожей, она провела Леони в комнату, битком набитую громадными темными буфетами, книжными шкафами и невероятным количеством стульев. Тяжелые красные портьеры на окнах от потолка до пола делали комнату похожей на театр. Букетики искусственных цветов навевали мысли о похоронах. На кушетке, в ажурных шалях, наброшенных поверх коротеньких шелковых комбинаций, сидели рядком три бледные девушки.
Мадам Кло обняла Леони за плечи:
– Вот, познакомься, это мои племянницы. Они приехали скрасить мне эти мрачные дни. Кристин, Мари–Франс и Симона.
Симона, вспоминала потом Леони, была рыженькая
Тирца
Стук в дверь был едва слышен, но Тирца следила за временем. В пять минут первого часовые заступали на ночной караул, однако из-за иудейских праздников весь распорядок в лагере нарушился, и почти месяц миновал с тех пор, как Брайс в последний раз прокрадывался к ней в комнату.
Он вошел, пахнущий, как всегда, тальком и одеколоном «Бэй Рам». Он говорил, что этим одеколоном весь мир пользуется, но Тирца такого запаха раньше не встречала, и полковника это тронуло. А ей, в свою очередь, приятно было придумать ему прозвище, которого у него прежде не было. Вот и все, чем они могли друг друга порадовать, – простыми, бесхитростными подарками.
В комнате горела только одна свечка, но даже в полумраке они стеснялись смотреть друг другу в глаза. Брайс взял Тирцу за руку и поцеловал маленький, похожий на полумесяц шрам у основания большого пальца, без слов благодаря ее за то, что она рассказала ему о его происхождении. Это она обожглась в детстве, когда решила испечь хлеб на кухне у бабушки.
Тирца коснулась его гладко выбритых щек и представила, как долго он стоял перед зеркалом, готовясь к свиданию. Он придвинулся ближе, и она ощутила жар его тела под отутюженной рубашкой. А дальше – так у них повелось – все решала Тирца: прильнуть к нему, подставить губы, задуть свечу, раздеться и позволить его языку и пальцам блуждать по всему ее телу, лишая ее воли. На узкой кровати они предавались любви так тихо и медленно, будто провалились в один и тот же сон. Они не столько целовались, сколько впитывали дыхание друг друга, пока не разъединились, обессиленные и задыхающиеся.
Обычно именно она несколько минут дремала после любовной схватки, но на этот раз заснул Брайс. Тирца просунула под него руку и прижалась к его спине, ощущая его позвонки грудью и животом. Во рту у нее был привкус его зубной пасты. Она потерлась щекой о его редеющие волосы, пахнущие одеколоном «Бэй Рам».
В Атлите об их связи знали поголовно все. Офицеры подмигивали ей, похотливо и при этом почтительно. Медсестры и учителя недвусмысленно намекали, как им отвратительна ее «жертва». Тирца презирала лицемерие своих соотечественников в вопросах секса. Над девственностью давно никто не трясся, по крайней мере, в среде молодых социалистов, лидеров ишува. Наоборот, в Палестине считалось проявлением патриотизма отдаваться молодым людям призывного возраста. Правда, если незамужняя девушка имела несчастье забеременеть, ее могли понизить в должности, а то и вовсе уволить с работы. Если же появлялась возможность «подложить» девушку под вражеского офицера, располагавшего важной для родины информацией, то на такое все смотрели сквозь пальцы.
Тирца делала вид, что спит с полковником исключительно из соображений общественной пользы. Шашни с врагом признавались хотя и одиозным, но допустимым средством для достижения сионистских целей, а вот любовь к нему граничила с предательством.
К такому обороту событий Тирца оказалась абсолютно не готова и по-прежнему не переставала удивляться себе всякий раз, когда днем случайно взглядывала на Брайса. Бледный, небольшого роста – полная противоположность мужчинам, привлекавшим ее в прошлом. Наблюдая за тем, как он шагает по территории лагеря, она с трудом удерживалась от смеха при мысли, что самая большая любовь ее жизни оказалась рыжеволосым задиристым коротышкой средних лет родом из места с названием, похожим на чих или марку виски. Кардифф.
Кто бы мог подумать, что за его чопорностью скрываются страсть, талант искусного любовника и убежденность в том, что еврейские притязания на Палестину справедливы. Начальники Тирцы твердили, что каждый второй британец – тайный нацист. Им это было нужно, чтобы выгнать англичан из страны и провозгласить суверенитет. Но к ее Джонни эта история не имела никакого отношения.
Восемь месяцев назад, когда Пальмах послал ее шпионить в Атлите, она ожидала увидеть узколобого, консервативного англичанина. Но этот узколобый англичанин неожиданно заговорил о ней на безукоризненном иврите. А когда он правильно произнес ее имя, она так покраснела, что он, запнувшись на середине фразы, заглянул ей в глаза. С этого все и началось.
Большей частью они общались на иврите, но в любви он признался ей на английском. И у нее не было причин ему не верить. Потому что все, что он говорил ей, оказывалось чистой правдой. Брайс сообщал, когда ожидалась новая партия беженцев и на чем их привезут – на поезде или на автобусе. Если поезда прибывали ночью, он «забывал» выделить необходимое число солдат, которые должны были конвоировать новичков от конца рельсовых путей до ворот. В результате помощники и шпионы, работавшие на транспорте, умудрялись десятками похищать и прятать «черных мигрантов», прежде чем тех успевали переписать. По ее подсчетам, благодаря Брайсу свободу обрели как минимум 130 беженцев.
Однажды он попытался перевести оборот, который американцы частенько использовали, говоря о британской политике в отношении еврейской иммиграции: «Запирают конюшню, когда все лошади разбежались». На иврите эта фраза оказалась бессмыслицей, и Тирца долго смеялась. Но образ врезался ей в память. Она не раз потом представляла себя одинокой лошадью, несущейся галопом, куда глаза глядят. Часто она задавалась вопросом, известно ли Брайсу ее неудачном браке. Он много знал о ней, главным образом, потому, что много спрашивал. Где она росла? Что ей больше нравилось, когда она была девочкой, – играть в куклы или лазать по деревьям? Любила ли она читать? Кого она помнит из школьных друзей? Когда она отвечала – шепотом, словно выдавала государственную тайну, – он хранил гробовое молчание, ловя каждое слово. Он, вероятно, знал о ней намного больше, в основном из досье. Проследить ее связь с Пальмахом не составляло труда. В самом деле, ведь и то, что Тирца знала о Брайсе, ей сообщили именно там. Кадровый военный, пользуется уважением подчиненных, начисто лишен амбиций, которые помогли бы избежать назначения в такую дыру, как Атлит. Женщина с фотографии на его столе была его женой, но как ее звали, Тирце еще предстояло выяснить. Имена их сыновей она, однако, знала: Джордж и Питер. Оба записались в ВВС. Джордж погиб в начале войны, его сбили над Германией.
Мысли о Брайсе могли застать ее в самый неожиданный момент – за составлением списков, чисткой овощей или мытьем столов. Тирца вспоминала, как мягко и настойчиво он ласкал ее лоно, как ласково целовал ее грудь, с какой нежностью говорил о ее сыне Дэнни. От внезапных приступов радости у нее перехватывало дыхание, и впервые в жизни она благодарила Бога за эти скромные дары. Но уже в следующую минуту она готова была проклясть Создателя за то, что позволил цветку ее счастья расцвести на обреченном стебле.
Брайс повернулся к ней.
– Извини, – сказал он и приложил палец к ее губам. – Как на иврите будет «горький шоколад»?
– Ха, – фыркнула Тирца. – Вот и бытовуха началась.
Его передернуло. Будь их кровать немного шире, он отодвинулся бы, но отодвигаться было некуда, и он просто замер. До следующей смены караула, когда можно уйти незаметно, еще целый час. После долгой паузы он спросил:
– Завтра Дэнни приезжает, да?
Тирца поняла по его тону, что он больше не сердится. Ей пришло в голову, что его чувства к Дэнни помогают ему смириться с потерей младшего сына.
– Да, – ответила она.
– А мне как раз ириски прислали, его любимые. Я их на кухню принесу.