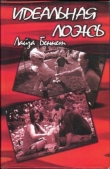Текст книги "День после ночи"
Автор книги: Анита Диамант
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
И Милош рядом с ней казался еще симпатичнее. Крепкая шея, черные как смоль волосы, оттенявшие молочную белизну кожи. Он был похож на римскую статую. Казалось, им с Леони предназначено стать самой красивой еврейской парой и родить самых красивых в истории еврейских детей.
Внимание смутило их; оба вдруг остро почувствовали, что им нечего сказать друг другу. Милош разминал вилкой кусок пирога в груду крошек, Леони пила воду мелкими глотками. Они дружно вздохнули, дружно рассмеялись, и взаимная неловкость разом сплотила их.
– Пойдем, поглядим на танцы, – предложила Леони.
Он помог ей встать, и мужчины из его барака заулюлюкали и закричали «ура».
Зора наблюдала за ними помимо собственной воли, а потом в последний раз обвела взглядом зал. Майер не пришел. Что ж, значит, он дома, с женой и детьми. Зора вышла на улицу. Охранники-арабы сутулились у дверей, наблюдая за праздником.
Помещение опустело. Теди заметила, с каким выражением охранники смотрят на выпечку, и принесла им тарелку с печеньем.
– Большое спасибо! – поблагодарил человечек с огромными усами.
– Вы знаете иврит? – спросила Теди.
– Иврит и арабский. И еще английский и немножко фарси.
Другой человек, поразительно похожий на Арика, учителя иврита, потянулся за треугольным печеньем:
– У меня такое мама печет. – Однако, откусив кусочек, он поморщился.
Теди рассмеялась:
– Мамино лучше, да?
– Мамино слаще. – Он потрогал ее волосы. – Ты тоже сладенькая.
Теди отпрянула.
– Сейчас еще пирогов принесу, даже вкуснее.
Она послала к нему одного из ребят из кибуца со штруделем. Охранники махали ей и усердно жевали, а двойник Арика показал большой палец, липкий от сладкой подливки.
Теди помахала им в ответ, а потом через кухню вернулась к задней двери, возле которой стояли Тирца и гости из кибуца. Они курили и говорили так быстро, что Теди не могла разобрать, о чем идет речь.
– Спокойной ночи, – сказала Теди на ходу. – И большое спасибо!
На пятачке у входа в столовую теснились танцующие пары. Тут смеялись, играла музыка, но Теди слишком устала. У нее уже скулы сводило от бесконечных улыбок и необходимости отвечать на любопытные взгляды ребят из кибуца. «И что, на меня здесь всегда будут так смотреть? – думала она. – Эка невидаль, высокая блондинка».
За забором лагеря лежало наполовину вспаханное поле. Здесь пахло дерном и свежесрезанной травой. Луны не было. Горы на горизонте казались темными расплывчатыми тенями.
После духоты столовой воздух был сладок и прохладен. Теди глубоко вдохнула и посмотрела на небо. «Неужели это те же самые звезды, на которые я смотрела шесть месяцев назад? – думала она. – Не может быть! Неужели я смотрела на них этими же глазами?»
В ночь побега ледяной воздух ударил ей в лицо, как пощечина. Ударил сильно, но приятно – после зловонной жары и ужасов товарного вагона. Светила полная луна, неправдоподобно огромная, будто бумажная декорация в театре.
Через дыру в полу товарного вагона сумели бежать десять человек. Поезд стоял у бескрайнего поля, залитого лунным светом. Остальные беглецы сначала пустились бежать, но потом упали на землю и исчезли в траве. Теди тоже легла на спину и посмотрела на луну. Шаги. Все ближе. Какой-то солдат захлебывался кашлем. Другой выругался, споткнувшись о рельсы. Казалось, солдаты никуда не спешили. Они не знают про побег, догадалась Теди.
Пальцы жгло от холода, очень хотелось сунуть их под мышки, но было страшно пошевелиться. Теди ужасно боялась чихнуть. Уходите, умоляла она. Уходите.
Наконец паровоз опять зафыркал, поезд тронулся. Теди ждала, пока зашевелятся другие, и только тогда решилась высунуть голову. Они проползли к небольшой полоске деревьев, собрались тесной кучкой и принялись растирать друг друга.
Теди села в пыль Атлита. Когда нацисты вошли в Амстердам, ее лучшая подруга сказала ей:
– Вот ты везучая! Ну прямо вылитая девчонка с плаката гитлерюгенда.
Гертруда сказала это без всякой задней мысли, но Теди стало стыдно. Несколько недель спустя родители решили спрятать ее на ферме, на окраине Утрехта.
– Я не хочу туда, – плакала она. – Я хочу остаться с вами. Пусть Рахиль едет!
Но решение было принято. Сестра была слишком мала, чтобы жить у незнакомых людей. Родители обещали Теди перевезти ее при первой же возможности в другое место.
В ночь накануне отъезда мама села к ней на кровать и погладила ее по волосам:
– Все будет хорошо, милая. А у нашей Рахили нет ни единого шанса сойти за голландку.
У Теди по спине пробежал холодок от этих воспоминаний. Она попыталась отвлечься, но накопившаяся за день усталость не давала бороться с прошлым. Рахиль была такой же яркой брюнеткой, как Теди блондинкой. Рахиль была вдумчивой, Теди порывистой, Рахиль была серьезной, Теди жизнерадостной. Теди была любимой дочерью, и они обе об этом знали.
– Прости меня, – прошептала Теди.
Через два дня после побега группы из поезда смертников их нашли британские солдаты. Беглецов напоили чаем, завернули в одеяла, а потом посадили в грузовик и отправили в лагерь для перемещенных лиц в Ландсберге. Там было еще больше колючей проволоки, еще больше бараков и бесконечные очереди, в которых надо было стоять, чтобы ответить на бесконечные вопросы чиновников, работников Красного Креста и посредников, предлагавших их освободить. Этот вид бизнеса в таком хаосе процветал. Теди была уверена, что кто-нибудь обязательно поможет ей вернуться домой, ни о чем другом она не могла думать. Многие рассуждали о том, как пробраться в Америку или Палестину, Аргентину или Канаду, и казалось, что Теди – единственная еврейка, мечтающая остаться в Европе.
Ее мать говорила, что они вернутся в квартиру на Бломграхтштрассе, как только появится такая возможность. Это был план на «потом».
Теди добралась до паровозного депо в Штутгарте, где случайно встретила Арне Лодермана, делового партнера отца. Отец и Арне Лодерман вместе вели дела семнадцать лет, и Теди помнила его с детства. Она не сразу узнала окликнувшего ее немощного изможденного старика. При виде исхудавшей, кожа да кости, Теди он не смог удержаться от слез.
Он рассказал ей, что был в Берген-Бельзене. Там он видел ее отца, мать и Рахиль, а также ее дядю Германа, тетю Лу и их сыновей, ее двоюродных братьев, Якова и Ганса. На Теди старик не смотрел, старательно отводя глаза. Все было ясно без слов.
Теди задрожала. Ей вдруг стало так холодно, как на том залитом лунным светом поле. Даже пальцы свело. Нет, она не удивилась. Теди знала, что их больше нет, чувствовала это, даже когда рвалась назад в Амстердам.
Лодерман обнял девушку и горько зарыдал. Она не обняла его в ответ и не заплакала. Наконец он оторвался от Теди и взял ее за руки.
– Поедем вместе в Амстердам, – сказал он, избегая встречаться с ней взглядом. – Половина бизнеса принадлежит тебе. Помнишь Пима Вербека, старого мастера? Он обещал, что все для нас уладит. Что бы там ни осталось, это твое наследство. Я сам о тебе позабочусь.
– Нет, я поеду в Палестину.
Глаза господина Лодермана снова наполнились слезами.
– Будь я помоложе, я бы тоже туда поехал. Напиши мне, как доберешься, только обязательно! А я буду посылать тебе, что смогу. Вот... – Он неловко попытался вложить ей в руку деньги.
Но Теди отказалась их брать.
– Мне надо идти, – сказала она.
– Погоди. Давай я тебе что-нибудь куплю. Еды, пару башмаков, хоть что-то!
Но Теди уже бежала прочь, надеясь нагнать людей, с которыми путешествовала, тех, кто направлялся в Палестину. Они уговаривали ее навсегда покинуть кладбище, в которое превратилась Европа. Теди мечтала только об Амстердаме, рынках и кинематографе, солнечных бликах на воде, пекарне рядом с домом, мостах, которые так любила. «Мне бы только добраться до дома! Клянусь, я больше никогда не буду жаловаться на сырость, на долгие зимние ночи, даже на запах каналов во время отлива», – повторяла она про себя.
Лодерман в одно мгновение уничтожил ее мечту. Ностальгия переросла в отчаяние и гнев. Почему выжил он? Почему не отец? Ведь папа был намного лучше – добрее, умнее, моложе. И почему выжила Теди, а не Рахиль? И где мама? А двоюродные братья? Друзья? Она вдруг представила себе Амстердам, наводненный призраками, упрекающими ее из каждого окна, каждой витрины, каждого дверного проема.
Кого бы Теди ни встретила в Палестине, никто не разрыдается. И то хорошо.
Теди сидела на земле, скрестив ноги, и чертила в пыли свое имя. Она вдруг вспомнила жену господина Лодермана, Лену, старомодную женщину, очень любившую кружевные воротнички. У них с Лодерманом был взрослый сын, были невестка и внук. Все погибли, догадалась Теди. Надо было его обнять.
Аккордеон заиграл громче. Молодые голоса с новой силой зазвенели в ночи. Теди заткнула уши и начала слушать собственное дыхание, каждый вдох и выдох, как учил ее папа, когда ей было семь лет и она заболела свинкой. Теди лежала в своей постельке, металась в бреду, а папа сидел около нее на белом стеганом покрывале. «Тише, милая, тише, – приговаривал он, положив прохладную руку на ее горящий лоб. – Вдохни поглубже. Хорошо. Теперь еще раз. А теперь еще раз, и еще, и еще. Ну вот! Ты сейчас где-то далеко-далеко, тебе намного лучше, и головка больше не болит. На улице светит солнышко, и мы с тобой кушаем шоколад, много, много шоколада, и ничего не скажем маме...»
Теди раскачивалась и плакала, закрыв уши. Ей так хотелось, чтобы отец был рядом, чтобы ей снова было семь лет! Как можно сжечь и зарыть в землю целую жизнь? Она до сих пор ощущала на лице успокоительное прикосновение отцовской руки.
И вдруг кто-то схватил ее за плечо. Теди закричала, со всей силы ткнула назад локтем и вскочила на ноги, сжав кулаки.
На земле, держась за ушибленное бедро, лежала Зора.
– Черт бы тебя побрал, – прошипела она. – Дура безмозглая. Какого черта?
– Простц, – сказала Теди, опускаясь на колени. – Прости меня, пожалуйста. Тебе очень больно?
– Ничего, переживу. – Зора села и принялась растирать ногу. – Я не хотела тебя пугать.
Теди зажмурилась, обхватила себя руками и снова принялась раскачиваться взад-вперед.
– Ну перестань, – поморщилась Зора. – Не так уж: все и плохо.
– Они точно так же схватили меня сзади, – прошептала Теди. – Один прижал меня к земле. Оба смеялись. Они закрыли мне лицо. Мне казалось, меня там не было, только мое...
Зора обняла Теди. Аккордеон сыграл танго от начала и до конца. Потом балладу из репертуара джаз-банда, а потом еврейскую народную мелодию. Наконец Зора решилась заговорить:
– Женщины прошли в лагерях через ад. Я это знаю.
– Не в концлагере, – покачала головой Теди, – в укрытии. Я пряталась на ферме за городом. Весь день, с утра до ночи, я сидела взаперти в амбаре, а ночью приходил хозяйский сын. Иногда он приводил с собой еще кого-нибудь, мужчину постарше, и они вдвоем, иногда каждую ночь... Я больше не могла этого терпеть и пожаловалась его матери. Она ударила меня. На следующий день пришли немцы.
Теди все раскачивалась и раскачивалась.
– Не надо, – сказала Зора, убирая с ее мокрого лба тяжелую прядь белокурых волос. – Эти гады будут вечно гореть в аду. Но ты же выбралась, так? Ты теперь далеко, очень далеко. Ты здесь в безопасности, верно? Зора крепко схватила Теди. за плечи, останавливая ее мерное раскачивание. – Ты теперь на земле, где реки пахнут молоком и медом.
Веселый шум то нарастал, то затихал, он словно доносился с корабля, кружившего у берега.
– Уже поздно. Пора спать. – Зора встала, отряхнула юбку и протянула Теди руку.
Теди поднялась и обняла Зору.
– Спасибо, – прошептала она, удивляясь деликатности этой неистовой молодой женщины, которая обычно носилась по лагерю маленькой свирепой торпедой.
– Брось. – Зора повела плечами, но Теди не отпускала ее, и на секунду или, возможно, даже на долю секунды Теди показалось, что Зора прижалась в ответ.
Было очень поздно, когда Шендл прокралась в постель к Леони.
– Что случилось?
– Давид и я... Мы расстались.
– Почему? Я думала, он тебе нравится.
– Нравится. То есть сначала нравился. Только с меня хватит. Он любит не меня, а мой образ. Рядом со мной он чувствует себя важной птицей.
– По-моему, он тебя очень уважает.
– Не меня, – возразила Шендл. – Он все болтает и болтает о войне, такой красивой и благородной, а значит, он там никогда не бывал. Война – это грязь и вонь, после нее не отмыться. Я больше никогда не смогу убивать. Ни за что! Даже ради еврейского государства. Пусть кто-нибудь другой старается. А я буду на птицеферме работать, помет лопатой разгребать. Или колонки цифр складывать в конторе без окон. Все что угодно, а убивать не буду.
– Ты ему это сказала? – спросила Леони.
– Он меня не слушает. Читает мне лекции о нашем долге перед еврейским народом и мечтает о новом государстве. И сует руку под платье так, словно у него на это право есть. Говорит, что я должна многим пожертвовать.
– То есть? Он пытался воспользоваться ситуацией?
Шендл улыбнулась:
– Вообще-то мы этим не раз занимались за бараком с тех пор, как встретились.
– Надо же, а я и не знала. Повезло тебе.
– Да не то чтобы... – призналась Шендл. – Скажем так, он понятия не имеет, как доставить девушке удовольствие.
– Но можно ведь его научить. По крайней мере, я так слышала. А когда есть настоящее чувство...
– Вот только меня учить не надо, – перебила ее Шендл. – В лесу по ночам заняться было особенно нечем, так что мы там быстро всему научились. Но дело-то не в сексе. Дело в самом Давиде. Он сегодня был просто невыносим! Я сказала, что между нами все кончено, а он засмеялся и сказал, что я струсила. Будто я малолетка сопливая. Будто я не знаю, что говорю! Вот бы ему провалиться куда-нибудь, и побыстрее, надоело мне. Как думаешь, я не права?
– Chérie, если ты его не любишь, ты абсолютно права. А по-моему, совершенно очевидно, что ты его не любишь.
– Мне, наверное, просто хотелось хоть кого-то полюбить. Но не его. Жаль только, что и не рассказала тебе о нем с самого начала. Мне так неловко было, что у тебя нет парня! Что я предала наши планы на будущее. Помнишь, про двух братьев?
– Планы? Это же просто игра! Милая сказка, которую мы друг другу рассказывали. Планы – это иллюзия. Жизнь сама выбирает за нас.
– Ты правда так думаешь? Что мы как листья, плывем по реке, по течению?
– Это не так уж плохо, – заметила Леони. – И не так уж хорошо. Это просто порядок вещей.
– Значит, все бессмысленно?
– А по-твоему, в нашей жизни есть смысл?
Шендл так долго лежала молча, что Леони сказала:
– Прости, я не хотела тебя обидеть.
– Я не обиделась. Просто задумалась, как ты будешь встречать Йом Кипур с таким настроем.
– Это ведь Судный день, если я не ошибаюсь?
– Да. Бог – это судья, который пишет в небесной книге, кому жить, а кому умирать в наступающем году, – объяснила Шендл. – Интересно, почему мне это никогда не казалось возмутительным? Ведь это значит, что Бог сидит на золотом троне и решает, что Малка и Вольф должны быть убиты, и миллионы других тоже!
– Они были верующие? – спросила Леони. – Эти твои друзья?
– Они верили в Палестину, такая мечта о родине. – Дай Бог, – произнесла Леони древнееврейскую формулу.
– Я думала, ты молитвенника в глаза не видала.
– Я – нет, но мой дедушка частенько это повторял. Когда я была маленькой, меня возили к нему несколько раз. На прощание я говорила: «До встречи, au revoir», а он отвечал: «Дай Бог». Я думала, он шутит, но может статься, и нет. Он умер во сне, мой дедушка, у себя в постели, задолго до того, как в Париж вошли немцы. Ему и шестидесяти не было. Теперь я думаю, что ему повезло.
– На Йом Кипур все оплакивают умерших, – сказала Шендл. Она не плакала с тех самых пор, когда погибли ее друзья.
– Слезы портят цвет лица, – сказала Леони, крепко обнимая подругу. – Но лечат сердце.
17 сентября. Йом Кипур
Рассвет Йом Кипура был пасмурным и душным, что предвещало жаркий день. Кое-кто из мужчин встал на раннюю молитву, но без обычного завтрака и переклички большинство проспало допоздна. Теди выбралась из барака и прошла через притихший лагерь, не встретив ни души.
В столовой было человек десять, и, когда она вошла, все подняли головы. Одни вызывающе покачали стаканами с водой, бравируя презрением к дневному посту, другие торопливо потупили взгляд. Не было ни чая, ни свежего салата. Обеда и ужина тоже не ожидалось. Но, поскольку дети и больные освобождались от правил самоограничения, на столах, прикрытые кухонными полотенцами от мух, стояли корзины с хлебом и тарелки с фруктами и сыром.
Теди несказанно удивилась, увидев Зору. Та сидела одна, уставившись на яблоко, лежавшее перед ней на столе.
– К тебе можно? – спросила Теди, ожидая приглашения сесть. Они почти не разговаривали с Рош а-Шана, – с тех пор, когда Зора приняла в ней такое участие.
– Как хочешь, – ответила Зора. – Где твой завтрак?
– А я пока что не голодная. Я ведь никогда по-настоящему не постилась на Иом Кипур. У нас дома...
В дверь заглянул мальчик и объявил, что поляки начинают мусаф.
– Что это? – спросила Теди.
– Дополнительная служба после утренних молитв. Сегодня ведь еще и шабат, – равнодушно произнесла Зора.
– Ты разве не пойдешь?
Зоре так хотелось вскочить и побежать на молитву, что аж ноги сводило и сердце выскакивало из груди. Но она не собиралась уступать соблазну.
– Что мне там делать? – произнесла она с оскорбленным видом.
– Ты, похоже, столько всего знаешь – и молитвы, и Библию, и толкования. Тебя девчонки между собой даже «раввинчиком» называют. – Теди казалось на редкость удачным это прозвище, учитывая, что с недавних пор от Зоры почему-то стал исходить умиротворяющий запах книг – смеси клейстера, чернил и пыли.
– Тоже мне комплимент. Тут все верующие или затюканные, или психованные. И вообще, я сегодня к коммунистам на обед пойду.
– Я же не в обиду, – тихо сказала Теди.
– А, ладно, – смягчилась Зора, – не слушай меня. Просто я умираю хочу курить, вот и все.
Теди и Зора просидели за столом около часа, разглядывая входящих. Из всей публики только молодые матери открывали дверь, не стесняясь и не оправдываясь. Они уговаривали своих малышей поесть, а сами украдкой прихлебывали воду.
Наконец Зора сказала:
– Пойду подышу.
Она оставила нетронутое яблоко на столе и отправилась бродить по лагерю, обходя места, откуда раздавались псалмы, песни и молитвенное бормотание. Но постепенно скука и любопытство сделали свое дело, так что когда началась дневная служба, Зора решила взглянуть на каждое из четырех сборищ.
Самое крупное организовали поляки на площадке для гуляния между мужским и женским бараками. Аншель уже несколько дней как уехал, и вместо него пригласили раввина со стороны – крепкого старика с короткой седой бородой. На нем были длинные белые одежды – ритуальное облачение женихов, покойников и тех, кто справляет Йом Кипур.
Венгры собрались за одним из мужских бараков, а горстка румын обосновалась под козырьком у входа в санпропускник.
В тени позади столовой коммунисты и сионисты-социалисты все еще спорили, стоит ли вообще молиться. Все сходились на том, что религия есть пустая трата времени и помрачение рассудка, но некоторые считали, что надо «сделать же что-нибудь». В итоге приземистый русский с самым громким голосом провозгласил:
– Хватит. Нам никто не мешает в память о мертвых и из уважения к традициям сказать пару слов молитвы. Говорим пару слов, вспоминаем, а потом пьем и плачем, как следует.
После этих слов все отправились в столовую, где принялись наполнять тарелки и рассуждать, скоро ли в новом еврейском государстве будет покончено с религией.
Зора подсела к Теди, которая за весь день так и не сдвинулась с места.
Лилиан тоже была там, она отщипывала по крошке от яблочной дольки.
– У меня в роду фанатиков не было, – во всеуслышание заявила она. – Бабка моя специально на Йом Кипур каждый раз печенье пекла. Соседки к ней придут, а она: «Да ладно вам! Мы ж не дикари какие».
– Когда же она заткнется? – прошептала Теди.
– Когда ее похоронят, – мрачно ответила Зора и указала на мальчика, сидевшего в другом конце комнаты: – Что это с ним – вон с тем, которого вчера привезли?
Тощий парнишка лет десяти раскачивался на стуле и, не переставая, ел. В одной руке у него был кусок хлеба, в другой – недоеденная груша. С парнишки катился градом пот.
– Он весь день так, – заметила Теди.
– Надо бы его остановить.
Но сделать это Зора не успела – парнишка упал на колени, его начало рвать.
Зора покачала головой:
– У меня на глазах один так умер. Это когда британцы наш лагерь освободили.
Запах был нестерпимым. Но чем сильнее Теди хотелось выбежать на улицу, тем острее она понимала, что надо остаться и дослушать Зору.
– Они организовали раздаточный пункт. Подвели какую-то кишку с теплой кашей, – рассказывала она. – Я его не знала, хотя как поймешь, когда от человека одни глаза остались. Может, он мой родственник был. Поднесли его к этой кишке, он рот открыл, как птенец. Жмурится и глотает, глотает... Никому в голову не пришло его оттащить. Кто-то потом сказал, что это прободение желудка. Докторов там не было никаких. В тот день много народу умерло. Совсем слабые были. И больные.
– Я так никогда не голодала, – прошептала Теди. – Повезло.
Зора резко повернулась:
– А вот этого говорить не смей. И другим не позволяй.
Теди побледнела.
– Ну, значит, они правы, – сказала Зора, смягчаясь. – Может, тогда лучше вообще не говорить об этом. Какой смысл?
– Вот именно, – сказала Теди. – Какой смысл?
– Я скажу тебе какой, – процедила Зора. – Уму непостижимо, что я видела, что я пережила, что случилось с тобой, со всеми здесь! Суть в том, что никто ничего так и не понял. Если мы сделаем вид, что ничего не было, значит, ничего и не было, и, значит, все повторится. Люди умирали от голода даже после того, как им давали пищу, потому что никто на них не обращал внимания. Пятнадцатилетняя девчонка бросилась в море с корабля, на котором мы плыли в Палестину. И знаешь почему? Потому что все ей твердили: «Тебе так повезло! Ты молодая, у тебя родственники живы! Счастливая!» А у нее все выгорело внутри из-за того, что она пережила. «Не плачь», – говорили. «Счастливая», – говорили. А она – за борт.
– Тсс, – Теди коснулась Зориной руки, – на нас смотрят.
– А мне плевать.
– А мне нет, – возразила Теди. – Я хочу, чтобы никто на меня так больше не смотрел. Чтобы никто не спрашивал, что случилось. Моя память никого не касается. Мое горе никого не касается. И мой... – она запнулась, подыскивая слово. – Мой позор. Я это к чему – ты ведь никому не скажешь?
– Нет, конечно, – сказала Зора. – За кого ты меня принимаешь?
– Вот видишь, иногда лучше молчать. Чтобы выжить, надо расстаться с прошлым.
Зора скрестила руки на груди.
– Значит, чтобы выжить, мы должны уничтожить прошлое? Тогда как насчет твоих родителей? Разве ты не в ответе за их память? Молчать о них – значит убить их еще раз.
Теди вскочила.
– Прости, если тебя это ранит, – сказала Зора. – Но ведь я права.
– Оставь меня в покое, – всхлипнула Теди и выбежала вон.
Зора осталась сидеть, наблюдая за тем, как после каждой службы в дверях показывались люди. Некоторые заглядывали внутрь, а затем поспешно исчезали. Она взяла яблоко и провела его прохладным гладким бочком по губам. От аппетитного запаха рот наполнился слюной. В животе заурчало. «Съешь его! Ну же, съешь!» – уговаривала она себя.
Когда Теди вернулась в барак, Шендл подозвала ее к койке Леони, где они в разговорах и дремоте проводили постный день.
– Хочешь пойти с нами на последнюю дневную службу? – спросила Шендл.
– А вы на утреннюю ходили? – поинтересовалась в ответ Теди.
– Уж очень она длинная, – призналась Шендл.– А неила короткая. И я хочу прочитать кадиш по своей семье.
– Я думала, кадиш могут читать только мужчины.
– Двадцатый век на дворе, – возразила Шендл.– Я что, должна искать какого-то чужого дядю, который моих отца и мать в глаза не видел? И потом, можно пойти к социалистам, им будет наплевать, что я делаю.
– Прочитаешь и по моим тоже? – попросила Теди. – Я слов не знаю.
– Конечно. И за Леони прочту. А вы можете вместе с остальными прибавлять «аминь».
Не совсем ясно, как это случилось. Русские утверждали, что это была их идея, хотя, возможно, не обошлось без местного раввина: многие видели, как он о чем-то договаривался с румынами и венграми. Но так или иначе, едва солнце стало клониться к западу, все жители Атлита – около трехсот человек – собрались вместе. Усталые и притихшие, они подтягивались к площадке для гуляния, таща за собой по грязи скамьи, стулья и деревянные ящики.
Ощущение грядущего праздника витало в воздухе, пока собравшиеся расставляли неровными рядами свои сиденья. Первыми усадили раненых и беременных. Остальные, едва стоявшие на ногах от голода и жары, уселись без приглашения. Вокруг них в золотистом свете кружилась пыль долгого дня.
– А где их ботинки? – спросила Леони, указывая на небольшую группку мужчин, стоявших босиком.
– Это старинный траурный обычай, – объяснила Шендл, располагаясь вместе с Теди и Леони среди женщин, которые без всяких напоминаний заняли места слева от прохода.
Когда к толпе вышел раввин, все замерли. Смеркалось так быстро, что Леони подняла глаза, ожидая увидеть тучу, закрывшую солнце. Но небо было чистым, за исключением фиолетовой полоски над горной грядой.
Раввин набросил на голову большой белый молитвенный платок и выдержал долгую паузу, потом взял книгу и запел чистым пронзительным тенором.
С первой же нотой Шендл заплакала, тихо и почти беззвучно. Слезы текли не столько из нее, сколько сквозь нее, поскольку каждая нота и каждая фраза вызывали в памяти случайные осколки воспоминаний.
– Благословен, благословен, – возглашал раввин, а ей виделось папино кольцо с печаткой.
– Аллилуйя, – пел он, а она думала о любимом синем фартуке мамы.
– Открой мне уста мои, – читал раввин, и она вспоминала шрамик на лбу у брата.
На нее давил груз понесенных потерь: мать, отец, брат, друзья, соседи, товарищи, поклонники, пейзажи... Разрозненные детали всплывали в памяти как обломки кораблекрушения: папа ел только темное куриное мясо; мама любила фильмы с участием Лорела и Харди и фортепианные сонаты Бетховена.
Она вспомнила последнюю официальную семейную фотографию, сделанную за неделю до того, как Ноах оставил их, сбежав в Палестину. Ей только что минуло шестнадцать. Отец принес фотографию домой и все поражался, до чего же его дети похожи друг на друга. Мама с ним соглашалась.
– Твои носы, твои подбородки! – восклицала она, проводя пальцем по стеклу. – Вылитый отец.
Ничего этого больше нет.
Рядом сидели Леони и Теди, но Шендл было тяжело на них смотреть. Сейчас она могла только плакать. Слезы омочили ее губы, слезы сиротства; они показались ей неожиданно холодными.
Леони обняла Шендл за талию, Теди положила руку ей на плечо. Они крепко прижались к подруге, напоминая о том, что она не одинока, что она все еще любима.
Леони и Теди тоже тихо плакали, не столько из-за собственных потерь, сколько из жалости к Шендл. Они еще никогда не видели ее плачущей. Она так упорно работала, так часто улыбалась и так легко мирилась с рутинной повседневностью Атлита. Она заставила всех думать, что она другая, что страдания обошли ее стороной. Но конечно, она была раздавлена и одинока, как остальные, ее так же часто посещали призраки, не видимые другими. Ее горе было столь же безгранично. Весь Атлит плакал. Целый час, пока заходило солнце, а пылающее небо тускнело и гасло, все вставали для одних молитв и садились для других, читая древнюю литургию тысяч разоренных святилищ евреев-ашкенази.
Притихшие Теди, Шендл и Леони оставались на своих местах, тесно прижавшись друг к дружке. Зора наблюдала за ними издали. Она стояла позади толпы, в нескольких шагах от девушек-ортодоксов – тех, кто даже в самые жаркие дни закрывал руки и ноги, тех, кто никогда не танцевал в одном кругу с парнями.
Зора с самого начала службы не проронила ни слова, она только поджимала губы и хмурилась, случая общее покаяние в грехах, мольбы о том, чтобы Врата милосердия не закрылись, провозглашение единственности Бога, благословение имени царства Его, повторенное трижды. Наконец семикратно воскликнули «Адонай – мой Бог», с каждым разом все громче, словно взывая к правосудию. Ответом было только блеяние шофара.
Раньше Зоре казалось, что этот звук – чистый и громкий – побуждает проснуться и начать все заново. Но сейчас это был просто вой, дикий и бессмысленный вой. Вот задрожала в воздухе последняя нота. Солнце зашло, и на собравшихся мягко опустились сумерки. Никто не заговорил и не пошевелился, пока не воцарилась тишина.
Чье-то громкое «апчхи» мигом разрушило все чары. Кто-то сказал: «Ваше здоровьице», и все громко рассмеялись. Женщины начали вставать и потягиваться, мужчины – сворачивать свои талиты. Возобновились прерванные разговоры, но тут снова раздался голос раввина.
– Друзья мои, – сказал он, – еще одну минуту внимания. Позвольте мы с вами вместе завершим этот День искупления, этот шабат шабатов. – Толпа вернулась – неохотно, но послушно, когда он зажег большую, длиною в фут, сине-белую витую свечу и прочел молитвы, разделяющие время на священное и мирское.
Потом была вечерняя служба, наспех прочитанная лишь несколькими мужчинами, а потом раввин объявил о начале поминальной молитвы.
Такого медленного кадиша Зора еще не слышала. Каждый слог его был словно отягощен стонами и вздохами. Набожные женщины, прикрыв глаза пальцами, беззвучно повторяли слова.
«Да возвысится и освятится великое имя Его, – читали они. – Восхваляемо и прославляемо, и возвеличиваемо, и превозносимо, и почитаемо, и величаемо, и воспеваемо превыше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешительных слов, произносимых в мире».
Зора знала, что большинство людей вокруг нее не понимали то, что произносят. Для них древняя молитва была своего рода колыбельной, бальзамом для израненных душ. Вот интересно, стояли бы они здесь, если бы знали, что хвалят Бога, который допустил убийство их семей, что клянутся в верности Богу, уничтожившему все, что они любили.
Сейчас, в 1945 году, нам нужен новый кадиш, – думала она. – Честный кадиш. И слова там должны быть такие: «Обвиняемый и осуждаемый, бессердечный и жестокий выше всякого человеческого понимания».
Они пели: Творящий мир в высях Своих.
А Зора мысленно переиначивала: Творящий мор в высях Своих.
Амен, амен, – кивали они.
Никогда, никогда, – бормотала Зора.
– Амен уже, что ли? – сказал в толпе кто-то, кому не терпелось поскорее закончить, поскорее забыть, поскорее поесть, наконец.
В последних строках молитвы говорилось о мире: Творящий мир в высях Своих да пошлет мир нам и всему Израилю.