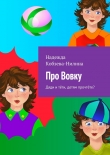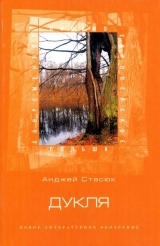
Текст книги "Дукля"
Автор книги: Анджей Стасюк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Поэтому я не чувствовал страха. Ни тогда, ни потом, когда празднично одетую и положенную в гроб ее нужно было поцеловать, перед тем как закроется крышка. Я чувствовал себя глупо, потому что все плакали, а я не мог. Я знал, что это все неправда. При жизни, видно, ее слушали невнимательно. В конце концов я тоже заплакал, но только потому, что впервые в жизни увидел слезы на глазах отца.
И только черный траурный флаг, водруженный на доме, вызвал во мне настоящий ужас. Он хлопал на осеннем ветру, и это было дуновение настоящей мертвой смерти. Я никак не мог соединить этого символа с живым присутствием бабки. Это был абстракт, кошмар пустоты, черная дыра литургии и безымянная бесконечность забвения.
Ну вот. Я стою у парковой стены в Дукле и приобщаюсь к культу предков. Гляжу на торжественный церемониал там вдалеке и пробую представить свою бабку, как она стоит на этом вот месте или чуть подальше, около почты, там, где начинается кордон и ходят парни в пуленепробиваемых жилетах. Она всегда испытывала восхищение перед епископами и кардиналами, но определяла им абсолютно земные задания, вроде почтенного облика, достоинства и представительности. Просто мир лучше выглядит, когда у него есть свой прелат. Никогда не навещали ее ни святые, ни приходские ксендзы. А пережила она на своем веку, кажется, троих. Я думаю о ней, о ее добром морщинистом лице. Идущие Трактом в сторону города пожилые женщины повторяют ее образ. Многие из них приехали издалека. Жаждавшие увидеть живой портрет, теперь они уходят удовлетворенными и сытыми или разочарованными. Наиболее частые слова в толпе: «ты видела», «ты видел», «я разглядел», «загородили», «только мелькнул», «слишком далеко было». Они пришли посмотреть на тело, потому что это нечто почти столь же верное, как прикосновение, которое действует даже в тишине и темноте. Слова нужны умникам и бездельникам, страдающим от бессонницы. А мы обнюхиваем друг друга, как звери. В этом нет ничего плохого. Это лучше, чем ничто.
Под крестом из триллера стоит кучка молодых монашков. Они дотрагиваются до металлической поверхности, а потом трут себе ладонями лоб. Дотрагиваются и переносят благословение на свои головы, словно втирая его в свою кожу, внутрь черепа, словно это можно ухватить, упрятать или трансплантировать. Гротескное и варварское зрелище. Впору рассмеяться, но ведь и сам я не делаю ничего иного. Разве что руку деликатно удерживаю в кармане, пользуясь только зрением. Монахи в сандалиях. Похоже, будто они моются или вбивают себе крем в кожу перед сном. По существу, это лишь радикальная разновидность фотографии и сенсуальная телепатия. Поэтому я даже не пытаюсь слушать его слова и предпочитаю размышлять о его теле, о том, что нас объединяет неопровержимым образом. Мы испытаем то же, что и все. В том же воздухе, в том же пространстве, которое справилось со всеми, кто жил до нас. Листья под фонарями блестят и дрожат, точно это декорация. Торговцы сворачивают товар. У меня все тело разбито от хождения и приседания то тут, то там. В освещенных окнах школы видно полицейских в полевых мундирах. Они лежат на столах и отдыхают. Курят, стряхивают пепел на пол, шевелят губами. Его голос дрожит, но возносится и падает в спокойных каденциях, в центре бесконечного одиночества, и возвращается, отраженный от темных гор. Машины включают фары и двигатели, ползут сквозь толпу, на выезде из города прибавляют скорость и исчезают в темноте красными искрами. Все уже произошло. Пространство поглотило звуки и жесты. Замкнулось, срослось без следа, так же, как оно замыкается и срастается каждую минуту, с самого начала, и его хватит всем, до самого конца. В теплом и темном воздухе догорают угли грилей на Парковой. Девушки в белых халатах складывают в картонные коробки то, что осталось. Какой-то малый считает деньги под желтой лампой. Двадцатки отдельно, отдельно десятки и пятидесятки. Распихивает их по карманам охотничьего жилета и в сумочку на поясе, какие носят торговцы. Два пожарника доедают последнюю колбасу. У одного из них в свободной руке зажженная сигарета. Никто не попрошайничал в тот день, не было, кажется, и воров.
Я пью кофе из белой чашки и наблюдаю, как замирает ритм повествования. Вот все и кончилось. Двери закрылись, гаснут огни. А завтра все будет как ни в чем не бывало. Останутся десять новых телефонных будок голубого цвета и красные камни брусчатки. Мужики засядут в Пететеке, в «Граничной» и у «Гумися». В сущности, события совсем мало разнятся со временем, в котором они происходят. Если даже известно, откуда они берутся, трудно сказать, куда они уходят. Все время нужно совершать что-то новое.
В тот вечер, а точнее, уже ночью я пошел к Марии Магдалине. Она была открыта, пуста и едва освещена. Амалия покоилась в тени. Зеркала ловили приглушенный свет уличных фонарей, но каким-то удивительным образом не отсылали его в пространство часовни. Он оставался в серебряных плоскостях, зажигая в них холодный огонь. Но светлее от этого не становилось. Наоборот. Мрак еще более сгущался, конденсировался над лежащей фигурой, проникал в капризное мраморное облачение, просачивался глубже и укладывался в очертания спящего тела. Было тепло и душно, как в спальне. Листва за окном чуть шевелилась. Из-за этого темнота была тревожной. Хлопья полумрака дрожали, кружили, колебались, словно блуждающие огоньки между относительной освещенностью зеркал и глубокой чернотой воздуха. Никого не было. Временами заблудившийся свет автомобильных фар лизал стекла часовни и очертания ее интерьера оживали с мертвой, гиперреальной отчетливостью.
Там внутри лежали ее останки, занимая мои мысли: пыль на дне черного саркофага, немного фосфоресцирующих минералов, кальций, соль, калий, первичные элементы и остатки кружев, в которых она ходила при жизни и в которых ее погребли. Сейчас все это имело вид пылевидной сухой субстанции, которая лишь немного тяжелее воздуха, субстанции почти духовной, потому что ветер мог бы унести ее вдаль, как призрак, как прозрачный эскиз неизвестно чего.
Я пытался разглядеть в зеркалах свое отражение. Его не было. Там лишь перемещались клочья тени, разные виды тьмы и воздушные фантомы. И в этот момент я услышал шелест и увидел, что Амалия села в своей постели. Я почувствовал движение воздуха и теплый аромат, проникающий сквозь древний запах костела. Она потянулась. Чепец сполз с головы, и длинные волосы сплыли на плечи. Она откинула их назад, оперлась ладонями о край постели и повернула лицо к узкому окошку, где догорал блеск праздника. Я хотел что-то сказать, но, казалось, она меня не видит. Занятая собой, еще сонная, она медленно запечатлевала свое очертание в глубине июньской ночи. Ее магнетический остов притягивал из пространства элементарные частицы, восстанавливая прежнее тело. Люди в Дукле и во всем мире засыпали, проскальзывали под одеяла и падали на дно времени, а она выходила из него, присаживалась на его краю и вслушивалась в нарастающую пульсацию крови, в сгущающееся тепло материи, от маленьких ступней через икры, бедра, через центр живота, через разветвление рук и до самой макушки головы. Все, что я в жизни видел, все, что видели другие, входило в нее и обретало очертания. Она росла, крепла, становилась тяжелой и горячей, как физический облик маниакальной мысли или ответ на древнейшие вопросы. Наполнялась сокровеннейшими подозрениями. Они придавали ей идеальную и законченную форму, в которую можно было войти, не оставив никаких следов. Она была как черное небо над самой землей, когда пространство перестает существовать и замолкают все звуки. Воскрешение должно из чего-то складываться. Это было как воздух, который загустел до консистенции человеческой плоти. Все умершие люди, все, что минуло раз и навсегда, все потерявшиеся и отзвучавшие обрывки мира, стружки времени, прежние виды из окон, все, что было и никогда не вернется, становилось сейчас ее телом. Смерть отступала, соскальзывала, как перчатка, как лопнувшая оболочка повседневности, а там, под ней, внутри, память, надежда, воображение и вся остальная масса невесомых, невидимых и не существующих явлений воплощалась в нечто живое и осязаемое. Амалия не была ни духом, ни привидением. Она была сконденсированным присутствием того, что извечно отсутствовало. Она была образом, который возвращается к прототипу, чтобы превзойти его. Туфелька соскользнула с ее ноги и стукнулась о плиту. Я слышал, как она дышит, как входит в нее иллюзорная материя мира и преобразуется в тело, мягкое и гладкое, как вечность. Она будила желание. Я чувствовал ее запах: тяжелый, густой и упругий. Он касался меня со всех сторон, как мысль может касаться предмета – без нежности и без жестокости, с равнодушной снисходительностью чего-то неисчерпаемого. Ее кожа поблескивала в темноте. Она напоминала влажный камень, уложенный в дуги плеч и бедер. Дукля переставала существовать там снаружи. Она вошла в нее, вместе со всеми событиями, которые я пережил, наблюдая, как они поочередно отходят к своей спокойной гибели. И ни разу ни одна идея о воскрешении не приходила мне в голову – ни одна, кроме памяти, этого выродка времени, над которым никто никогда не имел власти.
Я сделал шаг вперед. Мне не было страшно. В конце концов, трудно бояться чего-то, что не знает о твоем существовании. Под пальцами в кармане я чувствовал пачку сигарет и нагретые монетки.
И тогда я услышал шорох со стороны притвора. Из полумрака вышла маленькая фигурка. Это была та обритая налысо девушка с надписью на майке. На плече она несла небольшой рюкзак. Девушка прошла мимо, вглубь нефа, но мне пришлось как-то шевельнуться, поскольку она обнаружила мое присутствие. Обернулась. Теперь на ней была военная куртка с поднятым воротником.
– Я думала, никого нет, – сказала она тихо.
– А никого и нет, я уже ухожу, – ответил я.
– Интересно, они запирают на ночь? – сказала она громче, с деланной непринужденностью.
– Не знаю, наверное.
– Я хотела тут переночевать. Сегодня уже ничего не поймаю до Кросна. В парке все-таки страшно, а в городе полно ментов. – Она подошла к последней скамье в ряду, влезла туда и пропала. Я услышал лишь глухое эхо, когда ботинки ударились о дерево. Ничего не было видно. Все затихло.
Когда я выходил, то наткнулся на ксендза. Сказал:
– Слава Иисусу, – а потом добавил: – Все уже ушли. – Он вошел внутрь, через минуту погас свет. Я услышал звук поворачиваемого ключа, и темная фигурка быстро проскользнула к дому священника.
Василь Падва
Василь Падва был бедным. Он никогда не ел ничего горячего – так говорили те, кто его помнили. В магазине на полке стояли светло-золотистые ведерки с мармеладом. Два раза в неделю привозили хлеб. Падва был один как перст и пас госхозное стадо. На заре летом луга тяжелые, блестящие, словно ртуть. Солнце отдает еще подземным холодом. Резиновые сапоги Василя лоснились, как офицерские, когда он шагал в окружении коров, греясь в облаке рыжего тепла. Может, именно при виде этого безбрежного серебра завладела им упрямая мысль: быть богатым, иметь больше, чем имел до сих пор.
Ел он все меньше и меньше. Его костюм из грубой ткани становился все более серым и обвис так, что в нем, пожалуй, поместились бы двое.
* * *
Раз в месяц к магазину подъезжала горбатая «варшава», и там, под вишневым сиянием банок с джемом, в аромате грудинок, прямо на глазах у человека в феске с упаковки кофе «Турок», кассир медленно слюнявил палец и производил выплату. Продавщица тем же самым движением переворачивала страницы тетради с записью кредитов. Василь Падва стоял всегда последним, словно боялся, что кто-то заглянет ему через плечо и заколдует растущее сокровище или сотрет взглядом один из двух записанных в его рубрике нулей.
Банкноты с рыбаком, с рабочим и с шахтером напоминали ему открытки из дальних стран. Море, завод, шахт – все это он знал только по рассказам. Те, что туда уходили, не возвращались уже никогда. Пропадали, словно смельчаки на пути к Эльдорадо.
Он брал свою тонюсенькую пачечку, складывал пополам и прятал на груди, в кармане, застегивающемся на пуговицу, а люди смеялись: он, мол, и на ночь не снимает одежды. Василь не пил, не курил, никого не угощал, на рассвете выходил с коровами и исчезал в белой мгле.
И вот как-то в июле случилась гроза. Те, кто работали на сене, сбежали вниз, и все попрятались кто где смог. Василь остался наверху, там, где начинался Сладкий Лес. Коровы стояли под дождем с опущенными головами, а он присел под кустом лещины. Громы, как всегда, лупили по верхушкам, раз тут, раз там, в домах звенели стекла в разболтанных оконных рамах, а лица детей при лиловых вспышках молний выглядели так, будто кто-то сфотографировал страх.
И тогда загорелся старый сарай под соломенной крышей. Он стоял высоко в лугах у самого леса. Люди рассказывали, что Василь бежал так быстро, словно его нес ветер, он бежал в ту сторону сквозь дождь и сквозь вспышки молний. Но с грозой ведь дело такое, в ней больше огня, чем воды, и пока он добежал, стреха превратилась в красный стяг, потом затрещала, разломилась и рухнула вниз. Вместе с гнездами стрижей сгорело и сокровище Василя – он годами засовывал его под стреху. Сотенные бумажки цвета пламени, пятидесятки зеленые, как вода, и двадцатки бурые, как дым.
* * *
Но это еще не конец истории, потому как над истинной любовью и огонь не властен. Василь Падва начал все сначала. Теперь он все банкноты менял на монеты. На серебряные с рыбаком и на те, что с Костюшко и Коперником, цвет потускневшей бронзы. Ходил позвякивал, а время от времени затихал, и все думали, что где-нибудь он это богатство зароет. Однако натура у него была простая, незатейливая, и, пострадав от огня, он решил довериться воде. Под Банне ручей вьется, как змея, и стекает вниз, как зеленая ковровая дорожка по выщербленным ступенькам. Полным-полно в нем темных и глубоких местечек. Василь складывал десятки и пятерки в банки от вишневого джема и осторожно опускал в самую глубину. Металлические кругляки напоминали ему ордена далеких войн. Продавщица иногда гнала его от стойки, тогда он шел пять километров до другого магазина и там менял бумажные фантомы на несокрушимый металл.
Но вот как-то летом пошел дождь, такой сильный, что в трех шагах ничегошеньки не было видно. Васильев ручей, который можно было перемахнуть одним прыжком, нес деревья, тащил камни, а вода загустела от бурой грязи. Василь Падва день и ночь ждал на берегу, пока ручей не вернется в свое русло и снова обретет прозрачность. Но, кроме ила, он ничего не нашел. До осени ходил он вдоль берега и искал свое богатство. У камней был потускневший цвет «коперников», а маленькие форели блестели на солнце, словно серебряные пятаки. До самой осени бродил он вверх и вниз по берегу, а стадо коров, которых он, однако же, не мог оставить, в этом месте превратило луг в голую землю.
* * *
На третий раз Василь Падва доверил свое сокровище земле. Выбрал потайное место где-то в Сладком Лесу. Об этой истории известно меньше всего. Точное место знал только он – и тот, кто через год обнаружил и ограбил тайник. Люди смеялись, как всегда, а Падва, утомленный под конец стихиями, стал таким, как все.
Воскресенье
Здесь растет всего несколько деревьев. И в знойные дни – проблема с тенью. В полдень горячий свет заливается во все трещины, словно вода. Это похоже на наводнение. И тогда они прячутся на пригорке под молодым ясенем. Земля, на которой они сидят, голая и вытертая, словно старая мебель.
Все начинается после мессы. Ксендз уезжает на своем маленьком автомобильчике, а они два километра идут по пыльной дороге. В десять часов тень становится длиннее человека и держится левой ноги. Они садятся в широкий кружок, совещаются, а потом двое идут в магазинчик, что в нескольких десятках шагов отсюда. Покупают фруктовое вино, одалживают там стакан и берут еще сигареты. Небо твердое и чистое, а вино называется «Di’Abolo».
В полдень они едва помещаются на своем островке тени. Когда идут за следующими бутылками, золотые пряжки на их ботинках и серебряные цепочки на шеях нагреваются, как в огне, и все вокруг охватывает ясность, какую некоторые видят в минуту смерти: пустые большие коровники, черный дом без окон, частокол, поля крапивы, горизонт, белые бараки под Кровавой Крышей, дети, бегущие с железными обручами, собаки, мертвое белье на веревке, пыль за мотоциклом и прочие будничные вещи. Все это лижет невидимое пламя. Предметы дрожат, колышутся и выглядят так, словно их минуты сочтены. Они напоминают шевелящиеся зернистые фотографии, в которых больше черноты, нежели света.
Но они этого не видят, потому что прямые лучи уже вошли в их черепа, и внутри все такое же, как снаружи. Один говорит другому: «Теперь ты сходи возьми». – «Нет. Теперь ты». Наконец кто-нибудь из них встает и идет. Очень темный на фоне неба. Вино называется «Di’Abolo». У него красно-черно-оранжевая этикетка.
Если в три пополудни они позовут тебя выпить с ними, не заблуждайся, что зовут именно тебя. Когда ты усядешься в их кругу, окажется, что они разговаривают с кем-то совсем другим.
Потом наступает вечер, и сон застает их на середине фразы или жеста. Они принимают старые любимые позы: на спине, на боку или калачиком. И немного напоминают путешественников, которые забыли разжечь костер. Когда солнце скроется за хребтом горы, они начинают остывать, так же как и остальной мир, и вскоре в голубом свете сумерек яснеют лишь белые рубахи.
Потом приходят их дети. Копошатся между телами в поисках мелких монет. Забирают пустые бутылки и обменивают в магазине на желтую газировку.
Праздник весны
Когда лягушки выходят из-под земли и отправляются на поиски стоячих вод – это знак, что зима уже обессилела. Белые языки лежат еще в темных расселинах, но дни их сочтены. Вода едва вмещается в русла ручьев, и даже сквозь стены дома слышен этот подвижный и монотонный шум. Из четырех стихий только у земли нет своего голоса.
Но речь о лягушках, а не о стихиях. Так вот, вылезают они из своих нор и держат путь к канавам и лужам, к неподвижной, более теплой воде. Их тела похожи на комья лоснящейся глины. Если день солнечный, луг оживает: десятки, сотни лягушек тянутся вверх по склону. Собственно, увидеть этого нельзя, потому что кожа их имеет оттенок, близкий к цвету бурой прошлогодней травы. Взгляд улавливает единственно свет и движение. Они еще полусонные и холодные, так что прыгают медленно, усилие от усилия отделяет долгий отдых. Если солнце светит под соответствующим углом, их шествие превращается в вереницу коротких вспышек. Они загораются и гаснут, словно блуждающие огоньки среди дня. Уже тогда они объединяются в пары. Температура лягушачьей крови, как известно, такая же, как у окружающего мира, и когда в ясное, но припорошенное инеем утро лягушки копошатся внутри пятен тени, не исключено, что по их жилам перемещается красный лед. Но и тогда уже они ищут друг дружку и прилипают одна к другой таким причудливым двухголовым и восьминогим образом, что Тося кричит: «Смотрите! Лягушка несет лягушку!»
* * *
Все это происходит в придорожной канаве. Целый день солнце нагревает воду, и только во второй половине дня безлистые вербы бросают на ее гладь нерегулярную сетку тени. Здесь нет стока, ветер сюда не добирается, и ни один ручей не впадает, но поверхность воды живая и тягучая. Она напоминает спину большой змеи: сверкает, переливается, отражает свет, холодный блеск скользит, растекается, дробится и не застывает даже на миг.
Сначала – только лягушки. Одни темно-коричневые, бурые, почти черные, с тигровым узором на бледно-желтых лягушачьих ляжках; другие более крупные, цвет высохшей и покрытой пылью глины – эти в воде слегка краснеют, приобретая теплый тон, и тогда видно, что они сделаны из мяса. Пары соединяются в четверки, одиночки пристраиваются к парам, потом из этого образуются восьмерки, десятки, возникают лягушиные шары о несчетном количестве ног. Похоже на диковинных животных начала времен, когда формы жизни не были еще упорядочены, когда еще продолжался эксперимент над материальным выражением бытия.
Вскоре появляется икра. Сначала прозрачная, будто водяной сгусток, потом ее делается все больше и больше, и она приобретает сверкающий темно-синий опенок. Вода исчезает совершенно, бесформенная инертная субстанция добирается до самого дна канавы. Вспугнутые тенью приближающегося человека, лягушки ныряют, неуклюже, с трудом. Скользкая, ленивая и тяжелая, словно ртуть, материя выталкивает их обратно на поверхность. Сопровождается это звуком, похожим на бульканье в животе.
* * *
Когда все уже закончено, небо остается голубым от края и до края. Так же неподвижна поверхность воды. Лягушки ушли, осталась только икра и тела тех, что не выжили. Они всплывают, белея своими брюшками, из их мордочек тянутся бледно-розовые нитки внутренностей, точно какие-то изощренные разновидности водорослей. И это знак того, что весна уже наступила.