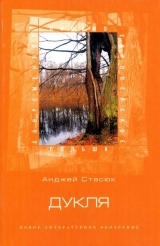
Текст книги "Дукля"
Автор книги: Анджей Стасюк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Анджей Стасюк
ДУКЛЯ
Мир по Стасюку
Чтение «Дукли» Анджея Стасюка – это передышка. Оно дает возможность отдохнуть от обременительных причинно-следственных связей, в которых мы запутаны с начала и до конца жизни. Раскрывает нам глаза и показывает объективный мир, который существует рядом с нами, вокруг нас, без нас, независимо от нас, мир, несомненно, более подлинный. Новый сборник художественной прозы Стасюка создан природой, воображением и помойкой цивилизации. У автора безошибочный взгляд и мастерская рука художника, живописца. Пока я не начал читать его, я и не предполагал, что возможно так живописать словом. У Стасюка необыкновенно богатый ресурс слов, но он бережлив и не бросается ими, как это делают молодые, которые только что дорвались. Все взвешено и обдумано, и я не знаю в прозе более метких и поразительных метафор. У него абрис облака на закате солнца «тлеет, словно бумажный свиток», дикий виноград осенью «краснеет и стекает со стен домов, словно густая кровь», съеденная волками лань «похожа на развороченную груду палок и грязных лохмотьев», мороз «замораживает даже время, сплавляя его в единое целое с воздухом и светом». Чем эта проза отличается от поэзии? Прежде всего безыскусностью: «Люди капля за каплей вытекали из домов», «свет автомобильных фар лизал стекла часовни», «деревня осталась внизу. Дождь пытался смыть ее с карты», «дворники» машины «скребли о лобовое стекло, словно хотели пробраться внутрь».
Стасюк – писатель настоящего, которое он улавливает всеми пятью чувствами, ненасытно, едва ли не отчаянно, потому что знает, сколь оно хрупко и слабо, как быстро «ветшает и изнашивается». Он намеренно избегает прошлого, перед которым мы еще более беспомощны, но иногда не может перед ним устоять, и в «Дукле» бесценна такая, например, минута его слабости: «Дрожки однолошадные из Ивонича 3 кроны, двухлошадные 7 крон, дилижанс крона пятьдесят. (…) Спать можно на постоялом дворе Лихтманна за крону пятьдесят, откушать в покое для завтраков у пана Хенрика Музыка. Три тысячи жителей, из которых две с половиной – евреи. Год, скажем, 1910-й. Все вместе напоминает фотографию, тонированную сепией, или старый целлулоид – и то и другое легко горит и оставляет после себя пустое место. Это как если бы сгорело время». Стасюк сознательно отрекается от памяти («этого выродка времени, над которым никто никогда не имел власти»), но иногда вынужден сам признать, что память – это единственная «идея о воскрешении», и в «Дукле» она очень ему пригождается, когда он возвращает к жизни своих бабку и деда.
Стасюк – свидетель настоящего, которое он достоверно описывает. Великолепно запечатлел он прибытие в Дуклю Папы Римского, представив красочную картину ярмарочной, дионисийской атмосферы с 24-строчным перечислением всего того, из чего она сложилась. Не обязательно соглашаться с выводом, что «мир – это бесконечный перечень», но можно целиком положиться на абсолютное зрение и слух автора, который видит и слышит все – даже то, чего Папе не захотелось бы услышать: «Наконец-то и к нам приехал. Проветрит этот жидовский смрад».
Главным героем у Стасюка является материя, одушевленная и неодушевленная, более важная по сравнению с человеком, которого она «стряхивает с себя, точно собака, стряхивающая воду». И поэтому я совершенно не понимаю, как рецензент М.Ч. (Перевал на ту сторону // Gazeta Wyborcza. 1997. 18 ноября) мог углядеть в «Дукле» «жуткий эгоцентризм». Я не вижу там даже антропоцентризма, ведь то, что «художник пережил, о чем вдруг вспомнил, что выпил и куда поехал», это лишь необходимая человеческая точка отсчета, без которой не было бы видно масштабов мира, образа. Рассказчик Стасюка не субъект, а объект, даже в его встрече-инициации с Красотой, в ее эротическом языческом облике. Он – это глаз, ухо, камера, магнитофон, он регистрирует ценные подробности, которые обходят вниманием обычные ухо и глаз. На этом как раз и строится искусство, а то, к чему рецензент относится пренебрежительно, как к «потоку зрительной памяти», является особенным достоинством Стасюка, его исключительным талантом, ставящим его в ряд мастеров. Точно так же не понимаю я, как можно считать «Дуклю» «сентиментальной до мозга костей». Для меня она прежде всего объективная и материальная, каждое воскресенье теряющая «смысл полезности, хлопот и даже элементарной очередности причин и следствий». Стасюк подсматривает действительность, обнажает ее и иронизирует над ней – где же тут сентиментальность?
«Переживания» рассказчика в «Дукле» по большей части банальные, тривиальные, незначительные, поскольку так видит автор существование рядового смертного обитателя Земли. Однако наградой являются эстетические ощущения, которыми одаривает нас художник, и в этом смысле «Дукля» – щедрый дар. И это касается не только оживленных воображением встреч с саркофагом, но и совершенно безличных картин, в которых вроде бы нет никакого действия и фабула за ненадобностью отсутствует, поскольку они сами – действие. «Поток визуальной памяти» Стасюка – регулируемый и контролируемый, намеренный и вымеренный, и обрывается он потому, что, по мнению автора, наша действительность не имеет причинно-следственной непрерывности (с чем, кстати говоря, я не могу согласиться, как и не поощряю беспорядка).
Стасюк находится под влиянием философии Востока, которую понимает, как мало кто другой на Западе. Вот бесценная картинка: «Никто ничего не покупал, а эти, из Львова или, может, Дрогобыча, не меняли позы, окунутые в молочный свет невидимого солнца, затопленные ожиданием, словно истинные люди Востока, которые подозревают, что время не имеет конца и поэтому надо экономить движения, из которых сделана жизнь, чтобы хватило на дольше». Это, вне всякою сомнения, заслуживающая внимания альтернатива для планеты, которую пожирают истеричное предпринимательство и суетливость родом с Запада. Стасюк пишет, что «граница между атмосферой, предметами и людьми сглаживается». Я бы сказал, что в его картинах – так как это прежде всего картины – граница эта стирается и исчезает, и если у него была задача «попытки доказательства первоначального единства всего сущего», то эта попытка ему удалась.
Я удивлен, почему критик, сам признавая, что большая литература может быть «большим собранием миниатюр», не видит при этом, что сборник «Дукля» – в котором даже одноименная 80-страничная повесть также представляет собой цепочку миниатюр – является тому доказательством, а не опровержением. И хоть сам я предпочитаю прибегать к фабуле, не соглашусь, что бесфабульная трагедия «невообразима, как и трагедия буддийская». Стасюк, у которого есть нечто общее с буддийским стоицизмом, доказывает, что такая трагедия (вмонтированная в форму бренности человека и мира) существует, и он убедительно ее описывает. Я не принадлежу к той же школе, что Стасюк, однако не согласен, будто писатель «перешел на худшую сторону прозы» (у литературы может быть несколько одинаково хороших сторон), и не уговариваю его изменить направление, имея в виду «массы людей с их судьбами, надеждами и обманутыми мечтами». Если я и могу что-то поставить в упрек восточной философии Стасюка, то единственно излишний оптимизм, потому что, боюсь, земля не успеет «стряхнуть» нас с себя, и это скорее мы ее прикончим, как бактерии, как неизлечимый вирус.
Стасюк – писатель, с которым не надо соглашаться, чтобы читать его с удовольствием. Возможно, он и не для широких масс, но в мире так называемой массовой культуры (которую он видит и описывает как никто другой) это является скорее достоинством, чем недостатком. Впрочем, я вовсе не вижу препятствий, чтобы «Дуклю» прочел – и внимательно – каждый.
Хенрик Гринберг
Середина лета, Погуже
Под утро, часа в четыре, ночь неторопливо приподнимает свой черный зад, так, словно бы, объевшись, вставала из-за стола и шла спать. Воздух похож на холодные чернила, он стекает по асфальтовым дорогам, разливается и застывает черными озерами. Воскресенье, люди еще спят, вот почему в этом рассказе не должно быть фабулы, ведь никакая вещь не может заслонять собой все остальное, когда мы тяготеем к небытию, к констатации, что мир – это лишь минутная помеха в свободном течении света. Лутча, Барыч, Харта, Малы Дул, Татарска Гура, выцветшие зеленые таблички указывают направления, но там ничего не происходит, ничто не шевелится, кроме снов, которые, как кошки или летучие мыши, видят во мраке, и кружат, кружат, задевая стены, святые образа, паутину и все, что там понакопилось за годы. Солнце пока еще где-то глубоко, оно пробуравливает другой мир, но через час выйдет на поверхность, выберется, словно древоточец из полена. Тарахтенье машины слыхать, наверное, за несколько километров. Шоссе бежит по хребтам холмов, падает, снова взбирается вверх, все выше, выше, и в этой полутьме, среди призраков домов и деревьев, создает видимость спиральной башни.
В эту пору небо почти неотделимо от земли, и граница еще не определена; это лишь разные степени темноты, в которой есть где разгуляться воображению. Но что такого может вообразить себе человек – кроме всех тех вещей, которые видели здесь другие, вещей банальных, сложившихся из мутных и расплывчатых форм действительности; это лишь разновидность куриной слепоты, комедия испорченного телефона. Но сказать по правде, взгляд прикасается к темным, холодным и влажным краскам точно так, как ладонь – к гладкому бархату, к теплой подкладке пальто, когда на дворе зябко, так же бессознательно и с таким же удовольствием.
Не будет фабулы, не будет истории, и уж тем более ночью, когда пространство лишено ориентиров, когда мы едем из Рогов до Рувно и дальше, через Мейсце Пястове. Путешествуем среди названий в растворе чистой идеи. Действительность не сопротивляется, так что всякого рода истории, всякая последовательность, старые супружеские связи причин со следствиями одинаково лишены смысла.
Комборня. Откуда берутся эти названия? Сколько времени прошло с той поры, когда они хоть что-то означали! Поднимающееся к небесам фырчанье автомобиля напоминает стрекотание швейной машинки. Темнота расползается по швам, и наметка путешествия ничего не дает. Горизонт на востоке блестит, будто серебряная змея, которая замерла, растянувшись на вершинах холмов. Этот холодный цвет предвещает жару и пыль, и нужно торопиться, нужно взбираться на эти застывшие волны, соскальзывать вниз, на дно мертвого моря, где дома стряхивают с себя темноту, словно собака воду, и белеют, похожие на черепа в черных поблескивающих очках. И они все там. Лежат навзничь или на животе, спиной кверху, и видят свои сны. Безмятежно или вспотевшие от волнения, укрытые или в смятой, всклокоченной постели, а некоторые в субботней своей одежде. И понятия не имеют, что кто-то о них думает. Собственно говоря, они не существуют. Сознание отдыхает, болезнь жизни утихла; они похожи на клочки тяжелой материи, почти мертвой и почти счастливой. Ян, Станислав, Флориан, Мария, Цецилия – литания, обращенная к древним святым. Еще секунда – и время задует их, словно ветер свечу. Они перенесутся в минувшее, и ничто уже не будет угрожать им, ни встающий рассвет, ни знойный день. Тени во мраке.
Домарадз. Мгла уходит в небо. Обнажает стога сена, черные заборы и островерхие крыши. Воздух темно-зеленый. Плотное небо отрывается от горизонта. Сквозь трещину виден свет другого мира. Те, кто умирал, думали, что направляются именно туда.
* * *
Середина лета, Погуже, рассвет набирает воздуха в легкие, и каждый следующий выдох светлее предыдущего. Еще целый час можно будет воображать себе жизнь других людей. Мертвая пора, когда мир постепенно становится видимым, но еще безлюден. Свет имеет оттенок расплавленного серебра. Он тяжелый. Разливается по горизонту, но земли не освещает. Здесь все еще царствуют полумрак и домысел, а вещи – не более чем собственные тени. Небо набухло сиянием, но сияние все еще замкнуто в нем, как воздух в детском воздушном шарике. Они лежат в своих домах, и история каждого из них могла бы покатиться в любую сторону, кабы не судьба, которая живет с ними под одной крышей, держит за пазухой некоторое количество вариантов, но никогда не перешагнет через самое себя. Святые с образов не смыкая глаз присматривают за ними. Они недвижны, свое уже выполнили. Их идеальные облики – это зеркала, к которым теперь прикасается время в своей чистейшей ипостаси. Ни жест, ни поступок не могут его замутить. Так выглядит небо: жизнь здесь хоть и существует, но на всякий случай не принимает никакой формы.
Я должен стать духом, должен проникать в их дома и выискивать все, что они укрывают. Воображение бессильно. Оно повторяет лишь виденное и слышанное, повторяет измененным голосом, пытается совершить грехи, которые давно уже совершены.
Еще минута – и заря взметнется выше, и будет видно собак, что стоят у своих будок или у дороги, но не лают. В эту пору обоняние и слух постепенно утрачивают значение, а зрение его пока не обрело, так что лучше считать все сном, собачьим видением. Кот примостился на парапете кирпичного дома. Он выбрал место, куда упадут первые лучи солнца.
Не будет фабулы, с ее обещанием начала и надеждой на конец. Фабула – отпущение провинностей, матерь глупцов, но она исчезает в занимающемся сиянии дня. Темнота или слепота придают вещам смысл, тогда как разум должен искать дорогу во мраке, он сам себе светит.
Видны уже заборы, деревья, весь этот бардак, свалки хлама во дворах. Зарытые в песок остовы машин рассыпаются терпеливо, подобно минералам; колья, жерди, холодные печные трубы, дышла телег; мотоциклы с понуренными головами; притаившиеся за углом сортиры; столбы в трауре провисших проводов; воткнутый да так и оставленный заступ – все это есть, все на своих местах, но ни одна из этих вещей пока не отбрасывает тени, хотя небо на востоке напоминает серебряное зеркало, свет отражается в нем, но остается незримым. Так, верно, выглядел мир прямо перед самым запуском: все было приготовлено, предметы застыли на пороге своих предназначений, как замершие от страха люди.
* * *
Пару месяцев назад мы проезжали здесь с Р. Была середина дня, апрель, и ехали мы в противоположном направлении. Между деревьями лежал снег. Облака застыли на одном месте, свет был разреженный и неподвижный, он расступался перед взглядом, и самые далекие хребты, дома и лесные гребни видны были так отчетливо, словно находились близко, но в слегка уменьшенном варианте. Мы не встретили ни единой машины, не видно было и людей. Раз только мелькнуло за темным стеклом чье-то лицо. Желтоватые пропитанные водой луга стекали с пригорков, и на дне долины их поглощал набухший поток. И надо всем повисла неподвижность. Занавески на окнах, затворенные двери, калитки, ворота, пустые автобусные остановки – и хоть бы одна глупая курица. В движении были только мы, вода внизу да клочья дыма над избами. Безлюдный по самые границы пейзаж выглядел декорацией, в которой только должно было что-то произойти, или уже произошло. Пространство господствовало над окрестностью, заполняя собой каждый закоулок мира, словно жидкое стекло. Мы разговаривали. Но во всех этих домах были люди, и сюжет все ускользал от меня, ведь все они – дети, женщины, мужчины – имели свои имена, и кровь текла по их венам. Пусть и невидимые, они жили каждый своей жизнью. Десятки, сотни, а по всей трассе тысячи тел и душ пытались каждый на свой лад справиться с днем. Сидели вокруг столов, около печей и телевизоров. Их головы были населены всеми теми, кого они когда-то знали или помнили. Ну а те, в свою очередь, знали и помнили своих, и так далее… Мы с Р. разговаривали, но сюжет у меня все обрывался, потому что бесконечность всегда ужасает.
Временами поднимался ветер, гнал тучи, и начинал падать снег, который тут же таял. Был Страстной Четверг, мы возвращались окольным путем из Ярослава. Нам хотелось увидеть Пшемысль, но там кружила вьюга, зеленые таблички дорожных указателей были облеплены снегом, так что посетили мы только холодное помещение магазинчика в какой-то периферийной деревушке, где Р. купил минеральную, а я что-то там еще – очень хотелось пить. Мы вырвались из этой белизны, она швыряла нам вдогонку горсти снега, но мы оказались быстрее. Впереди было светло, далеко и пусто. Жизнь не собиралась себя проявлять. Холмы, дома, вода, тучи имели четкость какой-то нечеловеческой фотографии. В таком пейзаже мысли звучат механической музыкой. Их можно рассматривать, можно слушать, но смысл их всегда враждебен, словно эхо в колодце. Стеклянный колпак неба плотно накрывал землю, воздух куда-то подевался, уступив место чистому пространству, и наше путешествие, движение нашего автомобиля становились все менее очевидными.
* * *
Но сейчас – середина лета, скоро будет Дынув, и я вспоминаю эту дорогу год назад, когда мы ехали туда с В. Стога сена гуськом вскарабкивались на пригорки, исчезали за ними и появлялись уже на новых возвышенностях, и наконец их поглощали темно-зеленые сумерки. Потому что был вечер, да еще вечер субботний. Краем дороги, пошатываясь, шли парни, ночь выходила им навстречу и была так огромна, что каждый из них надеялся на исполнение всех своих желаний. Под деревьями, у магазинчиков, в садах стояли пластмассовые столики и стулья. Они походили на стада маленьких скелетов. Люди пили пиво «Лежайское» или вязкое, напоенное зноем фруктовое вино. Женщины сидели, скрестив руки на животах, мужчины жестикулировали, дети ели чипсы, образовывая собственные кружки, – точно копировали в миниатюре отдых взрослых. Бело-красные зонтики «Prince», бело-голубые «Rothmans», пурпур на западе, на востоке темная синева. С холмов бежали к шоссе проселочные дороги. Люди спускались по ним, ища себе развлечений. Чистые рубахи белели, словно паруса или ду́хи. Мы ехали медленно. Местность могла напоминать ожившую карту, похоже, никто не остался дома, хотя окна светились серым светом телевизоров. Возможно, те одиноко стояли там в пустых избах в ожидании, словно верные псы. «Лежайское» и густое от зноя вино. Парни пропадали в темноте, девушки, постояв еще с минуту в светлом кругу, потом тоже исчезали. За витринами магазинов – продавщицы, которые уже переоделись в свою одежду, отправив халаты в стирку. Это был душный карнавал сумерек, когда из зарослей и фруктовых деревьев надвигается мгла. Это там собирается ночь и затем выходит в мир, а они – входят в нее, исчезают, идут сквозь темноту поодиночке, светят огоньками сигарет и встречаются где-то там внутри, подальше от глаз. Стекла у нас в машине были опущены. Я чувствовал тот запах, словно собака, умеющая думать.
На площадях перед костелами воздух был неподвижен. Как если бы вся пустота мира собралась именно там. Маленькая дворняжка бежала наискосок по вытоптанной сухой земле. Башня костела медленно дотягивалась до неба, опускавшегося все ниже и ниже, а собака, ее живое присутствие выглядели шалостью, крупицей безумия, занесенной из какого-то другого времени. Повсюду вокруг в пучине разогретого за день пространства люди высверливали себе проходы, словно черви в сыре, а на храмовых площадях тишина и холод оформлялись в нечто, напоминающее большие неровные аквариумы.
В. вел осторожно, потому что субботние вечера полны призраков. Люди раздваиваются на себя и собственные тайные желания и посылают свои почти невидимые изображения попробовать чего-то запретного. Парни вспоминают приснившиеся им сны, пока, возбужденные, идут обочиной шоссе и высматривают девушек, которые примеряли сегодня платья перед зеркалами, но ткань их одежды становилась невидимой, и они разглядывали свои обнаженные тела. Со скоростью пятьдесят километров в час мы плыли сквозь воздух, густой, как вода, полный множащихся отражений, мути и волн. Где-то под Дубецком небо наконец соединилось с землей, и окончательно наступила ночь.
* * *
Все эти путешествия напоминают прозрачные фотопластинки. Они накладываются одна на другую, как стереоскопические изображения, но образ от этого не становится ни глубже, ни отчетливее. Нельзя описать свет, его в лучшем случае можно снова и снова себе представлять. Мужчина в бурой рубашке и тиковых штанах выходит из дома и направляется в сторону конюшни. Семь секунд. И все. Мы уже дальше. Не исключено, что этой ночью он зачал ребенка, возможно, он успеет еще вывести коня на пастбище и, закурив первую за сегодня сигарету, умрет. Его существование сложено из великого множества минувших жизней, и каждая представляла собой целый мир. Действительность – это только неопределенная сумма бесконечностей. А ребенок в лоне добавляет к этому свое, и все начинается еще раз с самого начала. Семь секунд – прежде чем он исчез за красным углом. Рассказ не трогается с места, предохраняя от безумия.
Утренние тени стелются по земле, словно размазанные ветром. Черные, но нерезкие, так как роса рассеивает и преломляет свет по краям. Даже внутри этих пятен чернота не убедительна, она напоминает, скорее, отражение черноты. За Дынувом река Сан касается дороги своим согнутым локтем. Нужно опустить козырек перед стеклом, потому что солнце светит прямо в глаза. Висит над самым шоссе. Асфальт шелушится, точно старая позолота. Река внизу – цвета зеркала в темной комнате. Блеск пока что разливается поверху, а будущее возможно, но не обязательно. Перед Дубецком проезжаем мимо автомобиля. Видны его черное брюхо и четыре колеса сверху. Он напоминает животное, которому захотелось поиграть. Менты держат руки в карманах, как бывает, когда все уже закончилось. Голубой свет мигалки бессильно вращается в сверкающем утреннем воздухе. Несколько зевак висят на заборе у канавы. Глядят, курят, пускают сизоватый дым. Такая неподвижность всегда воцаряется на месте смерти. А солнце поднималось все выше, чтобы люди могли разглядеть мир.








