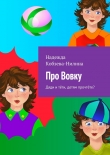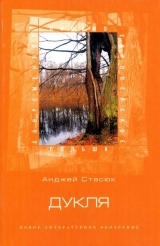
Текст книги "Дукля"
Автор книги: Анджей Стасюк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Прежде чем сесть в автобус, я еще встретил пана Марека, который, как всегда, рассказал мне историю о том, как он был когда-то богатым и угостил кого-то обедом. И я, как всегда, дал пану Мареку на билет, а он, как всегда, тут же отправился в магазин.
Но сейчас я миновал уже Ясло. Вислок под мостом был похож на асфальтовую дорогу. В нем ничего не отражалось. Автобус был длинный и удобный. Он покачивался, бормотал, а спереди под потолком висел телевизор, демонстрировавший фильм, цветной до безобразия, наверняка из Калифорнии, потому что там были пальмы, бассейны, длинные автомобили, голые женщины и лилась кровь. Этот экран походил на окно, открытое в жизнь куда более настоящую. Вокруг по самый горизонт все было бурым и неясным, а там сиял квадрат с райскими красками и люди отдавались богатству, любви и смерти. Гражданин, сидящий рядом, снял ушанку и посматривал то на экран, то за окно. И то и другое, должно быть, утомило его: в конце концов он сложил руки на животе и заснул.
В Кросне капало с крыш. Затейливые кросненские крыши просто созданы для оттепели и дождя. Вода кружит, звенит, делает меандры, постукивает внутри всех этих кровельных диковинок, словно в каких-нибудь метеорологических курантах, пока наконец не находит свой желоб, просачиваясь на улицу, а старики идут испуганные, локти их подняты, как крылья у растревоженных цыплят, ведь теплом веет пока что поверху, а здесь, на тротуаре, еще мороз, и из рыл желобов свисают стеклянистые языки. Так оно было. Я с трудом сохранял равновесие, до рейса на Барвинек оставался еще добрый час. Туман, вода и отчужденность бессонницы, когда даже в чистой рубашке и с наличными в кармане человек чувствует себя бродягой.
Я пробовал помочь себе пивом со ста граммами ликера «Cassis», но оно было столь же невыразительным, как и все остальное. Неопределенность просачивалась повсюду, и в живое, и в мертвое. Я подумал, что, пока доеду до Дукли, она исчезнет, расползется в воздухе, как состарившиеся воспоминания. Мне хотелось купить путеводитель «Дукля и окрестности» пана Михаляка. Я видел его когда-то в Дукле на витрине, но тогда было воскресенье. Теперь я искал его в Кросне. Я вошел в книжный магазин, на той улице, что за мостом сворачивает вправо и опоясывает подножие старого города. Внутри было тепло и тихо. Ксендз вполголоса консультировался с молодой продавщицей. В уголке журчало «Радио Мария» [15]15
«Радио Мария» – ультранационалистическая католическая радиостанция Польши.
[Закрыть]. Пахло полиграфической краской и скипидаром. Книги стояли на полках у стен. В основном речь в них шла о святынях и чудесах, но были также книги о масонах и мормонах, Мэнсоне [16]16
Чарльз Мэнсон, убийца и безумец, классическая фигура поп-культуры.
[Закрыть]и всемирном заговоре. О Дукле ничего не было. Я хотел подслушать разговор ксендза и девицы, но они шептались тихо, конспиративно, голова к голове.
Я даже не мог увидеть лица ксендза. «Радио Мария» передавало свой любимый опус с разухабистой гармошкой и смешанным хориком, голосившим, что одержит победу орел белый, одержит победу польский род. Весь в черном, склоненный, ксендз был чем-то похож на заговорщика. Он быстро вышел, через стекло я видел, как он бросает в серый «Опель» пачку книг и уезжает. В магазине витал запах девушкиных духов. Ароматные струйки по воздуху, стронутому с места священнослужителем, потянулись в сторону двери. Продавщица носила очки. Во всяком случае, должна была их носить.
А потом была беспредельность кросненского автовокзала. Площадь имела размеры аэропорта, с него отправлялись маленькие несчастные «автосаны» с табличками «Кремпна», «Вислочек», «Зындранова», тогда как должны бы стартовать реактивные самолеты. Мой автобус стоял где-то в самом конце – желтоватый и такой беспомощный, что хотелось взять его в руки, отнести на шоссе и, подтолкнув легонько, сказать: ну давай, малый, не бойся, в дорогу!
Я вовсе не ошибался. Дукле грозило небытие. Я пошел, как всегда, перешейком между фотоателье пана Щурека и витриной ветеринара пана Когута. Ратуша едва отделялась от неба. Она выглядела точно его вырезанный ножницами фрагмент, который чуть сдвинулся, упершись в мостовую. Плоская театральная декорация с картонными дверцами в щипце. Давление стремительно ползло вверх, но воздух был еще неподвижен. Горный ветер с Татр вот-вот должен был подняться. Теперь он, вероятно, брал разбег над Венгерской Низменностью, только-только вытягивая лапу, чтобы ощупать с юга Карпаты, ища расселин, низких горных перевалов и широких седловин, через которые мог бы вторгнуться и обрушиться на беззащитное Погуже, сея духовное опустошение среди жителей. Так что на всякий случай я вошел в Пететек.
Три типа за столиком молча пили водку. Просто поднимали стаканы ко рту и опрокидывали. Не обращая друг на друга внимания.
Перед горным ветром все бывает тихое и чужое. Внутри тел проскакивают искры, нервы делаются натянутыми и раскаленными, кожа перестает их защищать, и потому граница между банальностью буден и безумием делается тонкой, как волос. Человек не отделяет себя от мира и полагает самого себя реальностью, тогда как на самом деле у него лишь слабеет сознание, и вместо того, чтобы придавать видимость смысла царящему вокруг сумбуру, оно занимается собой.
Эти ребята были вполне нормальные, серо-бурые, с растительностью на лице. Они даже не взглянули на меня, но почуяли мое присутствие, как звери чуют чужака. К их столику вел мокрый след. Каждый из них выстукивал ногой какой-то свой ритм. Белый «адидас», черный «казак» на молнии и носок чего-то, что могло быть резиновым ботом или кирзовым сапогом. Из подсобки донеслось звяканье. Я постучал двузлотовым по стойке. Мне совсем не хотелось тут задерживаться. Подошла официантка, она наливала мне так, будто я был прозрачным, и не глядя сгребла деньги в ящик. Я выпил и вышел настолько быстро, что вкус почувствовал лишь в арке, которая вела с Рынка в маленький дворик, где летом под деревом стояли столик и три стула.
Ветра все еще не было. Перед горным ветром всегда бывает такое ощущение, будто ты набрал воздух в легкие и пытаешься задержать его как можно дольше. На углу улицы Костюшко женщина швырнула что-то под ноги мужчине в зеленой куртке и быстрым шагом удалилась. Мужчина поднял это нечто, стал приводить в порядок, упихивать, сворачивать, а потом побежал за ней. До сих пор не знаю, что это было. Что-то коричневого цвета. Я пошел туда, но на тротуаре не осталось никаких следов. Поругавшаяся парочка уже исчезла в «Граничной». Не за что было ухватиться. Мысль и взгляд расползались во все стороны, не встречая никакого сопротивления. Материя и память расступались перед ними, куда ни глянешь, о чем ни подумаешь, вокруг – ничего, только пучина географии, по самые границы кросненского пейзажа, и аморфная трясина прошлого, с околоплодными водами включительно. Так выглядят минуты перед ветром с гор. Невесомость, вакуум, расстройство рассудка, и кажется, будто ты проглотил весь мир и в животе грохочет эхо. Это просто недостаток изобар, и все сущее разбухает, накладывается одно на другое, и трансцендентность переходит дорогу имманентности. Тогда воображаемое перемешивается с реальным, гурали в Подхале [17]17
Гурали – польские горцы, Подхале – местность на юге Польши.
[Закрыть]хватаются за ножи, в заведении, именуемом в народе «Под соском», льется кровь, и не стоит даже пытаться их разнимать. Удавленники ищут уединенных мест, любовь оборачивается насилием, а выпитая водка собирается в организме, будто бы не причиняя никакого вреда, и ты сидишь себе прямо, чопорно и скучно, пока вдруг мозг не взрывается, словно магнезия, и тогда в белом свете безумия неправдоподобное становится обычным. С крыш сползает снег, и коньки на крышах блестят, точно лезвия. Так и должно быть.
В общем, я решил отыскать дом, который мы обнаружили с Р., когда были здесь летом. Тогда уже опускались сумерки. Мы шли по Церговской, свернули к Городскому Валу, а потом на Зеленую. Это была неприметная хибара из почерневшего дерева. Она стояла в глубине запущенного сада. В окне горел желтый свет. Минут через пять должно было окончательно стемнеть, но остатки дневного света позволили заглянуть в этот не то сад, не то двор. Там царил весьма странный порядок: обрезки, пластины и надорванные куски ржавой жести были уложены в геометрически ровную кучу. Кто-то задал себе огромный труд, чтобы из бесформенных предметов сложить почти прямоугольник. Камни, щебень и обломки кирпича покоились в пирамидальной призме, выровненной до точного конуса. Осколки и камешки были заткнуты в просветы между более массивными обломками с такой аккуратностью, как если бы это делал каменщик. Целые и треснувшие пополам кирпичи лежали в элегантном прямоугольном штабеле. В другом месте были собраны остатки толя и пленки, свернутые в рулоны соответственно виду и размеру. Кульки и свертки лежали друг на друге в сужающейся кверху горке настолько изящно, что на вершине оказался один венчающий композицию рулон. Древесина тоже была приведена в порядок в соответствии с размерами и конфигурацией. Тут прогнившие трухлявые доски, там короткие обрезки толстых балок в груде, похожей на детский кубик. Рядом лежал лом. Хитросплетение проржавелых конструкций было распутано. Отдельно трубки, пруты, рельсы и железные профили, словом, вещи длинные и тонкие; отдельно многогранники и всякая мелочь неправильных очертаний, останки велосипедов, печной арматуры, металлических банок и черт знает чего еще. Эти бесформенные предметы, которые невозможно прилаживать один к другому, были ссыпаны в обтекаемый полукруглый холмик, да так, чтобы ничто не торчало и не нарушало его относительной округлости. Под навесом сарая из лесопильных горбылей было собрано стекло. Сотни, а может, тысячи ровно уложенных бутылок складывались в стеклянную стену – горлышками внутрь, донышками наружу. Здесь также царила элементарная гармония. Отдельно зеленые, отдельно коричневые и белые, к тому же растасованные с учетом конфигурации и вместимости: фляжки были изъяты из рядов круглостенных, а пол-литры не мешались ни с четвертинками, ни с литровыми из-под колы и лимонада «Птысь». Этот шифр был чрезвычайно сложен, ведь три цвета и несколько вариантов формы дают головокружительное количество комбинаций. А рядом банки, тоже рассортированные по размерам. А еще дальше росло старое дерево с раскидистыми ветвями, с которых свисали пучки веревок, связки электрических кабелей, куски, кусочки, обрывки, поперевязанные, поперетянутые, плотные, стекающие вниз конскими хвостами. И кроме того, еще набитые пластиковые пакеты. Более десятка разноцветных мешочков, наполненных незнамо чем, но наверняка чем-то легким, потому что они раскачивались при малейшем дуновении. Выглядело все это, словно сотворение мира. Между складами мусора была протоптана дорожка. Как если бы создатель этого порядка прохаживался среди сотворенного им, восхищаясь и время от времени подправляя.
Мы пошли в сторону развалин синагоги. Молодые березки вцепились корнями в фундамент стены в нескольких метрах над землей. Мы слышали шелест листочков. Тогда Р. сказал, что ему очень понравилось, как тот человек в старой убогой халупе, самой убогой на всей улице – обсаженной большими, богатыми и отвратительными домами, – как тот человек просто пытается придать смысл своему миру, и это нормально, что он не пытается его изменить, а только слегка упорядочивает, как порой упорядочиваешь мысли, и этого иногда достаточно, чтобы не сойти с ума. Так сказал Р., и я махнул рукой на все это сотворение мира, потому что, похоже, Р. был прав.
И сейчас мне хотелось пойти туда, чтобы зацепить на чем-нибудь взгляд и мысли, на чем-нибудь простом и очевидном, на чем-то, что было совершено ради самого свершения. Я так и сделал, но во дворе лежал снег, и белые холмики скрывали шедевр. Все это выглядело как нечто случайное и природное. К двери не вел никакой след. Из трубы не поднимался дым. На безлистом дереве висело несколько слинявших пакетов. Они напоминали безжизненные плоды. Наверное, они были набиты другими пакетами. С юга налетел первый порыв ветра и заколыхал кульки. Я быстро убрался оттуда. Автобус из Барвинека пах ветром.
По словарю «дукля» означает «маленький шурф, который служит вентиляционной скважиной при разведке ископаемых или используется для их добычи примитивным способом».
Все верно. Мой способ примитивен. Он напоминает долбление вслепую. Собственно говоря, делать это можно в любом месте. Какая разница, коль скоро мир-то круглый. Вот и память тоже начинается с какого-то пункта, с точки, а потом наматывается слоями, описывая все большие круги, чтобы поглотить нас и, наконец, сгубить в на фиг нужном нам изобилии, и тогда мы начинаем пятиться, поворачивать назад, притворяться, что вляпались во все это случайно, сами того не желая, что, вообще говоря, нас кто-то впутал, соблазнил, как ребенка, а сейчас нам лишь хочется к маме, чтобы под ее юбкой плакать от стыда и бессилия.
Тем летом, как и каждый год, июль незаметно сменился августом, и несмотря на непрекращающийся зной, воздух был пропитан напоминанием о конце каникул. Коровьи лепешки на лугах засыхали в мгновение ока. Можно было носком ботинка переворачивать их на другую сторону. Зеленые металлические жуки застывали в блеске солнца, а потом торопливо искали тени. Пыль постоянно висела над дорогой. Ивы над рекой пахли горелым. Вода опала, и посреди русла обнажились песчаные отмели. Можно было дойти до них вброд, по грудь в воде. А потом лежать на спине, чувствуя щекочущее прикосновение реки и шершавую, расступающуюся под тяжестью тела гальку. Некоторые перебирались аж на другой берег и, гордые, стояли там, подперев руками бока, изумленные зрелищем собственной деревни, которой никогда прежде не видели с той стороны. Вечерами к реке подъезжали телеги с жестяными бочками. Люди набирали воду для скотины. Колодцы начали пересыхать. Лошади по брюхо заходили в реку и пили.
Тем летом я впервые надрался до синих коней. Дружки дотащили меня к дому дяди с тетей и там оставили. Я проснулся на заре, весь мокрый от росы. Красное солнце вставало над черной полосой сосновых и осиновых перелесков. Было совсем безветренно, но тополя у дороги шумели как обычно.
Пожарные свернули лавочку и перенесли магнитофон «Tonette» в депо. Ночи были уже холодными. В одну из таких ночей устроили настоящую вечеринку. Буфет с водкой и пивом. И вертушка крутилась только в перерывах, когда гармонист, гитарист и барабанщик теряли силы. В помещении депо клубилась желтая пыль. Танцующие были мокрыми от пота. Перед полуночью подкатила милицейская «сиренка» и вошли двое в форме, высматривая кого-то. Найти-то нашли. Но тому удалось вырваться из их рук и даже вмазать одному менту по физии – я увидел на земле шапку с орлом. Парень убегал во тьму между овинами. Ему вдогонку несся собачий лай. Второй мент вытащил пистолет и пульнул в ночь. Тем летом я в первый раз услышал настоящий выстрел.
В какой-то из дней мы гоняли мяч на волейбольной площадке. В конце концов он укатился в кусты да там и остался. У крыльца ее домика ничего не висело. Около пустой бутылки от «мистеллы» стояла еще одна такая же. Мы вяло расползались в поисках тени. Коричневые от солнца и скучающие. Нас мучила жажда. У меня не было ни гроша. Я двинулся в сторону бетонного бункера, где находились умывальни и душевые. Внутри царили прохлада и полумрак. Свет просачивался из узких окошек под потолком и застывал там, словно у него не хватало сил спуститься. Я пил и дрожал от холода. На соседнем кране лежало свернутое в комок полотенце. В глубине в бок уходил коридор, в котором были душевые кабинки. Оттуда доносился шум воды. Временами он напоминал сухой треск. Я умыл лицо. Вода утихла, и я услышал голос: «Крися! Дай полотенце!» И через минуту еще раз: «Криська!»
Я взял полотенце. Оно было влажным. Взял его и пошел в ту сторону. Прямоугольник маленького окошка в конце коридора ослепительно сверкал, ничего при этом не освещая. В последней кабине шевельнулась полиэтиленовая штора. Я этого не видел. Слышал только шелест. Я шел с вытянутым перед собой полотенцем. Остановился очень близко, и тогда полупрозрачная занавеска отодвинулась полностью. Когда она забирала полотенце, ей пришлось легким движением выдернуть его из моей руки. То, что я видел, было лишь зарисовкой фигуры, темным контуром на фоне золотого сияния. Ее волосы были теперь почти прямыми. Они стекали ей на плечи, тяжелые и мокрые. Я подумал, что наконец увижу ее лицо, но видел только свет, солнечные потоки, процеженные сквозь грязное стекло, и отблески, дробящиеся вокруг ее головы.
Она сказала: «Все ходишь за мной», – и чуть шевельнулась, а вместе с ней – теплый парной воздух, насыщенный ее ароматом, металлическим запахом воды и аурой мокрой стенки. Меня окутывало душное осязаемое облако, было это так, словно я оказался в ней, словно дотрагивался до ее кожи изнутри. Я ощущал пружинистую, податливую оболочку мира и боялся пошевелиться, потому что каждое движение, каждое колебание возвращалось ко мне в виде какой-то бесконечно упоительной смертельной ласки. Я глубоко дышал. Воздух полз по венам. Он был пропитан ее существованием. Она дотронулась до моей щеки, передвинула ладонь на шею, и я почувствовал капли воды, стекающие по спине. И в этот момент где-то вдалеке мы услышали мертвый стук сабо. Она отдернула руку. Я развернулся и выбежал на улицу. Ослепленный солнечным светом, я остановился лишь на середине деревни. Старая женщина вешала ведро на изгородь. На западе над старым холерным кладбищем появилось белое облачко, но через минуту исчезло.
Ну в общем, Дукля. Странный городок, из которого и ехать-то уже некуда. Дальше только Словакия, а еще дальше Бещады, а по дороге все мерещится черт со своими куличками, и ничего сколько-нибудь стоящего не попадается, ничего, лишь хрупкие домики примостились у шоссе, как воробьи на проводе, а между ними полные ветра выгоны, неизменно заканчивающиеся небом, которое взмывает вверх, а потом загибается, нависая над головой, чтобы упереться в противоположный край горизонта. Именно так – Дукля, увертюра пустого пространства. Куда поехать из Дукли? Из Дукли можно только возвращаться. Эдакий прикарпатский Хель [18]18
Хель – песчаная коса на балтийском побережье Польши, у ее северной границы.
[Закрыть], урбанистическая Ultima Thule [19]19
Ultima Thule (лат.‚ греч.) – Далекая Фула, полумифическая северная страна, считавшаяся краем света.
[Закрыть]. А дальше уже только деревянные лемковские хижины, «хыжи», и бетонные обломки бастардов Ле Корбюзье – со всем этим пейзаж кое-как справляется. На автовокзале никогда не бывает больше двух автобусов. Грузовики из Румынии сбавляют скорость на минутку, на эти пятьсот метров, а от Бернардинцев давят уже до упора.
Ты выпиваешь пиво в «Граничной», выходишь на середину Рынка, и фантазия раздувается, словно шарик на уроке физики, положенный под колпак вакуумного насоса. И тогда Дукля представляется центром мира, omfalos universum [20]20
omfalos universum (лат.‚ греч.) – центр вселенной, пуп земли.
[Закрыть]– некой вещью, в которой берут начало все другие вещи, стержнем, на который нанизываются все новые слои подвижных явлений, необратимо превращенных в неподвижные фикции: дрожки однолошадные из Ивонича 3 кроны, двухлошадные 7 крон, дилижанс крона пятьдесят. Дилижанс отходит в 6.00, 7.30 и в 2 пополудни. Спать можно на постоялом дворе Лихтманна за крону пятьдесят, откушать в покое для завтраков у пана Хенрика Музыка. Три тысячи жителей, из которых две с половиной – евреи. Год, скажем, 1910-й. Все вместе напоминает фотографию, тонированную сепией, или старый Целлулоид – и то и другое горит легко и оставляет после себя пустое место. Это как если бы сгорело время. Когда разрушаются вещи, существующие в пространстве, после них остается вакуум, который мы заполняем другими вещами. А вот как со временем? Похоже, оно срастается, как нечто органическое, и тянется себе дальше, потому что мы привыкли к непрерывности, которая немного похожа на бессмертие. А что, если после Мнишек, евреев и дрожек остались какие-то места, какие-то незанятые пространства, какие-то дыры, подобные тем, что прожжены сигаретой в выходном костюме?
Но в общем, когда я возвращаюсь в Дуклю, мне нет дела ни до дилижансов, ни до евреев, ни до чего. Меня интересует только, является ли время продуктом одноразового употребления, как, скажем, гигиенические платочки «Povela Corner» из Тарнува. Только это.
Вскоре она уехала. Домик был заперт наглухо. Окно, лишенное занавески, которую они, должно быть, привезли с собой, блестело черным стеклом. С крыльца пропали пустые бутылки. Исчезла веревка для сушки белья. Курорт вымирал. Байдарки из крашеной зеленой фанеры перетащили с берега под навес, где целое лето работал парень с зашпиленным английской булавкой рукавом рубахи и за два злотых сдавал их напрокат вместе с веслами. У мостков осталась только белая пластиковая лодка на цепи. Иногда мы залезали в нее. Цепь была длинная, но течение прибивало лодку к берегу. Мы там курили. Иногда пили вино. Теперь я делал это с осторожностью. Мне хватало терпкого привкуса и тепла в желудке. В ста метрах отсюда вниз по реке швартовались деревянные баржи. Туда ходили те, что постарше, и расстегивали кофточки девушкам. В сумерках бывало слышно хихиканье. Вода разносила его далеко. Мы подслушивали разговоры. Я понимал из этого не много. Около барж на берегу лежали большие груды раскрытых раковин, оставшихся от речных моллюсков. Ребята сказали мне, что раньше люди кормили моллюсками свиней.
В какой-то из дней, совсем незадолго до конца, незадолго до отъезда, я пошел туда. Из одного крана капала вода. Я закрутил его. Мне хотелось, чтобы стало абсолютно тихо. Слышал только скрип резины на сухом полу. Я вошел в последнюю кабину и задернул за собой полиэтиленовую шторку. Солнце, как и тогда, светило сквозь узкое горизонтальное окошко. Покрытые трещинами кафельные плитки поблескивали, как полупрозрачное золото. Казалось, что за ними что-то есть, что там простирается другой мир. Пахло мокрой стеной и печалью места, где перебывало множество чужих голых людей. Здесь словно остались их осиротелые остывшие отражения. В отверстии слива стояла жирная вода. На поверхности плавал белый лепесток мыла и пучок волос. Память обо всех. Деревянный помост был светло-серый и почти сухой. Сюда давно уже никто не заглядывал. В углу лежала желтая подушечка от яичного шампуня. Я поднял ее. В ней был только воздух и немножко запаха. Мне стало страшно. За стеной кто-то прошел и что-то кому-то сказал. Я и не думал снимать одежду и делать вид, будто моюсь. То есть я думал об этом, но такой план представлялся мне слишком дерзким. Чтобы тринадцатилетний подросток вот так просто вошел в чужую душевую? Но гораздо большим беспокойством наполняла меня мысль о том, что своим телом я мог воссоздать ее существование. Я стоял в этом жалком кубическом пространстве, позволяя себе одни лишь прикосновения. Кафельные плитки были холодными и липли к пальцам. Зазоры и трещинки заполняла тень. Черная сетка – или контурная карта – сопротивлялась свету. Мне не нужно было напрягать воображения. Я знал, что вода падала на нее сверху, стекала по плечам и груди, капли отскакивали и попадали на стену, а некоторые из них навечно впитывались в пористую структуру материи, я знал, что вода, прежде чем навсегда исчезнуть в мерзком квадрате слива, должна была коснуться дерева, пропитать его и оставить в нем какие-то элементарные частицы. Ведь в конце концов, тело ее, как и память, собирало из мира невидимые, но присутствующие в нем элементы, поглощало их знойными днями и душными ночами, удерживало с помощью пота, увлекало куда-то внутрь и усваивало, пока они не становились ею самой: пыль, взгляды, чужое прикосновение, цветочная пыльца, запах простыней, спертый деревенский дух и запахи других людей, свет, и даже пейзаж, изображения предметов, которыми она пользовалась и мимо которых проходила, – все это проникало в нее, проходило сквозь упругую ненасытную кожу, чтобы затем, преображенным и уже ненужным, выступить обратно на поверхность в виде грязи, усталости и стечь в тот же день в золотом сиянии вечереющего солнца, разбрызгаться и возвратиться в мир, который точнехонько уместился в кубическом пространстве душевой кабинки. Ведь мир должен принимать какие-то формы, доступные мыслям и чувствам, потому что в противном случае мы умирали бы от тоски, не понимая, почему, собственно, умираем.
Ну в общем, я стоял там почти не шелохнувшись и разыгрывал кощунственную пародию на ее существование. Краны были черные, эбонитовые и ничем не отличались друг от друга. На пластмассовой полочке для мыла лежала сломанная спичка. Коричневая головка слиняла, окрасив древесину в розоватый цвет. Я стоял почти не шелохнувшись. Я боялся, что всколыхну воздух, а воздух потревожит все остальное. Ведь все это было словно живая гробница, словно что-то, усыпленное насмерть.
И тогда послышался колокол из маленького деревянного костела. Звонили к шестичасовой вечерне для нескольких старушек в темных платках, для которых зажигали всего две свечи на алтаре, а прислужников заменял церковный сторож. Я вышел очень медленно, задом, задернув за собой штору, и пятился, пока не почувствовал стену.
Снаружи у дверей стояла женщина в буром фартуке, с ведром и щеткой, а рядом толстый мужчина. Я прошел между ними, прервав их разговор. Когда я уже отошел на несколько шагов, то услышал взвившийся голос уборщицы: «Ну, что я говорила?! Что я говорила?! Они ссать сюда приходят, товарищ начальник, ссут они здесь…»
Мужчина что-то ответил, но женщина не дала себя переубедить и повторяла свое, хотя я уже не мог понять слов. Я шел медленно. Под жестяным козырьком пивной стояли только местные. На следующий день я должен был уехать. А сегодня должен был собрать вещи.
В тот день, прежде чем двинуться в сторону Команчи, мы с Д. еще обошли дукельскую рыночную площадь. Там не было ни души. Все либо участвовали в погребальном шествии, либо ждали дома, пока вернутся остальные и будет с кем поговорить. Д. заглядывал через темное стекло в мастерскую по ремонту велосипедов. Он позвал меня. «Там какая-то труба», – сказал он. «В велосипедах?» – спросил я и тоже посмотрел. Действительно, на стене ателье, между рамами, педалями и прочим золотилось нечто, то ли тромбон, то ли валторна – непонятно. Во всяком случае, золотилось таинственно и как-то одиноко и грустно, поскольку все медные духовые отправились с похоронами. Как если бы его оставили в наказание или по старости.
А потом я хотел показать Д. ту большую веранду и дворец, и мы направились по кварталу, чтобы выйти к узкому проходу из пары ступенек, ведущему к Дукельке. И когда мы проходили мимо невысокой стены на самом углу Рынка, на нас словно с неба свалилось некое существо, приземлившись на обе ноги прямо перед нами, и попросило курева. Мы даже не успели разобраться, парень это или девушка, потому что было оно заросшее, лохматое и какое-то неотчетливое от алкоголя. Стрельнув четыре сигареты «для подруги», существо столь же пружинисто и нереально исчезло за белой стеной, и лишь качание кустов по другую сторону помогло нам поверить в действительность происшедшего.
А потом меня соблазнили ступеньки, ведущие словно бы под землю. Это было то, что осталось от общественной городской уборной. Серая деревянная дверь была выломана и болталась. Я вошел. Там ничего не было. Лишь полумрак и осколки. Ничего целого, одни фрагменты. Пустые отверстия на месте кранов, ржавые следы установочной арматуры, фаянсовые обломки унитазов и повсюду краска, отслоившаяся от стен. Пыль, паутина, обрывки газет, битое стекло, рыжее распадающееся железо, щебень и засохшее говно. И серый свет из маленького оконца на уровне земли. За ним был ясный день, но здесь его блеск умирал. Есть такие места, но обычно они случаются во сне. Меня охватил испуг. А пожалуй даже ужас, ледяное прикосновение древнейшего страха. Нечто подобное должны были испытывать люди, когда осознали существование времени, когда поняли, что они неподвижны, что они остаются позади, и с этим ничего не поделаешь.
Я стоял не шевелясь, у меня немели конечности. В этом заброшенном, полном эрозии сортире я увидел материю в ее окончательном упадке и запущенности. Попросту минуты и годы вошли в эти вещи и взорвали их изнутри. Как всегда и везде. Мне надо было прожить тридцать шесть лет и оказаться здесь.
С душой, забившейся в пятки, а может и куда подальше, я двинулся обратно. Шел очень медленно, ступенька за ступенькой поднимаясь на поверхность. У Марии Магдалины звонили колокола. И тогда я решил все это описать.