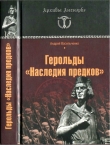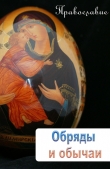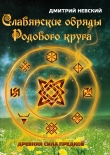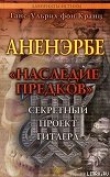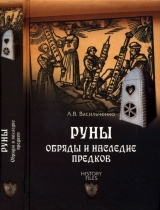
Текст книги "Руны. Обряды и наследие предков"
Автор книги: Андрей Васильченко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Переписка, которую вели между собой Вальтер Вюст и Генрих Гиммлер, показывает, что в СС и в «Наследии предков» Отто Хута очень ценили как исследователя. Достаточно вспомнить тот факт, что Генрих Гиммлер обязал всех офицеров СС ознакомиться с книгой Отто Хута «Новогодняя елка». В некоторых случаях рейхсфюрер СС преподносил эту книгу в качестве подарка на день рождения. У молодого эсэсовского исследователя Отто Хута можно было обнаружить черты, которые ни в коей мере не были присущи ни Вальтеру Вюсту, ни Йозефу Плассману, – многие характеризовали его как весьма надменного человека, весьма честолюбивого, но при этом трудолюбивого, стремящегося во чтобы то ни стало добиться публикации своих работ. Стоило ему только получить степень кандидата наук, как он стал употреблять во всех публикациях в отношении себя форму «Мы» («Мы полагаем необходимым указать…» и т. п.). В некоторых из своих писем он не стеснялся прибегать к откровенным рекламным приемам («Я полагаю эту мою работу настолько важной, что хотел бы просить о том, чтобы она была вручена непосредственно в руки рейхсфюрера СС»).
Кроме всего прочего в 1938–1939 годах Отто Хут по поручению руководства «Наследия предков» составлял список «еврейских ученых или же исследователей, породнившихся с евреями». Подобно многим сотрудникам «Аненербе» Отто Хут активно контактировал с СД – эсэсовской службой безопасности, выполнявшей на территории рейха функции внутренней разведки. После того как Хут перебрался в Имперский университет Страсбурга, он фактически становится штатным сотрудником СД. Перед ним поставлена грандиозная задача – разработать программу национал-социалистического преобразования всех гуманитарных наук в Германии. Кроме этого Отто Хут консультировал РСХА (Главное управление имперской безопасности) относительно «религиозной и церковной обстановки в Эльзасе».
Если говорить о пристрастии Хута к публикаторству, то оно лучше всего характеризуется присущей его письменным материалам фразой: «Хотелось бы отразить положение вещей в этой небольшой статье». Являясь начальником входившего в состав «Наследия предков» исследовательского отдела индогерманского религиоведения, Отто Хут занимался изучением культуры жителей Канарских островов, в связи с чем планировал осуществить публикацию «колоссального собрания источников». Формальным поводом для этого грандиозного и дорогостоящего проекта был «учет всей литературы жителей Канарских островов», так как, по мнению Хута, «не могло быть никаких сомнений в том, что кропотливое и доскональное изучение культуры жителей Канарских островов имело огромное значение для всех индогерманских исследований». На самом деле обычаи и культура Канарских островов были всего лишь отправной точкой для еще более глобального начинания. О Канарах Отто Хут говорит летом 1938 года, а несколько месяцев спустя он рассуждает о публикации исторических источников, которые относится к Армении и Полинезии. В ноябре 1938 года было озвучено намерение заняться «проработкой африканского материала». Проекты и планы множились в голове Хута буквально с каждым днем. Например, он пытается заручиться поддержкой служащих в министерстве иностранных дел, дабы те помогли ему наладить связи с итальянскими научными кругами. На этот раз Хут вынашивает идею осуществления культурно-исторического анализа наследия италиков, предполагая выявить в нем «индогерманское ядро». В этой связи нет ничего удивительного в том, что как только был начат проект «Лес и дерево», Отто Хут стал претендовать на большинство тем, связанных с этим начинанием. Не являясь руководителем проекта, этот исследователь хотел заполучить под свой контроль максимальное количество тем. Список впечатлял: «Лес и дерево в арийских преданиях», «Новогодняя елка», «Лес в религиозном переживании и обычаях германского человека», «Лес в аутентичных германских культах. Влияние христианства», «Дерево в народных верованиях», «Лес в сказаниях и народных верованиях». «Майское дерево», «Ирминсул – священный столб», «Деревенская липа», «Древо жизни в годовом праздничном цикле».
Весной 1941 года Отто Хут направился в «Немецкое исследовательское общество», чтобы обсудить суммы возможных расходов, связанных с изучением перечисленных выше тем. Его запросы были настолько велики, что запрашиваемые суммы были приблизительно в шесть раз больше, нежели могло обеспечить «Немецкое исследовательское общество». Желая угодить амбициозному исследователю, в 1942 году издательство «Нордланд», фактически являясь служебным издательством «Наследия предков», выпускает подготовленные Хутом к печати «Письма молодого Ницше». Тираж книги составляет 30 тысяч экземпляров. По мере того как разворачивались боевые действия, Отто Хут предпочитал пребывать в Страсбурге. После эвакуации он оказался в Тюбингене, где после окончания войны продолжил преподавание в местном университете.
Но вернемся к проекту «Лес и дерево». По мере выполнения заданий и отдельных поручений сотрудники проекта «Лес и дерево в арио-германской духовной и культурной истории» должны были сдавать отчеты. Кроме собственно описания работы по проекту эти справки должны были содержать библиографию, указания на архивные источники. Из сохранившихся отчетов следовало, что значительная часть сотрудников проекта занималась исследовательскими темами беспорядочно, бессистемно. План работы Отто Хута по теме «Новогодняя елка» выглядел следующим образом:
История изучения новогодних елок;
Германское зимнее солнцестояние и немецкое Рождество. История изучения рождественских обрядов;
Древние документы о рождественской и новогодней елке;
Распространение рождественской елки в немецком народном пространстве;
Культовые деревья в прочих праздники и торжествах;
Возраст и распространение деревянных украшений. Символьное значение деревянного украшения;
Цветущее древо и новогоднее елка;
Проблема возраста новогодней елки. Аналогии у германских племен и индогерманских народов;
Индогерманский миф о мировом древе, проблема его изображения;
Прочее.
Результатом этой деятельности стало издание не слишком толстой книги Отто Хута, которая называлась «Новогодняя елка. Германские мифы и немецкие народные обычаи». По большому счету это издание стало пользоваться известной популярностью лишь по причине того, что Гиммлер как рейхсфюрер СС распорядился закупить у «Наследия предков» несколько тысяч экземпляров книги, чтобы она вручалась офицерам СС в качестве подарка на праздник Юль – как иногда называли зимнее солнцестояние.
Но в рамках проекта «Лес и дерево» Отто Хут также переработал сюжеты, связанные с новогодней елкой, в сюжеты о «древе света». То есть со временем Хут хотел расширить базу исследования, собственно, как и трактовку праздничной символики. Поскольку в рамках данной книги приведены отнюдь не все разработки Отто Хута, которые предпринимались им в рамках «Наследия предков», то рассмотрим его культурно-исторические построения более детально. В своей книге Хут не только не ставил знака равенства между новогодней елью и рождественской елкой, но противопоставлял их, делая своеобразными антагонистами. Новогоднее дерево было для него «национальным», а рождественская ель – «христианской и католической». Собственно, вся книга, равно как и соответствующая часть проекта, были посвящены тому, чтобы «доказать», что «древо света» (Lichter-Baum) было проекцией «мирового древа», а рождественская елка (Lichterbaum) – всего лишь поздней «мистификацией». В рамках проекта этой теме было посвящено сразу же несколько разработок. Густав Юнгбауэр занимался проблемой «Леса в сказках», Йозеф Плассман работал над докладом «Ирминсул в германских преданиях». Условным противникам, а именно «католической этнографии», было посвящено несколько вторичных докладов: «Гуманистические и теологические предубеждения ученых», «Этнография без этноса», «Дурная психология без души». Чтобы в итоге не ставить под сомнение собственное университетское образование, Отто Хут использовал «метод вагенбурга»[10]10
Вагенбург – военный город из повозок, немецкое «гуляй-поле».
[Закрыть], который он позаимствовал у Йозефа Плассмана. Согласно этому методу национальные обычаи, символы и предания могли понимать только те, кто «был причастен к мышлению и переживанию народа». То есть этнография фактически переставала покоиться на сугубо научном фундаменте; она возводилась как дисциплина, предполагавшая необходимость «следования за внутренними культовыми переживаниями народа».
Гуманитарная наука в том виде, как она понималась руководством СС, неизбежно сталкивалась с целым рядом проблем. Это относилось к разработке вопроса, касавшегося «светлого древа». Но Отто Хут был достаточно образованным, чтобы обходить их стороной. К каким выводам можно было прийти, если нельзя было найти следов новогодней елки в Средние века? Отто Хут полагал «неправильным» отказывать елке в германском происхождении только на основании того, что о ней ничего не говорилось в средневековых документах. Автор все равно был убежден в ее сугубо германских корнях. Он видел только две возможности, чтобы доказать «германское происхождение» новогодней елки как праздничного символа. В первом случае, несмотря на христианскую трансформацию символа, новогодняя елка была частью непрерывной традиции. Но тогда получалось, что этот обычай был очень скоротечным. «Он сохранился только в некоторых из отдаленных областей, где время от времени он внезапно получал широкое распространение». Отто Хут назвал это «внешней преемственностью». В этом случае обычай сохранялся, даже если «было утрачено связанное с ним душевное переживание». Другой вариант сотрудник «Наследия предков» назвал «внутренней непрерывностью»: если цепь преданий была разорвана более чем на тысячелетие, но германская новогодняя елка все равно «возникла из психического перво-переживания, того душевного импульса, что когда-то создал эту форму культа».
Подобный подход был характерен для многочисленных эсэсовских научных построений. Что же произошло в конкретном случае с темой Отто Хута в проекте «Лес и дерево»? Отто Хут без проблем подтвердил то, что в Средние века не было новогодних елок. Они появляются в то время, когда христианство глубоко укоренилось среди немцев. В данном случае Хут обращается к «перво-переживанию», древнему духовному импульсу. Несмотря на то что новогодние елки появляются приблизительно в 1650 году, они все равно могут быть исконно германским явлением. Германская суть, сокрытая в недрах расы, могла проявиться в силу различных причин. Такой необычный термин, как «перво-переживание», не был научным, но он позволял использовать научные сведения в нужном для национал-социалистического режима идеологическом направлении.
Если мы обратимся к тексту работы Отто Хута, то неизбежно возникнет вопрос: кто явил немецкому народу новогоднюю елку? Хут исходит из того, что триумфальное шествие новогодней елки по Германии произошло во времена немецкого романтизма, в частности, когда торжествовало литературное направление «буря и натиск». Как ни парадоксально, но именно это обстоятельство приводилось в качестве подтверждения сугубо германского происхождение новогодней ели. Немецкие романтики рассматривались как исключительно германское явление, «свет которого происходил из нашей крови». В итоге немецкий романтизм становился синонимом «перво-переживания». Предлагалась несложная дедуктивная конструкция:
Новогодняя елка = германское явление.
Романтика = германское явление.
Новогодняя елка в период романтики = возвращение германского «перво-переживания».
Глава 8. УКРАДЕННЫЙ СВЕТ РОЖДЕСТВА
В январе 1963 года вышел очередной номер журнала «Викинг-Руф» («Клич викинга»), который издавался бывшим командиром танковой дивизии СС «Викинг» Гербертом Отто Гилле. Это номер примечателен одним в высшей мере интересным материалом. В нем издатель рассказывало том, как был приглашен на праздник, который проходил в ночь с 15 на 16 декабря 1962 года в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер». Речь шла о праздновании Юля. В основном участниками празднества были бывшие служащие ваффен-СС и члены их семей. Всего же их набралось в зале этого «исторического» пивного заведения более 150 человек. Общее руководство мероприятием вел Феликс Мартин Штайнер, в свою бытность являвшийся обергруппенфюрером и генералом войск СС. По левую и правую руку от него сидели старшие офицеры СС, а также те служащие СС, которые смогли сделать себе карьеру уже в послевоенный период. За отдельными столами сидели женщины и дети. Все присутствовавшие на празднике были членами «Общества взаимопомощи служащих СС» (ХИАГ), некоторые из них занимали ключевые позиции в индустрии, бизнесе, но большая часть относилась к так называемому «среднему классу». Впрочем, всех этих людей объединяло еще одно обстоятельство – все они без исключения являлись готт-верующими (именно так назвались приверженцы эсэсовской эрзац-религии). При этом многие из них формально являлись прихожанами традиционных церквей, что указывало на своего рода мимикрию. В разговорах многие из участников празднества подчеркивали, что не намеревались настаивать на том, чтобы их дети принадлежали к традиционным общинам, а потому предоставляли им выбор. Надо отметить, что христианские служители весьма скептически относились к послевоенной деятельности готт-верующих. В частности, приглашенный на празднование протестантский священнослужитель, сославшись на «безотлагательные дела», отказался прибыть в «Бюргербройкеллер».
Когда в зал пивной вошел генерал Штайнер, то все (за некоторым исключением женщин и детей) встали как по команде. Подобная процедура была повторена, когда Штайнер покидал пивную. Собственно религиозная часть празднества началась с зажжения 12 свечей. Этот символический акт осуществлялся двумя бывшими офицерами СС, которые во время зажжения свечей произносили ритуальную стихотворную формулу: «Эта свеча зажигается для матерей, эта – для вдов нашего сообщества, эта – во имя наших жен, эта – во имя павших, эта – во имя тех, кто умер в бесчестье, окруженный ненавистью, эта – в честь пленников, эта – ради всех наших товарищей, которые раскиданы по Европе и миру, эта – во имя немецкого народа». После этого следовало хоровое исполнение песни «Торжественной ночи ясные звезды» (Hohe Nacht der klaren Sterne). Считается, что в этой песне были выражены идеи готт-верующих. Поскольку именно данная песня должна была свое время стать альтернативой классической рождественской песне «Тихая ночь, священная ночь», то ей стоит уделить особое внимание.
«Торжественной ночи ясные звезды» была сочинена в 1936 году референтом Имперского молодежного руководства Хансом Бауманом. Он уже был автором весьма популярной в среде штурмовиков песни «Дрожат дряблые кости старого мира» (1932 год). Всего же в годы национал-социалистической диктатуры Бауман сочинил около 150 песен и хоралов. Впервые текст этой песни был опубликован в сборнике «Мы зажигаем огонь». На музыку она была положена в 1941 году Паулем Винтером, став одной из самой популярных «зимних песен» Третьего рейха. Ее воспринимали едва ли не как «настоящую народную песню». В 1942 году журнал «Имперское радио» назвал ее «самой прекрасной рождественской песней нашего времени». Однако ее содержание было далеко от классического рождественского содержания. Некоторые из обозревателей отмечали, что своим успехом песня была обязана тому обстоятельству, что в ней были слиты «природная мистика, культ матери и идея перерождения». Не случайно многие воспринимали «Торжественную ночь» как песню если не как антихристианскую, то по меньшей мере как нехристианскую. С этим сложно поспорить, если посмотреть на полный текст песни:
Торжественной ночи ясные звезды
Проложены, как мосты,
Ведущие в глубокие дали,
От наших с тобой сердец.
Торжественной ночью большие огни
Зажигаются на всех горах.
Сегодня земля должна обновиться,
Подобная новорожденному ребенку.
Матери, вы – это огни,
Которые зажигают звезды:
Матери, глубоко в ваших сердцах
Бьется сердце далекого мира.
Как видим, в первой строфе дается картина природы, которая близка к т. н. «мистике природы», которую можно постигнуть только сердцем. Во второй строфе есть очевидное указание на зажжение огня в праздник солнцестояния, что было одним из национал-социалистических ритуалов. Обновление земли подобно новорожденному ребенку не стоит воспринимать как отсылку к Рождеству Христову, но как указание на идею круговорота в природе, цикличности жизни, что было одной из центральных идей сначала германо-верующих, а затем и готт-верующих. В третьей строфе откровенно читаются мотивы мифические мотивы германского национализма, тесно связанного с культом матери. Как видим, в отличие от христианских песен в «Торжественной ночи» обновление и рождение нового мира связано не с «ребенком», но с «матерью». Не исключено, что именно по этой причине эта песня некоторое время исполнялась в школах и дошкольных учреждениях ГДР.
Но вернемся обратно в 1962 год, в пивную «Бюргербройкеллер». После исполнения «Торжественной ночи» и собственно окончания религиозного ритуала некоторые из собравшихся стали объяснять суть происходившего. Тут имелись «разночтения». В любом случае было указано, что празднование Юля не имело никакого отношения к Рождеству Христову, так как речь шла о зимнем солнцестоянии, о преодолении тьмы суровой ночи, в которой зарождается свет нового дня.
Некоторая схожесть Рождества и Юля, хотя бы по датам этих праздников, породила множество ошибочных трактовок. В среде готт-верующих термин Weihnacht трактовался отнюдь не как Рождество, а в дословном переводе – «священная ночь». По этой причине одновременное использование слов «Юль» и «священная ночь» отнюдь не значило, что Юль был своеобразной германской копией Рождества. Празднование Юля было исключительной инициативой Генриха Гиммлера. Время празднования (декабрь) было тесно связано с названием и сутью праздника – Юль. Дело в том, что в предложенном германском календаре декабрь как раз обозначался как Юльмонд (луна Юля), то есть месяц, когда справляли праздник Юль. В это время Гиммлер многим преподносил специфический подарок – юльский светильник, который являлся одним из ритуальных предметов готт-верующих. Производством юльских светильников занималась фарфоровая фабрика в Аллахе, которая была одним из хозяйственных проектов СС.
Собственно юльский светильник не был 100 %-м новоделом, то есть искусственно изобретенной формой, как это предполагают некоторые из историков. Основой для светильника, который стал одним из предметов эсэсовского культа, послужил «башенный подсвечник», который был совершенно случайно найден в Швеции. Наверное, эта находка никого бы и не привлекла, если бы в 1888 году описание «башенного подсвечника» не появилось на страницах шведского журнала «Руна». Исследователей рунической письменности привлек символ, нанесенный на бок подсвечника. Он напоминал колесо с шестью спицами, или же вписанную в круг руну «хагал». Подсвечник датировали XVI веком, после чего про него забыли на долгие десятилетия.
Лишь в начале 30-х годов XX века «башенные подсвечники», которых за прошедшие десятилетия было найдено еще несколько штук, попали в после зрения Германа Вирта. Именно он впервые дал религиозную трактовку этим находкам. Он объяснял, что эти подсвечники по своей форме повторяли разрушенные некогда «башни народных Матушек». Якобы на этих башнях был нанесен символ круга с шестью спицами. Еще до разрушения в центре этих башен должен был находиться «священный светильник Вечного Света». Речь шла о свете Божества, идеограммой которого был символ «шестилучевого колеса». В этой связи он цитировал отрывок из «Хроник Ура Линды» – «Книгу последователей Аделы», в которой приводились три шестилучевых колеса, на которых значились подписи: «Вральда», «Исток» и «Начало». Они назывались «знаками Юля». «Это – древнейший символ Вральды, а также символ Истока и Начала, из которого взошло Время: это – Кродер, который вместе с Юлом должен вечно вращаться». В итоге был предложен вариант юльского светильника, который должен был стать символом вечного круговорота, происходящего в мире. Образцы первых юльских светильников были изготовлены Германом Виртом для его выставки «Немецкое наследие предков». Позже он предложил их рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Появление первых юльских светильников внутри СС было датировано 1935 годом, то есть сразу после того, как было основано общество «Наследие предков». Первые юльские светильники были разосланы некоторым из офицеров СС в декабре 1935 года. К ним прилагалась открытка, подписанная Гиммлером. В ней говорилось: «Я жалую вам этот светильник. Он воссоздан по древним образам, пришедшим из ранней истории нашего народа». Когда упоминались германские образцы, то подразумевалась вовсе не шведская находка, а светильники из Восточной Фрисландии и образцы из музея Мюнстера.
Если говорить о прилагаемых к юльским светильникам поздравлениях, то они каждый раз были разными. Можно даже проследить изменение их текста, происходившее на протяжении 30—40-х годов. Полный текст упоминавшегося выше поздравления 1935 года выглядел следующим образом: «Я жалую вам этот светильник. Он воссоздан по древним образам, пришедшим из ранней истории нашего народа. Его огонь должен освещать вам наступающий год в ночь с 31 на 1 января. Свет, идущий изнутри светильника, является символом уходящего года, который провожаем в последний час. Но внешний большой свет светильника вспыхнет в то мгновение, когда начнет свою жизнь новый год. В этом древнем обычае кроется глубочайшая мудрость. Пусть каждый служащий СС очистится огнем старого года, чтобы он смог войти с чистым сердцем в новый год, узрев силу его света. Желаю счастья Вам и Вашей семье. Отныне и вовеки. Хайль Гитлер. Генрих Гиммлер». Со временем почти все служащие СС были снабжены юльскими светильниками, а потому дарить их еще не раз не было смысла. В данной ситуации Гиммлер стал дарить специальные юльские свечи. Этот подарок также сопровождался поздравительной открыткой.
– декабрь 1937 года: «Я направляю Вам юльскую свечу, которая осветит наступающий 1938 год. Пусть этот год будет благословенным и счастливым для фюрера, немецкого народа и немецких семей. Я желаю всем нам, чтобы мы были всегда честными и верными долгу СС».
– декабрь 1938 года: «Я направляю Вам юльскую свечу, которая осветит наступающий 1939 год. От всего сердца желаю Вам, Вашим семьям и детям всего наилучшего. Мы все желаем фюреру и сотворенному им великому германскому Отечеству счастья и благословенных дел. В новом году мы хотим быть храбрыми и верными фюреру СС».
– декабрь 1940 года: «Как и ранее, каждый год, я с пожеланиями счастья и благополучия направляю Вам и Вашим семьям юльскую свечу. 1940 год был годом борьбы и славных побед, годом трудных испытаний и великих успехов. Вероятно, в 1941 году нам предстоит предъявить к себе еще большую требовательность. Мы все – мужчины и женщины, юноши и девушки – должны приложить усилия во исполнение требований времени. Пусть в этом году нас ведут: воля к победе, думы о рейхе и вера в фюрера!»
– декабрь 1941 года: «Желая всего самого лучшего в 1942 году, я направляю вам юльскую свечу. Пусть новый год будет для вас счастливым и благословенным. Уходящий 1941 год предъявил к СС и всему немецкому народу большие и более жесткие требования, нежели это было в другие военные годы. 1942 год потребует от нас всю ту же верность, все то же мужество, все то же чистосердечное повиновение. Для СС, сражающихся на фронте, и их семей, оставшихся дома, является священным долгом каждый день и каждый час нового года хранить радость в сердце, что позволит продемонстрировать величие нашего рейха и нашего фюрера Адольфа Гитлера!»
– декабрь 1942 года: «Желая всего самого лучшего в 1943 году, я направляю вам юльскую свечу. Пусть новый год будет для вас счастливым и благословенным. Минувший год уготовил множество испытаний для всего немецкого народа, немецких солдат, и особенно сражающихся на фронте СС. Только благодаря руководству Адольфа Гитлера мы смогли справиться с этими испытаниями. 1943 год потребует от нас еще больше твердости. Мы должны вступить с высоко поднятой головой в 1943 год, будучи верными, повинующимися, смелыми, непреклонными, не падающими духом, хранящими в своем сердца радость. Так мы сможем служить Адольфу Гитлеру и его делу».
– декабрь 1943 года: «Желая всего самого лучшего в 1944 году, я направляю вам юльскую свечу. Пусть новый год будет для вас счастливым и благословенным. За прошедшие двенадцать месяцев немецкий народ, фронт и Родина вновь подверглись тяжким испытаниям. И вновь мы выдержали невзгоды, посланные нам судьбой. 1944 год будет таким же трудным, а может быть, даже более страшным. Мы должны помнить слова Фридриха Великого: „Мы будет сражаться до тех пор, пока не принудим проклятого врага заключить с нами мир!“ Мы, служащие СС и их семьи, хотим быть истинными носителями веры и мужественности, предвестниками победы и величия, людьми, до конца помогающими фюреру Адольфу Гитлеру в исполнении его предназначения».
– декабрь 1944 года: «Желая всего самого лучшего в 1945 году, я направляю вам юльскую свечу. Пусть новый год будет для вас счастливым и благословенным. В 1944 году немецкому народу вновь пришлось столкнуться с тяжелейшими испытаниями, и вновь фронт и тыл справились с ними. Пожалуй, 1945 год станет решающим годом войны. Он пройдет под лозунгом: „Наша победа была обретена благодаря матерям и героям“. Мы храним неколебимую верность посланному нам Богом фюреру Адольфу Гитлеру. Мы приветствуем его и возносим слова глубочайшей благодарности».
Если посмотреть на структуру и содержание этих посланий, то бросается в глаза их откровенная религиозность. С одной стороны, Гиммлер постоянно прибегал к религиозным терминам и оборотам: отныне и вовеки, благословение, вера. В конце концов он даже упомянул Бога. С другой стороны – поздравления Гиммлера вырабатывались по четкой формуле, каковой обладают, например, пастырские послания. Собственно в том, что поздравления, приуроченные к Юлю, носили религиозный характер, не было ничего странного. Выпуск юльского светильника и начат был именно как культовой утвари. Об этом свидетельствует тот факт, что облик светильника был зарегистрирован в Имперском патентном бюро. В патенте говорилось следующее: «Описываемый образец именуется юльским светильником, который предполагается использовать для празднеств и торжеств, в первую очередь при встрече Нового года. Светильник обладает полой формой, что позволяет размещать внутри его источник света, например, свечу. В верхней части светильника имеется углубление для другого источника света, например, свечи. По своей форме светильник напоминает пирамидку или усеченный конус. В стенках светильника сделаны отверстия, из которых складываются узоры. На прилагаемых чертежах показана форма светильника. На рисунке № 1 изображен продольный разрез, на рисунке № 2 показан общий вид. Светильник обладает конусообразной формой. У основания светильника есть ножки. Светильник является полым. В стенках проделаны отверстия различной формы (b и с). Отверстие b сделано в форме сердца, отверстие обладает формой колеса с шестью спицами. Форма отверстий может варьироваться. В верхней части светильника имеется углубление (d), предназначенное для установки свечи. Еще одна небольшая свеча (f) может быть размещена внутри светильника. Во время торжеств, связанных с наступлением нового года, используются две свечи. Находящаяся внутри светильника свеча угасает, что символизирует собой уходящий год. В момент наступления Нового года зажигается большая свеча, которая устанавливается в верхнее углубление. Подразумевается, что светильник может использоваться для других ритуалов и с иными целями. Вместо свеч могут быть использованы другие источники света, например, промасленные фитили. Светильник делается из обожженной глины, но может изготовляться и из других материалов».
Как уже говорилось выше, первые юльские светильники были изготовлены в 1935 году. Как и стоило предполагать, они должны были использоваться в качестве новогодних подарков, которые от лица Гиммлера вручались эсэсовским офицерам. Кроме собственного светильника и поздравительного письма к подарку прилагалась некая пояснительная инструкция, благодаря которой можно было понять, как и когда надлежало использовать светильник. Год спустя, во время выступления перед офицерами концентрационного лагеря Дахау, Гиммлер произнес сакраментальную фразу: «А еще мне хотелось бы сказать пару слов о юльском светильнике. Я хотел, чтобы он имелся в семье каждого женатого эсэсовца. Тогда их жены смогут отбросить церковные предрассудки, приобретут то, что завладеет их сердцем и разумом».
Несколько недель спустя изображение юльского светильника появилось на обложке декабрьского выпуска журнала «Германия», который к тому времени издавался исследовательским обществом «Наследие предков». Одновременно с этим редактор журнала «Германия» Йозеф Плассман, который одновременно являлся начальником отдела культуры и фольклора «Аненербе», получил задание обосновать не только использование юльского светильника, но и само празднование Юля, которое должно было заметить собой празднование Рождества. К декабрю 1936 года Плассманом был подготовлен доклад «Юльская ночь – священная ночь». Поскольку он является важнейшим документом, то позволим себе привести текст этого документа целиком.
«Нордическо-германская вера Бога живет на протяжении тысячелетий в символах и тех, кто создает эти символы. Символы – это не просто украшение, они больше, чем просо эмблемы.
Символы – это отражение внутреннего переживания, которое было воплощено в форме. Они способны таинственным образом беседовать с теми, кто обладает той же кровью и духом, что и люди, создавшие эти символы некогда в древнее время, будучи движимыми переживанием явленного им мира. Именно поэтому символы до сих пор могут беседовать с нами, поэтому они будят в нас те древние переживания, которые являются вечными и неповторимыми. Эти переживания не поддаются анализу с точки зрения психологии или эволюции, так как они происходят из той части души, в которой человеческая природа соприкасается с Божественным началом.
Самым древним переживанием является рождение света. То, что кажется нам преходящим, казалось древним германцам отражением вневременного Отца всего сущего, давшего начало нашей жизни и бытия. Поэтому смерть и жизнь являются отражением вечности бытия. Однако есть священные дни и священные ночи, в которые нам могут быть явлены отблески этого вечного бытия, именно тогда жизнь и смерть соприкасаются друг с другом. В глубокой древности нордический человек, живший на краю Арктики, ежегодно вновь и вновь был охвачен этим волнением. Когда солнце, давно погрузившееся за горизонт, в первый раз показывалось из-за гор и над кромкой ледяного моря, тогда нордического человека охватывала неслыханная радость. Тогда он устраивал праздник, посвященный возрождению света. Несколько иначе это трактовалось немецкими крестьянами, жившими в горах и долинах. Появление света предвещало им начало новой жизни, нового возрастания. Они чувствовали себя внутренне связанными с рождением новой жизни. Божественная искра разгоралась в душе объятого радостью жизни человека и двигала его к свободному труду.