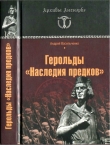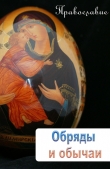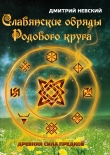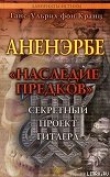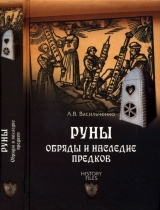
Текст книги "Руны. Обряды и наследие предков"
Автор книги: Андрей Васильченко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Глава 8. ЧЕРЕПИЦА КАК НОСИТЕЛЬ СИМВОЛА
В декабрьском выпуске журнала «Германия» за 1940 год были опубликованы фотографии двух черепиц из Рейнгау. Обе они обнаруживали на себе изображения, которые можно было описать как «древо жизни в горшке». Автор заметки и фотографий P.A. Цихнер сделал предположение, что в образах, «пожалуй, могла быть бессознательно использована древняя форма древа жизни», «которая использовалась нашим предками в качестве символа». Поскольку подобные находки могут делаться в краеведческих музеях, в памятниках местной литературы, то мы должны исследовать – сознательно ли черепица использовалась в качестве носителя символа или же это было сделано в силу декоративных предпочтений. Надо отметить, что украшение кирпичей и черепицы – весьма распространенный прием искусства. Но нельзя игнорировать тот факт, что среди декоративных мотивов встречается использование знаков, которые преимущественно являются священными (деревья и солнце) или же охранными (завязанные узлы и т. д.). Это позволяет прийти к выводу, что в свое время у изготовителей было вполне определенное намерение. В первую очередь это касалось черепицы, на шторой знаки были совершенно не видны, то есть сокрыты от посторонних глаз. Подобные образцы черепицы были обнаружены многие десятилетия спустя после ее производства, обычно во время ремонта крыш. В данных случаях можно напрочь исключить декоративные намерения. Изготовление подобного рода кирпичей и черепицы было продиктовано совершенно иными причинами. Нередко в отношении подобных изделий употребляется поговорка «кирпич конца рабочего дня» – выражение, происхождение которого не совсем понятно современному человеку. В музее Мерзебурга имеется свидетельства, что кровельщики наносили знаки на черепицу, поскольку радовались окончанию работы. Подобная версия едва ли может быть приемлемой. Начнем с того, что знаки на черепицу наносились еще до обжига, когда глина была мягкой. Дополнительные изыскания и вовсе ставят крест на этой версии. Макс Вальтер в статье «Искусство кровельщиков» («Южнонемецкий этнографический журнал». № 1.1927) изучил вопросы, связанные с декорированием черепицы. Он совершенно верно отметил: «Черепица с подобными надписями определенно кладется в качестве средства охраны дома. Подобная версия подтверждается тем, что схожие солярные знаки в иных ситуациях выполняли ту же самую символьную функцию». Очевидно, что крыша дома всегда играла особую роль. В «Кратком словаре немецких суеверий» (Т. 2. С. 115) указано: «Почти у всех народов крыша, с одной стороны, является самым уязвимым местом дома, которое может быть подвергнуто атаке демонических сил, с другой стороны – в народных верованиях играет большую роль как один из самых гарантированных видов защиты человека». Хотя бы по этой причине огромное количество обрядов и обычаев связано с крышей дома. В связи с кровлей применяются многие символы, которые могут встречаться в виде фронтонных знаков или в виде фронтонных коньков-треугольников. Остается только ответить на вопрос: что предания могут поведать нам об изготовлении черепицы особого вида? В упоминавшейся выше работе Вальтер пишет: «Народное искусство проявляется всегда там, где есть целевая установка украсить предмет, где надо, работать с радостным лицом. Искусство черепичника, как истинное народное искусство, заключается в том, что он не собирается делать ничего „прекрасного“, кроме черепицы. Он полностью исключает изменение формы в пользу искусства, его цель неприкосновенна. Таким образом, его искусство остается линейным и орнаментальным… Если форма черепицы остается самоочевидной, то остается сосредоточиться на рисунке. Все формы и мотивы народного искусства могут проявиться на кровельной черепице. Геометрические – линия, круг, волнистая линия, спираль. Объекты из окружающего мира – цветы, кусты, птицы, солнце и звезды. То, что делает черепичник, он хочет делать „прекрасным“».
В приведенном выше отрывке статьи отчетливо показано, что особое значение придается не «искусству» или «мастерству» черепичника, а традиционное использование давних мотивов, которые способны преобразить черепицу. Автор статьи также заявляет: «Из забавы несколько старых черепичников наносили на свои объекты узоры и надписи… всегда имелись в наличии крестьяне, которые заказывали и покупали красивую черепицу». Автор выходит на более глубокую тему, нежели могло показаться вначале. Крестьяне, заказывавшие «красивую черепицу», могли требовать нанесения на нее знаков благословения, которые должны были находиться на крыше. Подобные знаки уже появлялись на воротах, на стенах, на предметах быта – они значили очень многое для наших предков. Как и в прочих сферах использования символов, мы вновь видим отчетливое желание заказчика отмечать черепицу таким знаками, которые использовались его предками. «Красивые предметы» могли производить не только черепичники, но и гончары – у меня было несколько поводов, чтобы лично убедиться в этом. Владелец старой гончарной мастерской в Лаутербахе (Гессен) рассказывал мне, что его отец изготовлял для местных крестьян специальную черепицу, изготовляя ее по специальным формам, на которых преимущественно были изображены деревья. Для меня было предельно ясным значение этого символа. Символы могли помещаться даже в местах, которые были недоступны взору, – но в любом случае они должны были обеспечивать земельный участок заказавшего его крестьянина. В некоторых случаях подобный подход был изрядно акцентированным. Примером этого может быть найденная в Виллингене старая черепица, на которой был запечатлен «страж» (теперь она находится в городском собрании предметов искусства). Эта черепица относилась к началу XVI века. Приблизительно в то же самое время «страж» был изображен на козырьке дверей ратуши в городе Штад.
Едва ли можно установить, когда была изготовлена первая «красивая черепица». Мне удалось найти образцы, украшенные рисунками, которые относились к 1603 году. Именно в это время стали чаще строиться дома с черепичными крышами. «Красивая черепица» производилась вплоть до конца XIX века и была распространена в тех областях, где оставались живущими домовые обычаи (это можно наблюдать и в наши дни). Уже в XV веке производилась плоская черепица, на которую наносились специальные надписи. В собрании монастыря Хирсау есть черепица 1477 года с надписью «Ille quida (m) – gaudens tulit quasum (casum) – Tu qui legis impone (s) nasum». Надпись на второй черепице 1471 года гласит: «Ille lavit laterem, qui vult custodire mulierem». Варварская латынь в данном случае сочеталась с грубоватыми словечками. Может возникнуть впечатление, будто бы кирпичи по обыкновения снабжали изречениями, которые могли восприниматься как трансформация народных обычаев. В монастыре Кронах (Франкония) имеется несколько голландских черепиц, на которых имеется отпечаток: «IHS – черепичник Геогр». В данном случае, наверное, на место символа была осознанно поставлена церковная монограмма.
Особый интерес для нас представляют черепицы, на которых сохранились отпечатки детских рук или ног (их могли делать как сами дети, так и взрослые). Таковые обнаруживаются едва ли не по всей территории рейха. С большой долей вероятности можно предположить, что через приложение ступни или ладони осуществлялась некая передача силы, что присутствует во множестве обрядов. Также можно допустить, что это было замещение строительной жертвы, которая приносилась во время закладки здания. Хотя однозначной трактовки пока еще не имеется. Вероятно, имеются и другие формы схожих обрядов, которые тем не менее до сих пор не зафиксированы в «Словаре немецких суеверий». В средневековых строениях были обнаружены камни (не глиняная черепица, а именно камни), на которых также имеются отпечатки ног или рук. Более того, в некоторых случаях встречаются следы звериных лап – собак или кошек. Столь частое употребление подобных объектов свидетельствует о том, что звери или дети буквально пробегали по необожженным кирпичам или черепице. Однако является в высшей мере странным то обстоятельство, что все эти следы находятся ровно посередине черепицы и никогда не сдвигаются в какую-либо из сторон. Наверное, нанесению отпечатков предшествовал некий обряд. В некоторых областях нашей Родины (наиболее часто в Нижней Саксонии и северных предгорьях Гарца) черепица и кирпичи выступают в качестве носителей символов. Символьные знаки могли как выцарапываться в глине, так и отпечатываться специальным штампом. Можно выявить родственные обычаи, имеющие древние корни. Самыми старыми из известных мне подобных черепиц являются изделия XIV века из солевого склада в Любеке. Есть также находки, в которых символы наносились с обратной стороны. Например, они процарапывались на той стороне кирпича, которая клалась в строительный раствор. То есть символ был потаенным знаком, который должен был быть скрыт в стене от глаз посторонних людей. В этой связи невольно вспоминается «рунический кирпич», который был найден во время демонтажа каменной стены в монастыре Ленин. Надпись рунами была сделана около 1200 года. В надписи отсутствуют любые гласные звуки. Это позволяет предположить, что надпись была сделана в соответствии с требованиями символьного обычая. До сих пор остается непонятным, была ли эта надпись сделана на немецком, на датском или на латинском языке. Однако форма рун весьма напоминает датский строй. Вероятно, этот случайным образом обнаруженный объект является древнейшим документом, свидетельствующим о благословляющем, защищающем или же передающем силу обряде. Черепица с символами, распространенная во многих местах Германии, является своеобразной «наследницей» этого объекта. Указанный обычай стал забываться, когда повсеместное распространение получило жестяное кровельное покрытие.
Глава 9. ОЛЕНЬ
Распространение и значение символа
Искусствоведы придерживаются точки зрения, что олень являет собой образ христианского смирения. По этой причине часто цитируется псалом: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» Ромуальд Бауэррайс в «Древе жизни» («Arbor Vitae». 1938) трактует символ оленя более уместным образом. Он отталкивается от изображения оленя на купели в храме Фройденштадта (Шварцвальд). На купели были изображены лилия, змея и ветвистые рога оленя. Бауэррайс трактует лилию как «упрощенную форму» «древа жизни», указывая, что «олень» (христианская душа) был истерзан «змеей» (грехи). А потому «животное» искало лекарственную траву, которая представлена в виде лилии. В старых книгах есть сведения о том, что имеются специальные лекарственные травы, которые олени едят при ранении и болезнях. Ида Мюллер в статье «Олень с растением во рту» («Баварский хайматшутц». 1929) говорит о том, что это один из самых распространенных в народном искусстве мотивов. При этом не указывает, почему же все-таки символом стал именно олень. Однако есть ряд специализированных исследований специалистов по мифологии. В книге «Выстрел дикого охотника в солнечного оленя» (1869) А. Кун поднимает проблему сравнения оленя с солнцем. Автор приходит к этому выводу, опираясь на данные санскрита, в котором слова «рога» и «лучи» звучат фактически одинаково. По этой причине ветвистые рога оленя могли ассоциироваться с солнечной короной. Поэтому Кун считает оленя солнечным животным. Кроме этого он приводит отрывки из «Ригведы», в которых олень сравнивается именно со светилом.
Вернер Шульт, опираясь на самые различные словари, проверил звучание в разных языках слова «олень». Вне всякого сомнения, животное получило свое название именно из-за своих рогов. Оленьи рога были созвучны «кроне» и «роще», а потому можно выдвинуть тезис, что оленьи рога могли обладать таким же символьным значением, что и дерево в целом. Достаточно вспомнить относящееся к оленьим рогам французское выражение «le bois du cerf» (дерево оленя), или бытующую в английском языке фразу «head beams» (торец балки). Я полагаю, что такое благородное животное, как олень, заслуживает особого внимания. Тот факт, что олень каждую весну сбрасывает свои рога (крону), на месте которых начинают расти новые рога, не мог быть незамечен близкими к природе людьми. Это было чудом, вызывавшим ассоциации с деревом, которое в круговороте времен года сбрасывало свою листву, а затем снова покрывалось листьями. Таким образом, олень стал разновидностью мифического круговорота, вечного умирания и вечного воскрешения природы.
Вышеупомянутая работа Куна была детальным исследованием всех аспектов и деталей мифа об охоте на солнечного оленя. В сказаниях об этой охоте, которые в равной степени связывают как с фигурой Дикого охотника, так и святого Хуберта, событие происходит преимущественно в праздники (файертаг – день огня) или воскресенье (зоннтаг – день солнца). Можно предположить, что выстрел был произведен в один из дней, который был важнее для движения солнца. Некоторые из саг предполагают, что выстрел в оленя был сделан в день летнего солнцестояния. В своем исследовании Кун показывает, как результат охоты или выстрел в оленя приводят к кажущемуся уничтожению солнечной силы. Это время зимнего солнцестояния. По этой причине в указанный период происходили трансформации (переодевания), когда люди могли ходить с оленьими рогами на голове, что упоминается в одном из ранних церковных запретов.
Кун приходит к выводу, что во время подобных трансформаций, которые преимущественно обозначались как «развратные», происходило совокупление самки и самца оленя. Характер этого празднества подчеркивался исполнением песен с подчеркнуто языческим характером. Кун сравнивает эти традиции с английскими обычаями, в которых Водан представал в виде всадника с луком и стрелами; все остальные участники действа облачались звериные шкуры и исполняли танцы.
Судя по всему, озвученные выводы совпадают с итогами исследования Зеппа «Язычество и его значение для христианства» (1853). Этот автор обращает внимание на шведские сообщения периода правления Олафа Великого. В этих документах люди сравнивались со стадами оленей, которых завлекали к столу специальными бокалами, оснащенными оленьими рогами. Люди пили из этих бокалов, танцевали и водили хоровод вокруг своего предводителя. Олаф Мангс описал эти бокалы в своем известном произведении «История полуночного народа» (1583).
Переодевания явно свидетельствуют о желании обрести новую жизнь, что особо ярко проявляется во время фастнахта (Масленицы). «Краткий словарь немецких суеверий» указывает на обычай, существовавший в деревне Росрюгги (Швейцария). Обычай состоял в том, чтобы во время праздника избирался олений король, которому на голову водружались рога. В окрестностях Верденфельса нечто подобное делалось, но только использовались специальные маски. Схожие обычаи имеются во всем индогерманском пространстве. Профессор Фуйя из Клаузенбурга (Трансильвания) на международном этнографическом конгрессе, проходившем в 1930 году в Бельгии, поведал о схожем обычае, сохранившем древние особенности до нашего времени.
Исследования Куна позволили нам установить, что у германцев и индоариев существует общий миф, в котором солнечное божество в виде оленя встречается с охотником (Диким охотником). Раненный во время летнего солнцестояния олень умирает к зимнему солнцестоянию. Однако сразу же после этого рождается новый солнечный олень, что говорит о вечности круговорота событий в природе. В Индии сюжет этого мифа заложен в зодиакальный круг, что можно наблюдать также в греческой мифологии. У германцев эти мифологические сюжеты сохранились в более ярко выраженной форме, на что в свое время указывали такие исследователи, как Отто Зигфрид Рейтар и Отто Хаузер. У всех этих народов общим является не только трактовка мифа, но понимание движения солнца во время годового цикла.
В сфере народных верований выстрел в солнце приобретает особые отличительные черты. Есть обычай, что «вольным стрелком» становятся только после того, как был произведен выстрел в солнце, в луну. При этом из солнца должны были упасть три капли крови, попасть на облатку, которая превращалась в Христа. Кроме этой группы сказаний есть другие, которые в центр сюжета ставят выстрел в оленя с распятием между рогами. Показательно, что олень с распятием, равно как и облатка, являются сугубо христианскими элементами, в то время как стрелок почерпнут из мифов, в которых он символизирует языческое божество. Солнце в качестве цели для выстрела явно выходит за границы христианских трактовок. Симрок в работе, посвященной проблеме мифологии, подтвердил, что олень ассоциируется с солнцем. Кроме этого олень был священным животным Фрейра, с другой стороны – своей сам Фрейр понимался как солнце. В индоарийских преданиях описывается процесс преследования божества, которое приняло звериный облик (добровольное обращение). Подобные сюжеты дополняют материалы сказаний, которые мы почерпнули из отечественных ландшафтов.
Зепп в «Религии древних немцев» (1890) пишет: «В Исландии рябина называется священным деревом. С ней связано сказание, что дерево возникло из крови юноши и девушки, брата и сестры. На Рождество дерево украшается огнями, а затем к нему приходит олень, являющийся символом годового цикла». В связи с этим сюжетом вспоминаются многочисленные отрывки из Эдды, в которых упоминается олень. Юст Бинг в своих исследованиях констатировал, что «колесо» и «олень» являются символьными синонимами, знаками, обладающими одним тем же значением при параллельном бытовании. В «Песне о Солнце» («Старшая Эд да») определенно говорится о «солнечном олене», а также неоднократно упоминаются его ветвистые рога, характеризуемые как «возвышающиеся до неба». Касаемо рогов этого солнечного оленя – «капля живительной влаги древа мира падает на землю и поит все реки». В «Речах Гримнира» также упоминается олень, о котором говорится, что он с трудом взбирается на верхушку мирового древа. На наскальном рисунке в Фоссуме олень изображен в сопровождении двух человеческих фигурок, которые, по мнению Бинга, символизируют собой отрывок из «Песни о Солнце», в котором говорится о двоих, державших солнечного оленя.
В своей работе «Культовые повозки Штреттвега и их виды» (1918) Бинг писал: «Я полагаю, что у нас найдено множество ритуальных принадлежностей в Халльштетте периода Лa-Тене, связанных со священным оленем. Это тот же самый олень, что запечатлен на наскальных рисунках Фоссума и Лиллы Герум, что позволяет считать его солнечным оленем из „Песни о солнце“». Автор приводит ряд доисторических изображений оленя, который мы можем существенно расширить за счет материала, обнаруженного в наши дни. Область находок выходит за сугубо германские территории, она охватывает почти все индогерманское пространство. Образ оленя нельзя обнаружить ни в Древнем Египте, ни в Древнем Вавилоне. В Средиземноморье он стал встречаться только после того, как в этот регион стали проникать нордические племена. Об этом говорилось в статье Мука «Символика нордического годичного цикла в Трое», которая была опубликована в журнале «Германия» (№ 1–2. 1939). Однако не только изображения (обычно на сосудах) охоты на оленя или собственного самого оленя указывают на связь с германскими религиозными принципами. Фолькмар Келлерман в своей статье «Олень в германских народных верованиях доисторического времени» («Германия». 1938. № 1) подтверждает, что в отдельных случаях в захоронениях можно было обнаружить оленьи черепа или части оленьих рогов. Особо важными мне кажутся сведения, почерпнутые из материла А. Руста («Заметки о раскопках Аренсбургских ступеней». Вестник ранней германской истории. 1936. № 10–11). Он обнаружил на дне высохшего пруда столб длиной более двух метров. Столб был изготовлен из сосновой древесины, на его верхушку был надет звериный череп. Автор предположил, что столб в целом символизировал собой рог оленя, то есть было весенними символом, знаком восходящей жизни. Вместе с тем использование оленьих рогов в культовых обрядах известно со времен среднего каменного века. После того как христианство почерпнуло значение оленя из народных верований, происходит многократное использование символа оленя в церковных преданиях и житийной литературе. Радовиц в работе «Иконография святых» (1852) демонстрирует более-менее известных святых и мучеников, которые тем или иным образом связаны с оленем. В случаях со святыми Евстафием и Хубертом сюжеты с оленем были официально признаны церковью. Однако в ранних версиях житий этих святых ни слова не говорится о выстреле, этот мифологический элемент появляется значительно позже. В данном случае хотелось бы рекомендовать статью А. Беккера «Хуберт и олень» («Германия». № 5. 1936).
На отдельную группу индогерманских мифов и сказаний, в которых происходит превращение девочки в оленя, указывает и Карл фон Шписс. Причем преимущественно оленя либо сбросившего, либо сбрасывающего рога. Позволю предположить, что эта группа сказаний не связана непосредственным образом с символом солнечного оленя, который, как это было показано на вышеприведенном материале, является символьным порождением нордической культуры.