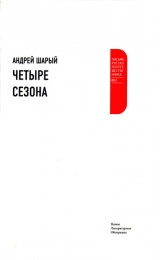
Текст книги "Четыре сезона"
Автор книги: Андрей Шарый
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
ЗИМА. ВОСТОК
Год от года привлекательнее становится Калининград. Нравится калининградским ребятам здание городского Дворца пионеров. Оригинален облик здания областного совета профсоюзов.
Из путеводителя по Калининграду, 1990
Город как вещь в себе
Как утверждают историки, день 12 февраля 1804 года в Кенигсберге выдался ясным. Блистало холодное балтийское солнце, только одно легкое облачко парило в вышине. Кто-то сказал: «Смотрите, это душа профессора летит к Богу». 12 февраля 1804 года в своем доме в квартале Грубе скончался основатель немецкой классической философии Иммануил Кант. Если верить тем же историкам, Кант умер счастливым; прежде чем испустить дух, он прошептал «Es ist Gut». В переводе на русский – только одно слово, «Хорошо».
Старого ученого похоронили в профессорском склепе кафедрального собора на острове Кнайпхоф, разделившем на два рукава илистую речку Преголь. Собор построили давно, еще в XIV веке, для вознесения хвалы Господу и упокоения знатных рабов Его, вроде герцога Альбрехта или великих магистров Тевтонского ордена. Профессура Альбертины, университета Кенигсберга, служила Знанию и после смерти: в просторном склепе не только погребали, но и торговали диссертациями и другими научными сочинениями. Позже на месте склепа соорудили вначале крытую галерею «Кантиана», затем – надгробную готическую часовню. В 1924 году у южной стены собора появилась строгая, без пышных украшений и убранства, колоннада, на ее внутренней площадке установлен серый гранитный саркофаг, под которым и покоится философ. А кафедральный собор, весной 1945 года разрушенный авиабомбами союзников, восстановить еще и не успели. Реставрация продвигается медленно, в основном на немецкие гуманитарные деньги.
Давным-давно не существует и квартала Грубе. Он стал районом советских многоэтажек, универсама «Московский» и редкого уродства здания Дома Советов, которое заложили в последнюю социалистическую пятилетку, да так и не достроили, хотя и переназвали в Бизнес-центр. Бизнес-центр, циклопический каменный скелет с ржавыми перекрытиями-ребрами и пустыми глазницами окон – выразительный памятник минувшей эпохи, как надо бы написать в новом путеводителе. Он явно не нравится калининградским ребятам.
«Кенигсберг» означает «королевская гора», а вовсе не «город Калинина». Всесоюзный староста даже помереть сумел своевременно: Президиум Верховного Совета уже принял Указ «Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР» на месте Восточной Пруссии, но подходящее название столице края еще не подобрали. Тут и подоспели похороны Михаила Ивановича. «Волею исторических судеб в 1946 году бывший Кенигсберг стал советским городом-садом, столицей Янтарного края», – сообщают учебники истории. Но учебники историю не обманут: Кенигсберг стал Калининградом не волею судеб, а волею людей. Эти люди, стирая с лица земли многовековое наследие европейской культуры, совершили над городом в том числе и топографическое насилие. На калининградской карте советское прошлое и теперь соседствует с военным, улица Чекистов – с Танковой, Октябрьская – с Пехотной, Пролетарская – с Артиллерийской. Социалистическая ирония сквозит в названиях Лесопильная, Ремесленная, Физкультурная, да и то, что придумано с изыском, – Юношеская, Ясная, Светлая, Счастливая, – вызовет скорее сострадание, коли пройтись по этим улицам, увы, не ведающим ни счастья, ни порою даже света. Немецкая культура всплывает кочками на болоте: есть в Калининграде улицы Вагнера, Генделя, Шиллера (Маркса и Тельмана – пропускаю), а Брамса, что превращается в Димитрова, прежде называлась товарища Жданова.
Улицы Канта в этом городе нет. Профессор прожил в родном Кенигсберге всю долгую, без малого восемьдесят лет, жизнь, за исключением десятилетия, проведенного в качестве учителя в состоятельных семьях, владевших пригородными поместьями. Философ, по свидетельству многих биографов, вел однообразное существование, оттого, может быть, что напряженной работе его мысли был необходим хотя бы какой-то контраст. Впрочем, по молодости, вспоминают современники, Иммануил Кант казался франтом и даже заслужил прозвище «изящный магистр», поскольку не отворачивался от моды и имел учтивые манеры. Жениться ему, по-видимому, помешала щепетильность: Кант не считал возможным соединить свою судьбу с женщинами того круга, в котором вращался, с дамой из высшего общества – в силу собственного неблагородного происхождения и скромного достатка. Отец ученого был простым шорником, к тому же последователем строгого пиетистского течения в лютеранстве, того вида религиозного благочестия, что призывает к непрестанному углублению веры, а не к пустым развлечениям. Тем не менее Кант не считал себя затворником, его часто видели в городском театре Аккермана. Захаживал профессор и на музыкальные вечера в особняк графини Кайзерлинг, но долго там не задерживался, предпочитая музыке беседы, предшествовавшие концертам. По силе, вызывающей душевное волнение, Кант ставил музыку на второе место после поэзии, хотя в целом его отношение к искусству было прагматичным: «Под некоторую музыку я люблю думать». В юности Кант даже писал романтические стихи, но серьезно к этим своим опытам не относился. Что ж, любовь – эмоция, противоположная чистому разуму.
Словечко «Кениг» нет-нет да и возвращается в Калининград, хотя по-прежнему даже фонетически два мира роднит совпадение звуков «к», «н» и «г», а разделяет – пропасть между цивилизациями. Частная транспортная компания называется «Кениг-турз», за оттопыренную пластиковую панель в кабине гостиничного лифта втиснута визитная карточка эскорт-службы «Кениг-престиж». Тут-то вариантов нет: в названии фирмы, где служат девочки по вызову, Калинина неупомянуть. Местный молодежный шик – прогулка «по Кенигу» с бутылкой «Кенигсберга» в руке. На волне перестройки Калининграду намеревались снова перепридумать имя: предлагали, скажем, Балтийск или Кантоград. Дальше намерений дело не двинулось, но памятник Канту в сквере у здания университета, преподавателем которого философ пробыл почти полвека, восстановили.
Но прошлое все равно не вернуть, разве что осколки его, да и нужно ли, возможно ли возвратить? Наверное, об этом думают, прогуливаясь по Серпуховской улице и вспоминая пролегавшую некогда здесь Философенздамм; стоя на углу набережной Карбышева и Октябрьской улицы и представляя на этом месте рынок Оксенмарт, немощные немецкие старички. Их и их предков давным-давно депортировала армия победителей, Сталин сполна рассчитался с немцами за Великую Отечественную. Победители словно знали: появится в будущем такой источник пополнения бюджета Калининграда, «ностальгический туризм». Считается, что по характеру калининградцы похожи на американцев: та же психология переселенцев, то же смешение крови и традиций, та же теория «плавильного котла». Прежде у города был другой норов, наверное, отличный от нынешнего так же, как характер М. И. Калинина отличается от характера германских курфюрстов и магистров Тевтонского ордена.
При социализме в прусском котле выплавилось что-то не то. Войны ведутся, чтобы захватывать чужое; штурм Калининграда весной 45-го года оплачен кровью полутора тысяч советских гвардейцев. Восточная Пруссия была плацдармом гитлеровского похода на восток, и не зря Кенигсберг, где веками строили фортификационные сооружения, считался лучшей крепостью Европы. Стыдно не за то, что когда-то завоевали. Стыдно за то, во что чужое, ставшее своим, превратили. Наказывали врагов, словно действуя с категорическим императивом разрушения; закопав в землю, разворовав, запустив, развалив то оставшееся немецкое, что не стерла в порошок авиация.
Привнесенное свое сплошь оказалось уродливым, как недостроенный Дворец Советов, как скульптура «Новая эпоха» в местном Музее янтаря, тоже неуютном, поскольку организована экспозиция в казематах старого форта «Дер Дона», того, что штурмом брали в победоносном апреле советские солдаты. «Новая эпоха» – янтарный земной шар в янтарных руках янтарного рабочего; к янтарному постаменту прислонен янтарный молот. А новая эпоха старого Кенигсберга – в названии Калининград.
…Почти всю жизнь философ Кант испытывал материальные затруднения. Научные трактаты принесли ему славу, но не богатство. Канту приходилось читать лекции по многим дисциплинам – философии, логике, антропологии, географии, механике, метафизике, математике, минералогии и даже фортификации. Он не без труда получил звание приват-доцента, внештатного преподавателя, лекции которого оплачивали студенты, за 62 талера в год подрабатывал в университетской библиотеке. Продвижение по служебной лестнице оказалось медленнее полета научной мысли, хотя в конце концов Кант стал профессором, а потом и ректором Альбертины. Собственный дом он смог купить только к 60-летию. В том же 1784 году Кант получил от студентов и коллег памятную медаль, на аверсе которой был выбит портрет философа, а на реверсе красовалось изображение Пизанской башни с сидящим у ее подножия сфинксом. Надпись на медали гласила: «Истину укрепляет исследование ее основ». Юбиляра, как утверждают современники, подарок земляков не растрогал, может, потому, что признание несомненных заслуг показалось ему запоздалым. Ведь Канта давно и настойчиво приглашали на профессорские должности почтенные немецкие университеты, Эрлангенский, Йенский, ему предлагали выгодные условия, но ученый отказывался, ссылаясь на привязанность к родному городу.
В 1789 году Канта посетил Николай Карамзин. Вот воспоминания русского писателя: «Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: „Я – русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту“. Он тотчас попросил меня сесть, говоря: „Я писал такое, что не может понравиться всем: не многие любят метафизические тонкости“».
«Не всем» нравилась убежденность Канта в том, что жизнью движут не политика и деньги, а законы нравственности и морали. Ученый не стеснял себя в суждениях, открыто критикуя вполне конкретных и очень влиятельных лиц. Он, например, предостерегал прусского короля Фридриха от намерения открыть боевые действия против России (Фридрих в итоге войну проиграл); опубликованная философом в конце жизни книга «Религия в пределах только разума», размышления о сущности влечения к Богу, вызвала столь сильное недовольство двора, что Кант до конца жизни оставался в опале. Его максимы и сейчас звучат вполне злободневно: если рассчитывать только на чудо, если ждать помощи от внешних сил, от Господа лишь путем почитания его, по принципу «я – Тебе свечку, Ты – мне благо», лучше не станешь и счастья не добьешься.
…«Типичные для Западной Европы мотивы сменяются видами, обычными для современных советских городов», – пишут в путеводителе. И впрямь: памятник Фридриху Шиллеру, наверняка единственный в России, на проспекте Мира стоит напротив поросячьего цвета здания областного драмтеатра. Драмтеатр, как и весь проспект, в превращенном в руины городе поднимали немецкие пленные. И теперь в этих типовых, с некрашеными коммунальными проплешинами домах на улице Кутузова не угадаешь очертания вилл квартала Амалиенау, а в разделенных пустырями серых коробках вдоль берега ледяного Верхнего пруда – жилой комплекс Марауненхоф, проектировщик которого, инженер Хартман, слыл одним из самых продвинутых архитекторов Европы. Вот кирха памяти королевы Луизы, ее в 1901 году освятила кайзерская чета – тут теперь кукольный театр. В кирхе Святого Семейства – концертный зал филармонии, а Юрипенская кирха, старейшая в крае, стала православным Святоникольским собором. Все изменилось к русскому. И продолжает меняться: за мощной спиной монумента Ленину (он как-то раз проехал через Кенигсберг) построится еще один огромный Божий храм. А вот примета постсоветской жизни – рекламная вывеска «Аварийное вскрытие» с указанием адреса и телефонов. Речь, не подумайте страшного, идет об автомашинах.
…Иммануил Кант написал несметное количество научных трактатов, и занудными кажутся только те из них, что когда-то приходилось конспектировать согласно требованиям институтской программы. Достаточно сейчас полистать «Грезы духовидца», «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного», «Основы метафизики нравственности», и становится ясно: и те, кто когда-то замышлял из Кенигсберга порыв на восток, и те, кто этот порыв прервал, вряд ли когда-то давали себе труд читать Канта. Даже в вульгарном изложении его принципы, подернутые пеленой времени, выглядят чистой воды схоластикой. Главный философский закон, который доказывал Кант, – правило автономности морали, не зависящей от внешних обстоятельств. Иными словами, человек и размышлять даже не должен о том, позволяют ли ему обстоятельства быть порядочным, он просто обязан следовать нравственному закону. Цель жизни происходит из морали, а не наоборот. Суть этой теории Кант сформулировал в знаменитой чеканной фразе, которую вот уже полтораста лет копируют в свои дневники романтические особы: «Две вещи наполняют душу всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне…»
Интересно, что к этой мысли философ пришел примерно в те годы, когда Кенигсберг впервые в своей истории стал русским городом. В ходе Семилетней войны Восточную Пруссию оккупировали войска императрицы Елизаветы Петровны, и Кант вместе с другими преподавателями университета даже присягал ей на верность. Номинальную преданность философа и других жителей Кенигсберга императрице гарантировали, помимо прочих, генерал-губернатор города Александр Суворов и солдат его гарнизона Емельян Пугачев. Среди слушателей лекций Канта тогда появились русские офицеры. Жизнь ученого от всего этого мало изменилась, как не менялась она под воздействием других формальных обстоятельств: прихотей капризных правителей, злословия бездарных коллег или восторгов почитателей.
Не знаю, всегда ли Иммануил Кант на деле следовал своему нравственному принципу. Но, согласитесь, достаточно было просто сформулировать такой закон, чтобы получить право в любой солнечный день умереть счастливым.
ЗИМА. ЮГ
Вставало теплое солнце. Туманная завеса редела. Налево проступили такие же, как туман, легкие очертания Стамбула – минареты, висящий в воздухе купол Айя-Софии, парная ей мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя, квадратные башни древней Византии. У мокрых перил разговаривали:
– Ах, какая красота, Ваня, да посмотри же!
– Совсем как на папиросной коробке, даже узнать можно.
– Вот тебе и Царьград. Здравствуйте. Прибыли.
Алексей Толстой, «Похождения Невзорова, или Ибикус»
Последняя любовь Константинополя
Здравствуйте. Прибыли. Стамбул и впрямь словно туман, город-лакомство для импрессионистов, открытка из отпускного альбома: мягкий свет, полутона, дымка над водой, приглушенные звуки. Зимой здесь почти нет ярких красок, даже знаменитые стамбульские базары – всего лишь двуцветные, золотые и серебряные, золотые от туристской мишуры и серебряные от мерцания сувенирных кинжалов, кувшинных боков и исчеканенных мушиными арабесками мельхиоровых подносов. Россказни о кричащей пышности – вздор, ведь Турция, наверное, не зря подарила миру так много символов безупречного вкуса. Вишни, тюльпаны, инжир, абрикосы, миндаль; образцы утонченной, хрупкой красоты, знаки непорочности природы – все отсюда. Союз спокойных и свободных тонов, букет запахов, вкусов, оттенков: тускло-красное свечение тюльпана; благородная горечь миндаля; темное бордо кислой вишни; кремовая приторность мякоти абрикоса; лиловый отблеск лопнувшего от спелости плода инжира.
Варварская страна; жестокие янычары; сатрап, отправляющий на страшную казнь толпы пленников; султан, умертвляющий по восшествии на престол своих братьев, – если это и было, то было в забытом прошлом. Вспомним о другом: одна великая цивилизация в буквальном смысле слова стоит в Турции на руинах другой. Хеттов сменили персы, на развалинах империи Александра Македонского обосновались римляне и парфяне, Византию сокрушили турки-сельджуки и основанная Османом на шесть с лишним веков султанская династия. Православный собор Святой Софии, превращенный в мечеть, – самый наглядный, но далеко не единственный пример малоазийского многообразия миров. Местный политический идол Мустафа Кемаль Ататюрк заложил на обломках рухнувшей под собственной тяжестью исламской деспотии светское государство, столь же европейское, сколь азиатское, открытое всем ветрам, доступное всем влияниям – не в силу внутренней слабости, а потому, что пласт многовековой, разноцветной турецкой культуры теперь невероятно прочен и, кажется, способен вынести любые потрясения. Назым Хикмет сравнивал малоазийский полуостров с головой кобылицы, галопом летящей в волны Средиземного моря. Сонное имперское величие ушло навсегда, и сейчас Стамбул – «всего лишь» Стамбул, вещь в себе, капризный и переменчивый город в тумане, парадигма непостоянства. «…Огромный город, выстроенный на трех морях и четырех ветрах, на двух континентах и над зеленым стеклом Босфора», – писал Милорад Павич.
Стамбул-Константинополь не случайно двадцать веков играл ключевую роль в определении мировых судеб, даже в периоды упадка этот город оставался великолепным, роскошным, манящим. Его жителям все еще по душе определения превосходной степени, связанные с блеском, светом, цветом: несравненный, сияющий, блистательный. Империю Османов называли Сиятельной Портой, а стамбульские мечети в стародавние времена нарекали цветными именами – Голубая, Зеленая, Радужная.
Силуэты Стамбула заданы мечетями с их высокими минаретами. Минареты вызывающе изящны и способны побудить к рискованным сравнениям. Милитарист сочтет их похожими на готовые к пуску ракеты (один турецкий политик назвал минареты «штыками ислама»), последователь Фрейда отыщет в их очертаниях фаллическую символику, а для романтического наблюдателя минарет – стебель ириса или пшеничный колос. Темной зимней ночью в плохо освещенных центральных кварталах Стамбула минареты, украшенные яркими лампами, напомнили мне свечи. Над гигантским городом нависла похожая на блюдо из базарной лавки луна – такая же, как и сто, как и пятьсот лет назад. Серые купола мечетей плыли в небе над застроенными вдоль и поперек холмами, над развалинами крепостных стен, над столпотворением великого азиатского города, прибившегося к европейскому берегу.
…Одним из немногих бессмысленных турецких султанов был сын Сулеймана Великолепного и восточнославянской рабыни Роксоланы Селим II. Он продержался у власти всего несколько лет, не оставив после себя ни возвышенных сказаний, ни героических поэм, ни благодарности в сердцах подданных, ни даже ужаса в душах покоренных народов. Летописцы дали Селиму прозвище «Пьяный» – он окружал себя художниками и учеными, любил шумные праздники и вино. Как-то раз после обильных возлияний султан поскользнулся, потерял равновесие и вскоре скончался от последствий падения на мраморный пол турецкой бани.
Несмотря на бесславную кончину, Селим сумел увековечить свое имя. Султан повелел построить мечеть, превосходящую размерами и роскошью саму Айя-Софию. Так в городе Эдирне и возникла Селимие, мечеть Селима. «Помощью Аллаха и милостью султана мне удалось возвести купол диаметром на четыре локтя, а высотой на шесть локтей больше», – написал, окончив в 1575 году строительство, архитектор Синан. Именно Синан, а не пьяный султан, достойно вошел в историю: не спесь тирана, а гений художника позволил исламу одержать великолепную победу над христианскими создателями храма Премудрости Божией. Главный православный собор славил Христа первые девять веков своей истории. Когда после падения Константинополя Византия склонилась перед знаменами Мехмеда II, победитель повелел оставить дом Божий домом Божиим, изгнав из святых стен чужого Бога. С той поры в Айя-Софии и славят Аллаха.
Купол святого храма – как купол небес, проливающих на землю божественный свет. Эту связь небесного и духовного исламские архитекторы уловили задолго до Синана. Плоскую кровлю древней мечети Улуджами в Бурсе, например, нарушают 19 опирающихся на колонны куполов. Один купол отсутствует: отверстие защищено стеклом, под которым бьет фонтан. Благодаря свету и тонкой игре со светом мечети кажутся еще более величественными и просторными, чем они есть на самом деле. Эту игру и довел в своих творениях до совершенства Синан. Он перенял у византийцев искусство создания свободного купольного пространства, добившись новых решений за счет перенесения наружу опорных столбов. Синан шел от общей формы к частной: невесомый купол становился не завершением, а началом, не крышкой над головой, а окном в небесный мир, задавал ритм пространства. В отличие от своего современника Микеланджело, Синан новых масштабов не искал, может быть, оттого, что владела им заветная мечта. И в конце концов турецкий зодчий все-таки вознесся к свету – выше Святой Софии, образца его подражания и объекта его духовного желания. На дворе стоял честолюбивый XVI век, век Тициана и Ивана Грозного, Коперника и Кортеса, Рабле и Нострадамуса, столетие Возрождения и Варфоломеевской ночи, время света и тьмы. По приказу султана Мимар Синан, православный грек, нареченный Иосифом, перестроил главный константинопольский храм, не тронув сам собор, но добавив к его архитектурному комплексу четыре высоких минарета. Перестройка пусть величественного, но чужого не приносила удовлетворения: Синан жаждал сам построить нечто еще более великолепное.
Путь к исполнению мечты занял почти всю жизнь, а прожил Мимар Синан без малого столетие. Он был сыном простого сельского каменщика из Каппадокии. Христианская кровь рано смешалась в нем с «турецкой верой»: юношу рекрутировали в янычары и обратили в мусульманство. Он обучился ремеслу плотника; участвовал в походах султанских армий на Вену, Багдад, Корфу, в Молдавию. В должности придворного архитектора Синан прослужил ровно пять десятилетий; под его руководством от Сараева до Дамаска построено более трехсот зданий – мечети и гробницы-тюрбе, школы и медресе, благотворительные кухни и богадельни, больницы и зернохранилища, акведуки и караван-сараи, дворцы и крытые источники, бани и фонтаны. Синан оставил память о себе и на территории бывшего Советского Союза: под его руководством возведены мост через реку Прут и красивая Джумаджами (Пятничная мечеть) в Евпатории.
Ступени ремесла Синан обозначил себе сам, уже стоя на вершине профессии: мечеть Селимие он назвал «мастерской», стамбульскую мечеть Шехзаде, построенную в честь рано умершего султанского сына Мехмеда, – «ученической работой», мечеть Сулеймана – «пробной работой». Сулейманджами зовут еще «мечетью света»: ее причудливо украшенный мрамором интерьер освещается с помощью почти полутора сотен окон. Как раз «пробная работа» Синана (а занимает мечеть Сулеймана целый квартал – помимо молельного зала с пристройками, это еще и благотворительная кухня, и библиотека), как считают специалисты, и есть настоящий образец таланта этого архитектора. Над характерным, словно двухъярусным, куполом блистает исламский полумесяц, а внутри, в древних стенах, на которых начертаны золотой краской аяты – священные стихи Корана, невнятно причитает паломник, отбивающий земные поклоны в сторону Мекки. Молельный зал Сулеймание, самый светлый и ясный в Стамбуле, отделан бледными мраморными плитами, и камень отполирован так тщательно, что, кажется, светится изнутри. Сюда могут вместиться до 10 тысяч человек одновременно. И до каждого доносится негромкий голос имама-хатиба, ученого богослова, наставника мусульманской общины. Синан распорядился вмуровать в стены и купол мечети полые резонирующие кувшины, так что молитва слышна повсюду: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха! Свидетельствую, что Мухаммед – посланник Аллаха!» Во времена Синана и султана Сулеймана под этим куполом потрескивали четыре тысячи свечей, но сама мечеть была такой же. Свободный союз выверенных размеров, сечений и пропорций, букет света и камня в замкнутом пространстве. Даже в неяркий день нетрудно заметить, как столпы света словно поддерживают легкий, невесомый почти, купол мечети. Выше этого купола – только небо. А там другое свечение, там сам Бог Вседержитель.
Многие стамбульские мечети Синана, и те, что я уже перечислил, и мечеть Рюстема-паши, и мечеть Михримах, прекрасно видны либо с переброшенного через залив Золотой Рог моста Галата, либо с высокого холма, на котором, в двух шагах от Айя-Софии, расположен сераль – роскошный султанский дворец Топкапы («Высокие ворота»). В дворцовой бане, где некогда убился злосчастный Пьяный Селим, устроена теперь сокровищница, там хранится один из крупнейших в мире алмазов, «Ложечник», весом 82 карата, еще один наглядный символ красоты света. Помимо чистой воды бриллиантов, дворец набит и другими реликвиями: тут и волосы из бороды пророка Мухаммеда, и гигантский, как след снежного человека, отпечаток его ступни, и фрагменты его святых писем. Просторный гарем по соседству, к постройке нескольких корпусов которого тоже приложил руку архитектор Мимар Синан, дает досужим посетителям другие поводы для развлечения: вокруг специальные комнаты для обрезаний да спальни белых евнухов. Рядом, в оружейной, выставлены острые мечи с невеликими рукоятями: у славных витязей были маленькие ручки, таившие в себе огромную силу, что позволяла разрубать вражеского всадника от маковки до чресел. Вот тут мощь и богатство завоевавших полмира Османов предстают во всем размахе величия; тут приходит на ум вопрос о том, чему служили талант и мастерство зодчего.
Именно Мимар Синан – Светлейший османской архитектуры, но, как ни странно, к числу его творений не принадлежат ни самая большая мечеть в Турции, ни самая главная мечеть Стамбула. Хотя и та и другая к славе и наследию Синана имеют прямое отношение. Гигантскую мечеть Коджатепе, подземные помещения которой вместили просторные чайные залы и большой универмаг, в турецкой столице Анкаре построили «в стиле Синана» в самом конце XX столетия. А мечеть Султан-Ахмед-джами, названную Голубой из-за расцветки бесчисленных мраморных и керамических изразцов, возвел всего-то через четверть века после смерти мастера, в строгом соответствии с его заветами, ученик Синана Мехмед-ага. Стамбул все еще воевал с духом Константинополя: султан Ахмед повелел построить грандиозный храм напротив Святой Софии, на месте бывшего дворца византийского императора. Голубая мечеть, в молитвенной нише которой хранится осколок священного черного камня Каабы из Мекки, не принесла счастья султану, имя которого ей суждено носить до сих пор: Ахмед умер в возрасте 27 лет от тифа. А возведенный учеником Синана великолепный храм стоит рядом с храмом, который Синан перестроил.
Виктор Гюго утверждал, что архитектура – это литература неписьменного века. Книга как средство передачи информации грядущим поколениям пришла на смену зодчеству только в эпоху всеобщей грамотности. Мысль француза Гюго развил сербский писатель Милорад Павич, которому тоже не по нраву линейность, однонаправленность книжного творчества. Архитектура многообразнее литературы, утверждает Павич, потому хотя бы, что памятник открыт со всех сторон, его можно изучать, по своему вкусу выбирая угол зрения. Если руководствоваться такой вот системой координат, то мечети Мимара Синана, построенные в ту пору, когда самостоятельное чтение Корана было под силу немногим, – точно не проза жизни. Это – стихи, это – поэма, это – светлый торжественный гимн.
Блаженство постигает посетителя не только в исламских храмах духа, хотя, строго говоря, мечеть вовсе не окружена привычным для христиан, когда речь идет о церквах, ореолом святости. По-арабски мечеть зовется «масджид», дословно – «место, где отдаются земные поклоны», это скорее общественное здание для коллективных молений. По схожему с мечетями принципу Синан строил и храмы тела – общественные бани. Одна из них, Чемберлиташ, считается той высокой ступенью зодчества, о которой Синан, создавая ведущую в небо лестницу своих достижений, предпочел умолчать. В отличие от мечети, в бане ты не стоишь на коленях, уткнувшись лбом в пол, а возлежишь на подогретом мраморном камне, счастливо уставившись в потолок. От турецкого неба отделяет лишь невесомый купол Синана – купол испещрен круглыми стеклянными отверстиями в шесть рядов, число стекол в каждом ряду кратно шести, как кратно шести все, что придумал архитектор в этом здании. В центре купола стеклянные звезды Синана сливаются в одно стеклянное солнышко, и, глядя на него, осознаешь, в чем заключается загадка мастерства зодчего. Тот свет, что наполняет построенные Синаном здания, не отгораживает человека от неба. Напротив – объединяет с ним.
По всему Стамбулу, по всей Османской империи раскидывал Синан светлые шатры своих мечетей. Он строил во имя Аллаха, во славу султана, но все-таки – и для обычных, покорных судьбе людей тоже. С минаретов Синана без малого пять столетий по пять раз в день, от зари до зари, взывает к свету взыскующий голос: «Во имя Бога, милостивого, милосердного, слава Богу, Господу миров, милостивому, милосердному, держащему в своем распоряжении день суда! Тебе поклоняемся и у Тебя просим помощи: веди нас путем прямым, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, которые под гневом, не тех, которые блуждают…»
Спешите на молитву, призывает голос. Ищите спасения!








