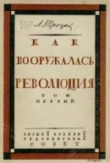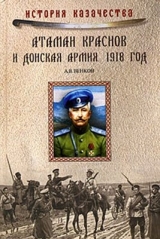
Текст книги "Атаман Краснов и Донская армия. 1918 год"
Автор книги: Андрей Венков
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Во внутренней политике Краснов опирался на привилегированное казачество. Будучи монархистом по убеждениям, он, придя к власти, очень круто взял «вправо». Приказом № 1 было объявлено, что Всевеликое Войско Донское «управляется на твердых основах Свода законов Российской империи»398 . Все законы Временного правительства и декреты СНК отменялись. Объяснялось это тем, что «все перемешалось в мозгах несчастных русских граждан, и многие не знали, что представляет из себя закон правительства Львова или Керенского и что декрет Ленина. Атаман счел необходимым вернуться к исходному положению – до революции» 399 . Однако этот приказ вызвал недовольство у большинства казаков400, и через неделю Краснов издал приказ № 12, в котором объяснялось, что, отменяя законы Временного правительства, донские власти «не думали посягать на свободу граждан»401. Пункт приказа, отменяющий законы Временного правительства, объявлялся временным: «Всевеликое Войско Донское, благодаря историческим событиям поставленное в условия суверенного государства, стоит на страже завоеванных революцией свобод. Все законы Временного правительства, укрепляющие Русскую государственность и способствующие укреплению и процветанию Донского края, лягут в основу жизни Всевеликого Войска Донского. В наикратчайший срок законы, охраняющие права населения и общественных организаций, будут проведены в жизнь»402.
В конечном итоге в специальной декларации 5 июня 1918 года «впредь до образования в той ил и иной форме единой России» Войско Донское объявлялось «самостоятельной демократической республикой»403 .
Первоначальные монархические жесты атамана и жестокий террор, присущий любой Гражданской войне (даже кадеты, «сочувствуя идее создания сильной власти на Дону, сожалели по поводу первых поспешных шагов»404) создавали впечатление крайней реакционности режима.
Краснов держал в черном теле все общественные организации. «Атаман одинаково разрешал собрания эсеров, кадетов и монархистов и одинаково их прикрывал, как только они выходили за рамки болтовни и пытались вмешиваться во внутренние дела Войска»403. Так, Краснов в 24 часа выставил за пределы области формируемый в Ростове «отряд монархистов», на-дожив резолюцию: «Это не отряд монархистов, а отряд жуликов и вымогателей, о чем Осведомительному отделу надо бы знать раньше меня. 12.УП.18. Генерал-майор Краснов»406. Не постеснялся он выслать из области и популярного политического деятеля Родзянко, который вздумал его поучать407. На предложение Родзянко встретиться Краснов ответил следующим образом: «Милостивый государь Михаил Владимирович! Я политикой не занимаюсь, её не знаю и, откровенно говоря, считаю, что “длительные” беседы до добра не доводят, тогда, когда надо работать. У меня теперь дела слишком много. Надо работать, почему очень прошу меня освободить от длительной беседы да еще на политическую, то есть совсем мне чуждую, незнакомую и непонятную тему.
Примите уверения в совершенном уважении и преданности. П. Краснов.
Новочеркасск. 21 июля 1918 г.»40*.
Осознавая претензии «степных генералов» – участников Степного похода – на руководство Войском, Краснов сразу же оттеснил произведенного в генерал-лейтенанты П.Х. Попова от командования, поручив ему «состоять в этом звании при мне на правах командира неотдельного корпуса для инспекции всех войсковых частей. Должность эту временно включить в штат Донского атамана»409 . Должность походного атамана вообще была упразднена. Походный атаман раньше выбирался казаками, когда Войско выступало в какой-либо (в том числе – грабительский) поход. Теперь война пришла на донскую землю... Через четыре дня Попов, его ближайший сподвижник генерал Э. Семилетов были уволены со службы «с мундиром и пенсией»410. Через две недели подал в отставку бывший начальник штаба Попова – В.И. Сидорин (дежурный генерал при атамане)411.
Приказом № 77 от 18 (31) мая партизанские отряды вообще распускались. Перечислив Чернецова, Власова, Семилетова, Тихона Краснянского, Бокова, Назарова, Мамонтова (вперемешку живых и мертвых) и заявив, что имена их станут достоянием истории, Краснов обратился с возвышенным напутствием к рядовым партизанам: «Теките же к своим домам, славные юноши-партизаны, теките к алтарю Отечества, в святое святых своей семьи, вы, прославленные, возвеличенные, превознесенные»412.

«Степняки» считали, что партизан незаслуженно «зажимают», и винили в этом генерала Денисова. Якобы в день избрания Краснова атаманом Денисов привел его в Мартыновскую сотню Семилетовского отряда в «неурочное» время, «когда партизаны занимались починкой своего обмундирования и уничтожением паразитов...», чтобы показать Краснову, что это – «сборище»413.
Партизанская эпопея временно прервалась. С начала похода партизаны потеряли убитыми 124 офицера и 528 рядовых, всего с нестроевыми и общественными деятелями – 656 человек414 .
Тех же, кто пытался сопротивляться или фрондировать, Краснов безжалостно изгонял из рядов армии, громко оповещая об этом. Так, 14 июля 1918 года известный партизан есаул Тацын, о котором участники Степного похода пели в своем «Журавле»: «горячий Тацын, злой и смелый, кричит, ругает без нужды», исключался «из состава Донской казачьей армии как подавший рапорт о нежелании служить в войске»415. А при первой возможности «фрондеры» высылались из пределов Войска.
Так, летом опальные «степные генералы» отправились на увеселительную прогулку по Дону на пароходе, входящем в состав Донской флотилии. 22 июля (4 августа) на яхту «Колхида» явились генерал Сидорин и полковник Гущин и от имени генералов Денисова и Семилетова потребовали от командира яхты лейтенанта Ильина везти их вверх по Дону «закупать виноградники», «а о настоящем деле лейт. Ильин, вероятно, догадывается».
На другой день в 3 часа дня на канонерской лодке «Цимла» Сидорин, Семилетов, Гущин и 7 обер-офицеров отплыли...
Через день-два вся эта «фронда» выступила на Круге 1-го Донского округа. Сидорин говорил о внешней политике Войска, Гущин – о внутренней, Семилетов – об оперативной обстановке. После этого Краснову была послана телеграмма о несогласии с правилами выборов на Большой Войсковой Круг416.
Затыкать «фрондерам» рот в Демократической республике «Всевеликое Войско Донское» Краснову было не с руки. Но 29 июля (11 августа) лейтенант Ильин рапортом доложил об увеселительной поездке донских «партизан»...

Краснов строжайше наказал всех должностных лиц (капитан парохода и пр.), которые способствовали этому увеселению. Гущина арестовал на 30 суток, а о поведении Сидорина и Семилетова, почетных членов Круга 1-го Донского округа, было сообщено названному Кругу417.
«Степняки» апеллировали к общественности посредством прессы, указывая на свои старые раны. Краснов опубликовал их письмо в донском официозе со своими комментариями, озаглавив всю публикацию – «Блудный плач», а «злого и смелого» Тацына, участника «прогулки», вообще вышиб из Войска в 24 часа, отдав приказ № 709, что есаул Тацын 15 июня подал рапорт об исключении из казачьего сословия, так как не может служить с «такими» казаками, и был исключен, а затем «позволил себе совместно с генералами Сидориным и Семилетовым и полковником Гущиным ездить по станицам, вновь заинтересовавшись казачьими настроениями»418.
«Степняки» огрызались как могли. Вот образец их переписки с войсковыми структурами: «Начальник партизанских отрядов дежурному генералу
генерал-майор Семилетов штаба Всевеликого
1 июля 1918 г. Войска Донского.
На запрос Ваш, к кому перешли дела бывшего моего отряда, доношу, что они в настоящее время ни к кому не переходили, в будущем, надеюсь, перейдут в историю...
Генерал-майор Семилетов»419.
Однако, будучи ставленником зажиточных низовцев, Краснов не во всем выражал интересы выдвинувших его казаков. С самого начала, подыгрывая настроению Круга, атаман заявил, что «путь спасения Дона лежит в окончательном его отделении от матушки-России»420 , но «с первых шагов деятельности генерала Краснова намечается расхождение его с Войсковым Кругом по основным политическим вопросам»421.
Целью Краснова было втянуть казачество в затяжную войну с Советской Россией и в конечном итоге повести его на Москву. «Атаман чувствовал; что у него нет силы заставить пойти, и потому делал все возможное, чтобы пошли сами»422 .
Полного доверия со стороны Круга к Краснову не было. «Умник – это верно, но... дюже доверять ему опасно. Но мы по банку вдарили, пошли на пан или пропал – дали всю власть.
Что выйдет – не знаем», – говорили сторонники атамана423. И тем не менее Краснов – сторонник сильной единоличной власти – «ухитрился превратиться в самодержца “демократического” казачества»424 . Пытаясь установить авторитарный режим, Краснов писал, что у него было четыре врага: «...наша донская и русская интеллигенция, ставящая интересы партии выше интересов России, мой самый страшный враг». Затем шли: генерал Деникин, иностранцы – немцы или союзники – и большевики, которых атаман якобы боялся меньше всего425.
Самыми энергичными мерами налаживалась экономическая жизнь области. От управляющих отделом финансов и торговли и промышленности Краснов потребовал создать «стройную систему налогового обложения», напечатать свои ассигнации и заменить ими марки Временного правительства. Предполагалось развитие свободной торговли, «добиваясь понижения цен конкуренцией, но ни нормировкой цен», было дано указание «призвать к жизни кооперативы и дать им возможность самого широкого развития»426 .
Краснов писал, что у императора Вильгельма «он просил машин, фабрик, чтобы опять-таки как можно скорее освободиться от опеки иностранцев»427. Предполагалось развивать «новые отрасли промышленности с наилучшим и современным техническим оборудованием», разрабатывались проекты Волго-Донского и Донецко-Днепровского каналов428 .
Земельный вопрос предполагалось если не разрешить, то сгладить. Своего рода источником земли стали наделы всех, кто ушел с красными. Было приказано засеять все пустующие участки, земли помещиков предполагалось засеять, используя пленных красногвардейцев, а урожай сдать в казну. Планировалось «выработать максимальную норму частного землевладения и правила отчуждения земли для выдачи безземельным»429.
Был снижен возрастной ценз для казаков при выборах войсковой власти, право голоса получили женщины-казачки.
За период красновского правления было открыто 8 гимназий и много начальных школ. Поезда по территории Войска Донского ходили строго по расписанию, и даже извозчики брали за проезд по дореволюционным расценкам. Тем не менее в бюджете «доходы покрывали 46 % расходов, а 57 % расходов шли на армию»430.
Опираясь на военизированное казачество, прекрасный администратор Краснов собрал значительные вооруженные силы. Преодолев местнические настроения повстанцев, к лету 1918 года Краснов, по мнению белогвардейцев, имел «около ЮОтысяч вполне удовлетворительной в общем и прекрасной по частям армии»411. Даже летом в условиях полевых работ, то распуская, то призывая казаков различных возрастных групп, он смог постоянно держать на фронте 50-тысячное войско412. «Для несения тыловой службы было привлечено все население, включая стариков, женщин и детей* на которых также лежали и все заботы по хозяйству»411.
Не случайно в начале июня 1918 года, делая заметки к плану доклада о борьбе с голодом, В.И. Ленин отметил две главные силы в стране, противостоящие большевикам: «чехословаки; Краснов»414.
Глава 10 «СОЮЗНИКИ»
А) НЕМЦЫ
Важнейшим фактором развития событий в регионе была немецкая агрессия. Все антибольшевистские силы Юга России в этот период в своей деятельности либо открыто опирались на Германию (так же, как и Германия опиралась на них), либо пытались прямо или косвенно использовать ее как третью силу в своей борьбе против большевиков.
Формально между советской Россией и Германией был мир, но отсутствие демаркационной линии на юге позволяло немцам двигаться дальше и дальше, все больше приближаясь к вожделенной бакинской нефти. Однако после занятия Ростова-на-Дону дальнейшее продвижение немецких войск прекратилось. Первая волна, когда восставшие казаки в горячке боев с Красной гвардией просили немцев на станичных сборах «освободить Донской край от большевиков» (так было в Донецком округе, когда гундоровские казаки отправились на поиски союзников-«гайдамаков», а встретили немцев и обратились к ним за помощью) 415 и требовали союза с гетманской Украиной, теперь

прошла. Отныне с приходом немцев и разгромом красногвардейцев многие казаки свою позицию высказывали недвусмысленно: «Если немцы к нам придут, мы все в Красную армию перейдем»436. Кроме того, на левом берегу разлившегося Дона немцев ждали отступившие отрады красногвардейцев и антигермански настроенная Добровольческая армия (впрочем, очень малочисленная).
Осознавая это, германское командование в сводке от 8 мая, сообщая о занятии Ростова, добавило: «Вскоре начнутся переговоры об определении демаркационной линии»437 . А командующий немецкими войсками в Донецком округе на запрос казаков о возможности немецкого продвижения в глубь области ответил, что «ему указана граница по реке Дону, и дальше он может двигаться лишь по приглашению»438 .
В составе первого «посольства», направленного к немцам новой донской властью (Временным донским правительством) с требованием неприкосновенности границ Дона, были люди, «которые больше всех кричали о ненависти к немцам и о вечной преданности союзникам»439.
Поскольку немецкое командование заявило, что одной из причин их продвижения является отсутствие четко обозначенной границы между недавно образовавшейся Украиной и Россией, Круг спасения Дона постановил 29 апреля (12 мая) направить на Украину посольство, которому «твердо отстаивать существующие ныне границы области, ее независимость и самобытность казачества»440.
Однако, когда страсти поутихли, «черкасня» трезво рассудила, что именно немцы могут стать той могучей, но временной силой, на которую можно опереться в борьбе с большевиками и которую можно использовать в противовес своей служилой проантантовски настроенной верхушке.
Избранный Атаманом Краснов в первом же своем приказе заявил: «Вчерашний внешний враг, австро-германцы, вошли в пределы Войска для борьбы в союзе с нами с бандами красногвардейцев и водворения на Дону полного порядка... Как ни тяжело для нашего казачьего сердца, а я требую, чтобы все воздержались от каких бы то ни было выходок по отношению к германским войскам и смотрели бы на них так же, как на свои части»441 . Позже приказом № 349 от 27 июля казакам было запрещено притеснять немцев-колонистов.
Делегации, посланные Красновым к германскому командованию, хотя и оговаривали неприкосновенность донских границ, основной целью имели заключение соглашения о военной и политической поддержке в обмен на поставки Доном продовольствия для Германии. На вопрос, долго ли немецкие войска пробудут на донской земле, Краснов удовлетворился туманным ответом, что немцы уйдут, «как только увидят, что на Дону восстановился полный порядок»442.
А.И. Деникин впоследствии признавал: «Сообразно с фактической силой, которою располагали немцы на Дону, и, без сомнения, большим отпором, встреченным со стороны донского правительства, немецкая оккупация проявилась в формах значительно более умеренных, нежели на Украине»443 .
Немецкие войска вышли на линию Юго-Восточной железной дороги, по Донцу они продвинулись до станицы Усть-Белокалитвенской, в низовьях Дона – до Ольгинской. Поданным Н.Е. Какурина, это был 1-й германский резервный корпус (в составе 16,45, 91,215 и 224-й ландверных дивизий и 2-й Баварской кавалерийской дивизии), кроме того в авангарде немецких войск шла «группа южных дивизий»: 10, 7, 212 и 214-й444. Непосредственно в Ростове, Таганроге и Донецком бассейне стали 3 пехотные дивизии и 1-й кавалерийская бригада445.91-я пехотная дивизия генерала Кладиуса базировалась в Каменской.
Оккупации и ограблению в основном подверглись Таганрогский и Донецкий округа, где подавляющую часть населения составляли крестьяне. Казачьи станицы пострадали в единичных случаях.
На фоне разгоревшейся беспощадной классовой войны немцы все же соблюдали «правила». Так, в бою под Зверево 22 апреля (5 мая) немцы взяли в плен до 5 тысяч красногвардейцев. Казаки станицы Владимирской просили, чтобы пленных расстреляли, но немцы не дали этого сделать и отправили пленных в Германию446.
Краснов развернул с немцами «взаимовыгодную торговлю», приравняв 1 марку к 75 донским копейкам. Немцы стали снабжать Краснова захваченным на Украине русским оружием. За одну русскую винтовку с 30 патронами казаки давали немцам пуд ржи или пшеницы447. Подобную цену трудно назвать высокой.

Фактически Краснов вступил с немцами в оперативно-стратегическое взаимодействие. Он стремился увлечь немцев дальше на восток. Чтоб они заняли Царицын или хотя бы потребовали от советской власти передать этот город и ряд других донским казакам.
Но в конце мая 1918 года обстановка на юге России стала меняться. 14 мая правительство Грузии приняло решение просить немецкого покровительства. И 25 мая немецкие войска высадились в Поти. Тогда же немцы «по просьбе б станиц» высадили десант на Таманском полуострове. И, наконец, в конце мая вРоссии началось восстание Чехословацкого корпуса. Чехи могли распространиться вниз по Волге и при помощи местных белогвардейцев образовать новый антигерманский фронт. Для немцев это было очень не во время, так как 27 мая германское командование начало наступление на Западном фронте на реке Энн, которое 5 июня стало захлебываться. Все это подталкивало германское командование к решению выйти к бакинской нефти без серьезных боев броском через Черное море, а донских казаков использовать как буферное государственное образование против чехов. Тем не менее была подготовлена операция по форсированию Дона и захвату Батайска. Удар наносился совместно немцами и казаками. Бои шли 30 мая и 2 июня (н.с.). Краснов привлек к совместной операции отряд Глазена-па* состоявший из донских казаков, но входивший в Добровольческую армию. Батайск был занят, но дальше немцы не пошли. «...Появление наше на территории, на которую Украина не имеет никаких претензий, обозначало бы нарушение нашего договора (с большевиками. – А.В.)», – объясняли они448.
Во второй половине июня германское командование, исчерпав поводы, оправдывающие продвижение на Кавказ по территории Дона и Кубани, и готовясь к генеральному наступлению на реке Марне во Франции, остановилось на варианте выхода к Баку через «союзную» Грузию и пошло на установление демаркационной линии между советскими и германо-украинскими войсками. 17 июня было заключено соглашение между представителями командования советских и германских войск о приостановке военных действий. 23 июня копия договора о демар-v кационной линии был а передана в войска449. Бои местного значения под Батайском шли до июля. i
События на Западном фронте вынуждали немцев действовать на востоке руками «русской контрреволюции»450 . Краснова они усиленно подталкивали к занятию Царицына, чтобы «замкнуть» регион с востока. А чтоб атаман сам не перешел на сторону чехов, его стали усердно снабжать оружием и деньгами.
На совещании германского руководства в Спа генерал Лю-дендорф отмечал, что на казаков «оказывать влияние можно только с помощью денег»451. Ранее истраченных на казаков 15 миллионов марок оказалось мало, и Людендорф просил ведомство иностранных дел выделить дополнительно сумму «молча и без особых указаний». На все возражения он повторял: «Без денег мы не сможем удержать казаков. В таком случае наше положение могло бы осложниться. Мы не сможем тогда больше рассчитывать на поставки зерна... Если мы не позаботимся о донских казаках, то они перейдут на сторону Антанты. Этому нужно помешать»452. Как видим, германскому командованию приходилось не только брать с Дона (продовольствие), но и давать Дону, оплачивать его лояльность.
Атаман Краснов, постоянно шантажирующий немцев своими контактами с «добровольцами», стремился урвать, где только возможно. Когда германское командование вело переговоры с советским руководством о демаркационной линии, Краснов склонял немцев, чтобы они потребовали провести эту линию по Волге, начиная от Камышина, по Азовскому и Черному морю, иначе он якобы не мог поставить немцам требуемое продовольствие, так как на Дону намечался неурожай и положение могла спасти лишь Задонская степь. На это германское командование ответило, что «при настоящем положении дел нет, однако, никакой надежды достигнуть такой сдачи территории, как только при помощи военных действий»453 .
В Спа было решено: «Стремление донских казаков к самостоятельности не следует поощрять. Верховное главнокомандование, однако, считает обязательной военной необходимостью привлечь на свою сторону донских казаков, снабдив их деньгами и оружием, чтоб удержать от объединения с чехословаками. Верховное главнокомандование окажет при этом тайную поддержку казакам, так что политическому руководству вовсе не следует об этом знать...»454.
Сами немцы Дон самостоятельным государством не признали, но повлияли на контролируемую ими Украину, которая была признана самостоятельным государством и Германией и Советской Россией, и Украина – «Украинская Держава» – 7 августа 1918 года признала, в свою очередь, Всевеликое Войско Донское.
Подобная система взаимоотношений устраивала до определенного времени и немцев, и подавляющее большинство восставших казаков. П.Н. Краснов писал, что по внешнеполитической ориентации «все хлеборобы и большинство интеллигенции было за немцев, кадеты и многочисленные политические беженцы – за союзников»455 .
Немцы прекрасно осознавали эту расстановку сил на Дону. Когда в августе собрался Большой Войсковой Круг и возникла еще одна кандидатура на пост Донского атамана (кадетская оппозиция выдвигала деникинского ставленника А.П. Богаевского), немцы остановили поставку снарядов на Дон, и новый претендент снял свою кандидатуру. Потом он, отчитываясь о работе своего ведомства (при Краснове он возглавлял правительство и отдел иностранных дел), в сердцах сказал: «Наша внешняя политика определяется тем, что мы прижаты к стене»456 .
Главным итогом доно-германских взаимоотношений стали: дипломатическая поддержка; помощь оружием и военной техникой; открытая военная поддержка на начальной стадии общения. Все это, однако, не стоит переоценивать. Сам Краснов важнейшим результатом считал то, что немцы, начиная с мая и до конца 1918 года, прикрывали Всевеликое Войско Донское с запада.
Вторым союзником донского руководства в рассматриваемый нами период времени была Добровольческая армия.
Как только началось восстание в Кривянской под Новочеркасском, подпольная организация Аксайской станицы командировала старшего урядника Зацепина на Кубань, на поиск Добровольческой армии. В Задонье к Зацепину присоединились казаки восставших станиц, которые тоже искали помощи в борьбе с большевиками. По дороге они встретили добровольческий разъезд полковника Борцевича, который проводил их в штаб Деникина457.

Донская «делегация» просила Деникина «помочь восставшим добровольцами и оружием». Деникинцы конечно же решили «помочь»458.
По воспоминаниям Романа Гуля, Добровольческая армия, отбитая от Екатеринодара и потерявшая генерала Корнилова, получила «приглашение» идти на Дон в Вербное воскресенье, когда была в станице Успенской. «В разговорах на паперти узнаем, что приехала с Дона делегация, зовут туда, что донские казаки восстали против большевиков и уже очистили часть области.
Все радостны. Неожиданный просвет! Едем на Дон, а там теперь сами казаки поднялись! Какая сила!». И «добровольцы» устремились на север, делая на подводах по 70—80 верст в сутки459.
Делегаций было несколько. Еще одну такую делегацию Гуль видел в Великий четверг на станции Лежанка. Это были три «запыленных донца-казака» станицы Егорлыкской. «В синих по-луподцевках, шаровары с красными лампасами, фуражки лихо сбиты набекрень, из-под них торчат громадные вихры волос», – так описал их Гуль.
«Все встали, чисто, как один, – говорит широкоплечий рослый казак. – Из половины области их уже выгнали, теперь вас только ждем, нас за вами депутатами послали».
Добровольческая армия вернулась из 1-го Кубанского похода на территорию Дона и вступила в станицу Мечетинскую в составе 3519 человек. 1500 раненых «добровольцев» были направлены в Новочеркасск. Непосредственно в строю без учета кубанских частей было 2000 «добровольцев»460 .
Общность интересов «добровольцев» и части восставших донцов сомнений не вызывала. Грядущее сотрудничество облегчалось и тем, что «преобладающий контингент Добровольческой армии» составляли казаки461, донцы и присоединившиеся кубанцы, но это были преимущественно централистски настроенные казаки.
27 апреля (10 мая) Временное донское правительство провело заседание с представителем Добровольческой армии генералом А.С. Лукомским и убедило последнего в доброжелательном отношении донцов к Добровольческой армии. Присутствие немцев на территории области, что особенно раздражало «добровольцев», было охарактеризовано как «прискорбный факт»462.
Ситуацию осложняли антиофицерские настроения большинства казаков и пренебрежительное отношение к донцам, демонстрируемое «добровольцами». Генерал Деникин считал, что походный атаман Попов – «человек вялый и нерешительный», главу правительства Г.П. Янова считал «правым демагогом», а само правительство – «многоголовым совдепом»463 .
Деникин послал на Круг Спасения Дона своего претендента в Донские Атаманы – генерала Африкана Богаевского, брата калединского сподвижника. Но АП. Богаевский опоздал к началу выборов464 и не смог составить Краснову конкуренцию. Тем не менее он стал при Краснове «премьер-министром» и одновременно управлял отделом иностранных дел.
Вступая на территорию Дона, «добровольцы» пытались играть на патриотических чувствах. В газетах было объявлено. Что Добровольческая армия «действует совершенно самостоятельно и не вступает в соглашения ни с украинской, ни с германской армиями»465 .
Что касается взаимоотношений с донцами, «добровольцы» хотели бы воссоздать подобие «Донского Гражданского совета» во главе с генералом Алексеевым. Но Временное донское правительство еще 26 апреля (9 мая) заявило, что все военные силы на территории области должны подчиняться походному атаману Попову466 . Избранный Донским Атаманом П.Н. Краснов тоже не помышлял подчиняться ни Деникину, сменившему Корнилова, ни Алексееву. Более того, он имел на Добровольческую армию свои виды и вел свою игру.
В борьбу за влияние на поредевшую после «Ледового похода» армию включились многочисленные политические группировки, возникшие на освобожденной от большевиков территории. «Все группы и организации вместо материальной помощи присылали нам горячие приветствия – и письменно, и через делегатов, – и все пытались руководить не только политическим направлением, но и стратегическими действиями армии», – сетовал Деникин467. В результате взаимные нелады начались у Деникина с Красновым и с крайними правыми кругами.
Добровольческая армия была буквально спасена на Дону. «...Без Дона и Краснова Добровольческая армия перестала бы существовать еще в 1918 году!» – считали современники468. «Неблагодарные» «добровольцы» тем не менее сразу же вклю-

чились в борьбу с Красновым за влияние на антибольшевистское движение на Юге. «Добровольцам» «претил новый Донской флаг. Немногие понимали значение его как переходного флага»449. Деникин «хотел, чтобы Войско Донское было Донской областью с некоторой автономией, он не соглашался признать Донской армии, но желал иметь Донские полки там, где они понадобятся; он решительно шел к тому старому режиму, о котором при обстоятельствах теперешнего момента атаман не мог и заикнуться», – считал Краснов470 .Что касается правых кругов, то слишком самостоятельная позиция командования Добровольческой армии была причиной их вражды, и «Совет монархического блока решил армии не трогать, но травить руководство»471 .
Трагическим курьезом было то, что армия, ставшая предметом борьбы и упований, постоянно была на грани финансового краха. Денежная наличность ее балансировала меж двухнедельной и месячной потребностью. «Денежная Москва не дала ни одной копейки. Союзники колебались... Все капиталисты, а так же и частные банки держались выжидательной политики»472. 4,5 миллиона, полученные от союзников, и такое же количество средств, полученное из донского казначейства, давали армии возможность существовать два месяца (при месячных расходах в 4 млн.), а дальше перед ней открывался путь взимания контрибуции и захвата трофеев.
«Вообще же в массе своей добровольчество и донское казачество жили мирно, не следуя примеру своих вождей», – признавал Деникин473. В начале июня 1918 года обосновался в Новочеркасске генерал Алексеев, там же находился военно-политический отдел армии. А Краснов демонстративно заявлял, что имя Корнилова «будет вечно жить в сердцах казаков как имя великого героя»474.
Сама Добровольческая армия переживала в это время внутренний кризис из-за вопросов об ориентациях и политических лозунгах. После трудностей Ледяного похода и создания «белой легенды» большинство «добровольцев» не считало нужным скрывать свои истинные политические убеждения. Выяснилось, что «громадное большинство командного состава и офицерства было монархистами»473 , и это сразу же поставило под сомнение присоединение к армии широких слоев населения в будущем.

Сам Деникин считал этот неприкрытый монархизм гибельным для армии.
Кризис усугубился тем, что срок контракта – четыре месяца – истек, и многие офицеры-добровольцы не считали теперь себя связанными службой. Отток из Добровольческой армии увеличился и из-за приказа Краснова, обращенного к офицерам и казакам прежних донских частей. 8 (21) мая многие донские казаки и офицеры перешли из Добровольческой армии в Донскую. Один из чернецовцев вспоминал, что в Мечетинской «многих из нас произвели в прапорщики и вскоре, как донцов, откомандировали в распоряжение штаба Донского Войска». Документы им подписали полковник Писарев и есаул Дьяков476. Партизанский полк, ранее состоявший из донцов, теперь в большинстве состоял из кубанцев477.
Кроме того, Краснов препятствовал количественному росту деникинцев и другим образом. Помимо «добровольцев» Деникина в Новочеркасске стояла пришедшая с Румынского фронта «1-я бригада Русских добровольцев» полковника Дроздовского: 667 офицеров, 370 солдат, 14 докторов и священников, 12 медсестер478 . Ближайшей целью отряда, – по словам Дроздовского, – было соединение с корниловской армией479. Однако Краснов хотел, чтобы Дроздовский, в противовес «добровольцам» Деникина, формировал на Дону самостоятельную армию и направлял к нему в бригаду бегущих на Дон неказачьих офицеров. В состав«1-йбри-гады Русских добровольцев» были включены одна пешая и одна конная казачьи сотни, а неказачий эскадрон дроздовской кавалерии участвовал в боях в Сальском округе вместе с казаками.