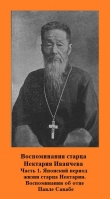Текст книги "Антихристово семя (СИ)"
Автор книги: Андрей Сенников
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Тучи над головами ожили, задвигались и, словно пропоров тяжёлые подбрюшья о колючие верхушки елей, принялись посыпать скит редким дождиком. Звонкие шлепки о воду, лопухи и сухое дерево наполнили звуками мертвящую тишину. Весло шагнул раз, другой, оступился, раскидывая руки и вдруг обрушился разом, столбом ушёл под воду с головой…
– Эй! – гаркнул Шило, отбрасывая фузею, стягивая патронную сумку. Лычко подбежал к самой воде. Он не стал лезть в озеро, а держал наготове ружьё, готовый протянуть побратиму, как только голова и руки покажутся из воды. Десятник скинул чекмень. Ряска, затянувшая было полынью на поверхности, вспучилась, разошлась грязными пузырями, и запрокинутая голова Весла с распяленным ртом показалась на поверхности. Крупные капли били казака по лбу, сбивая тину. Он отфыркивался, мотал головой и топтался – не то на месте, не то силясь выбраться к берегу из вязкого донного ила, – и тянулся к берегу, наваливаясь грудью, как бурлак, идущий бечевой…
– Братка! – кричал Лычко, протягивая над водой приклад фузеи, – Хватай!
Шило бросил топтаться и ступил в воду по колено с фузеей наперевес.
Весло показался над водой по пояс, левое плечо впереди, правая рука наотмашь за спину. Он тянул и надувал щеки. С плеч свисали нитяные водоросли, рубаха облепила грудь со вздувшимися мышцами. Левая рука показалась из воды, в руке – сабельные ножны. Не его.
Рычков ещё смаргивал это знание, как пороховую гарь посреди баталии, и видел уже другое странное, невозможное. Правой рукой казак тащил за собой, как кол бредня, фузею, на которой было намотано и тяжело уходило в воду серое тряпьё.
Казак выбрался на берег, отплёвываясь и оскальзываясь. Васька смотрел на берег, где лежала фузея самого Весла, патронная сумка и татарская сабля в избитых ножнах. Дождевые капли разбивались о справу в мелкие жалящие брызги. Палая хвоя темнела, напитываясь цветом запёкшейся крови.
– Такое тут, – буркнул Весло и бросил свою ношу в ноги сгрудившимся спутникам. – Ножны-то Ерохины, точно…
Кол бредня оказался ржавой фузеей, старой, с расщеплённым прикладом. Шило присел на корточки, запустил пальцы в мокрое тряпьё, развернул. Разорванный чекмень в ржавых потёках, порты и бабья рубаха с богатой, но потускневшей вышивкой по вороту и подолу, вся дырах и длинным до пупа разрывом. Десятник колупнул пальцем в стволе негодного оружия и потянулся к ножнам… Дождь похлопывал его по плечам…
– Дно там топкое, – сказал Весло, отирая лоб, – Склизкое. Мыслю я, Денис Васильевич, подобного добра там… до самого, этого…
Он махнул рукой.
– И ежели из этого котла берёт начало ручей, по которому мы сюда…
Он не закончил.
«…А по ревизским сказкам сего года работного люда на соляных варницах стало менее на пятую часть, чем в прошлом годе; служилого люда – на четверть; казачьего круга – вдвое; солдат гарнизонной роты – на одну шестую. Воевода отписывает, что де с конвоями пленных свеев, да по указу нового губернатора Сибири князя Гагарина, часть людишек отписана к Верхотурью, Тобольску, Тюмени да Томску. Но сколько? На бумаге одно, а на деле? И не потекли ли с теми конвоями да свеями в Сибирь дальнюю подмётные грамотки старца Нектария?..» – билось о висок Рычкова тяжким говором майора Ушакова, и затмевало взор.
– Что скажешь, господин асессор? – Шило поднялся в рост и повернулся к Ваське, склоняясь поближе.
– Хочешь спросить, а не думаю ли я, что когда наступает ночь, из этого пруда поднимаются утопленники с мавками и начинают водить хороводы по началом водяного?
Казак поморщился.
– Не то, опять не то ты говоришь, Василий Денисович! – он выцепил из кучи мокрого тряпья чекмень, ткнул пальцем ржавое. – Видишь! Али не узнал?!
Рычков пожал плечами. Что тут узнавать. Замытую кровь на ткани он видел много раз.
– У Ерохи Стручка чекменя не было, – сказал он.
– Зато ножны его.
– Верю, – вздохнул Рычков, окидывая взглядом озерцо. – А вот в утопцев, али ещё каких убиенных да в воду сброшенных – ни в одном разе. Тут не озеро бы было сейчас, и не ручей бы с него вытекал, а ключ с мёртвой водой. Стало быть, мы бы животами маялись поголовно с первого дня, хоть бы и не учуяли…
Дождь припустил, словно в небе опрокинули ушат. Потоки воды рухнули на головы, окружили стеной. Казаки и Рычков отступили в притвор, оставив вытащенное из воды на берегу, с крыши лило не переставая. Из дверей тянуло сыростью и тленом. Воздух потемнел, небо опустилось ниже, тучи почернели. Вода в озере кипела от частых и весомых ударов. Грязные ручьи затекали под кровлю…
– Заходим внутрь, – скомандовал Васька и осёкся, – Стой! Выливай воду из баклаг, набирай дождевую…
Обновили запасы. У каждого было по фляге, мерой в один штоф, и Ведро таскал с собою дополнительный – осьмериковый. Набрали быстро, вода лилась с крыши, как струи водопадов. Зачем – никто не спрашивал. Быстро осмотрели оружие. В походе пороха на полки не сыпали, стволы фузей и пистолетов заткнули пробками из просмолённой кожи. Ею же обернули замки, плотно обмотав бечевой. Оставалось только пребывать в надёже, что основные заряды в стволах не отсырели – ковырять сейчас раскисший порох, да вытаскивать пули было недосуг.
Дождь грохотал по крыше, обдавал брызгами, холодная церковь дышала смрадом через тёмный проём.
Переглянулись.
– Мыслю так, – сказал Рычков, по очереди глядя казакам прямо в очи, – Скит мы нашли, он давно заброшен и никого здесь нет: ни паломников, ни монасей, ни старца. Путь к нему теперь нами разведан и известен. Пропавшие наши товарищи – верно погибли от злой и неведомой силы, о которой мы почти ничего не знаем, кроме того, что она не людская и что прямое столкновение с ней сулит неизбежные полон, смерть и действует она в ночи. Разыскивать её – не имеем достаточных людей, должного припасу и провианту. Неведомо и то, сколько времени на розыск потребуется. Верно ли говорю?
Казаки переглянулись. Шило кивнул с мрачным видом. У этих бывалых людей немало было стычек за плечами и походов по Великой Перми и где-то ещё. Соображали оне споро.
– Теперь же надо решить, – продолжал асессор, – Оставаться и ждать стычки, чего бы она нам не стоила, либо донести воеводе разведанный путь, весть о ските и неведомой опасности, но без юродства и мракобесия. О том, что не человек злокозненный в здешних местах обитает с умыслом против государя Петра и власти его, но нечто, что никаким земным государям ещё неподвластно. И на том стоять. Хоть бы и на дыбе пришлось… Что скажете?! Все говорите, каждый что умыслит…
Весло и Лычко глянули на десятника. Ему по старшинству и отвечать в первую очередь. Шило помотал головой – после. Лычко кашлянул в кулак.
– До темна добежать до дощаника нынче не успеем, – сказал он. – Окажемся среди чащи, без обзора, без укреплённого лагеря, малым числом стоять против… против этого. У капрала восемь человек было – ну, семь, подъячий не в счёт, – шестерых потерял. Пока идём, пороха намокнут, патроны того и гляди раскиснут, останемся без огненного боя. Ежели уходить восвояси – то утром…
– Скит осмотреть надо со всем тщанием, – подал голос Весло, – Дом за домом, остов за остовом. Не так много тут всего, управимся. Может, и сыщется какое указание яснее, чем…
Он замолчал, вглядываясь в стену воды, скрывшей от них озеро.
– С церквы и начнём, пока ненастье, – заключил Шило. – В ней же и загородимся на ночь. По всему – самое крепкое строение в скиту, раз уж не сладили с ним эти свирепые корневища подземные. Загадывать наутро – не вижу проку. Как тебе, господин асессор?
Рычков покатал в уме рассуждения, и так и этак повертел: правы казаки, с места трогаться сейчас неразумно. Дождь хоть и унялся чуть, но надолго ли? И порывами пускался с прежней силою. Да и заноза незавершённого дела сидела под сердцем и саднила: у господина Ушакова дыбой не отделаешься, и поверит ли он в сию сказку в стылом ветряном Петербурге за тысячи вёрст от здешних лесов, коли сам Васька в неё до конца не уверовал тут, на месте, взирая на всё воочию.
– Пошли тогда, – он шагнул в разверстые двери, окутавшись сырым сумраком под барабанную дробь дождя.
Сделал несколько гулких шагов по скрипучему настилу, освобождая место и привыкая глазами к полумраку средней части церкви. Из двух узких окошек в северном и южном фасаде сочился размытый слабый свет. Ни Голгофы, ни канона ошую не оказалось, впереди на полу громоздилась смутная тень – опрокинутый и расколотый аналой. Подсвечников Рычков сходу не разглядел, в углах копошилась сырая темень. Четыре неошкуренных искривлённых бревна в два обхвата подпирали колоннами крышу. Изнанка её терялась в вышней темноте. Казацкие сапоги ступали за спиной мягко, почти беззвучно. Шум дождя перекрывал звуки шагов. Они вступали под своды по очереди, и густая тень заливала пространство храма, когда вои загораживали проход…
Алтарная часть была отгорожена от остальной церкви иконостасом. Солея с выпирающим амвоном, казалась всего лишь ступенькой, немногим выше дощатого пола основного храма. Тёмными провалами угадывались врата. Престол слабо освещён второй парой окон. На нём лежало что-то похожее на раскрытую книгу. Те же корни-щупальца, что и снаружи, местами взломали пол церкви. Они ветвились по стенам устремляясь под скаты клинчатой крыши, вились по стропилам и ныряли в колодец крещатой бочки. Там плескалась блестящая влагой чернота. В бороздах коры на колоннах наросли слабо светящиеся гнилостным светом грибы. Из углов храма ползли мхи.
Рычков двинулся вперёд к алтарю. Казаки разошлись цепью и следовали за ним.
У аналоя Васька задержался, склоняясь. Ни иконы, ни какой священной книги рядом не видно. Сырая пыль покрывала всё жирной слизью. Рычков поднял глаза. На иконостасе темнели оплывшие пятна иконных досок. Разведчики приблизились. Лики уже было не разобрать. Спаситель? Святые? Богоматерь? Краски потемнели, оплыли, покрылись заплесневелыми разводами.
– Святые угодники! – прошептал Лычко.
В храме казаки обнажили головы, заткнув тумаки за пояса. На узком клиросе, который был пристроен к солее только справа, прямо на полу Шило нашёл россыпь толстых свечей, изгрызенных мышами. Долго чиркал кресалом, распаляя трут. Наконец дрожащий огонёк затрещал на пересохшем фитиле, вытянулось длинное чадное пламя. Каждый зажёг по свече. Темнота отпрянула, но не слишком.
При свете, лики на иконах стали выглядеть ещё ужаснее, неразборчивее. И только гневный взгляд Спасителя тлел под наслоениями гнили в глубоких трещинах. Смотреть ему в очи было страшно. Рычков прошёл в алтарь через северные врата.
Щелястый пол был взломан местами, торчащие доски ощерились неровными, зазеленевшими краями. Жертвенный стол сломан и сдвинут горкой щепы в угол. Престол оплыл и потрескался глубокими бороздами и походил на обыкновенный пень. Страницы священного писания побежали плесенью, оклад позеленел. Развиднелось красным. Казаки боязливо зашли в алтарную часть. Пламя свечей дрожало, свечи оплыли и воск горючими каплями стекал на пальцы. Пол под ногами потрескивал и прогибался.
Между престолом и горнем местом в полу зиял длинный провал в локоть шириной.
Рычков осторожно приблизился, вытягивая руку со светочем. Провал притягивал взгляд с неимоверной силой.
– А это чего? – услышал он шёпот Весла и заметил краем глаза как казак потянулся к стене, – А как это?
Васька отмахнулся, заметив, что Шило к нему качнулся, поднимая свою свечу, а сам переступал меленькими шажками, пробуя доски тупым носком ботфорта, и клонился, и вытягивал шею, заглядывая в тёмное, глубокое…
– Сруб-то снаружи, как положено венцы лежат, а тут стоймя, – лезло в ухо назойливое удивление, но его заглушали отдалённый рокот орудийной и ружейной пальбы, топот кавалерии, безудержный рёв подступающей пехоты. Васька наклонился, держа свечу над самым провалом.
Трепещущий свет выхватил в глубине низенького подполья неподвижную фигурку, сморщенную, торфяную. В первую очередь он распознал руки, сложенные ладони с переплетёнными пальцами. Зеленовато-коричневые, невозможно длинные, с разбухшими суставами, сморщенной как кора кожей и синими ногтями. Мощи?!
В глотке сделалось сухо, язык распух и, казалось, не помещался во рту. Свеча в руке задрожала, огонёк затрепетал, щёлкал фитиль. Взгляд качнулся к другому краю пролома. Морщинистый лоб в обрамлении нитяных зелёных волос, лишайники и мхи наползли на виски как лавровый венок Никиты Зотова, государева воспитателя, изображающего Бахуса. Кустистые брови, глубоко запавшие глаза с морщинистыми веками. Нос, как горбатая щепка со сморчковой бородавкой у залипшей левой ноздри. Запавшие пергаментные щёки, заросшие нитяной бородой, длинной, на которой покоились сморщенные ладошки. Сквозь бороду пробились остренькие шляпки сизых поганок…
Рычков всё ж таки попытался сглотнуть.
Мощи открыли глаза.
***
В голове звон, словно в рукопашной прозевал оплеуху.
Тело одеревенело, словно избитое тугими волнами пороховой гари от близких разрывов гранат. Перед глазами муть, как запорошило их песком и комками земли, и жжением, и по этой причине не разбирает Рычков того, что видят они, в ошеломлённый разум не возьмёт.
Почему осел гузном, подогнув под себя ноги? Отчего выпустил из рук свечу, и она откатилась в сторону, подпрыгивая на неровном полу и мерцая огоньком, но не погасла, и теперь лишайники на досках скукоживаются в пламени горьким чадным дымком? Отчего шевелятся алтарные стены, выламывая из себя по брёвнышку так, что проломы выглядят как беззубые дёсны бабки Аксиньи? Отчего Шило отступает к царским вратам с саблей и пистолем в руке, а Весло и Лычко с перекошенными лицами, выпученными глазами и немо распахнутыми ртами, выставили перед собою фузеи?
«А я то? Я?!» – мутно вопрошает Васька и тянет из-за пояса рукоять пистолета, а то нащупывая эфес.
Он возится на колком полу, как перевёрнутый на спину жук. Мхи застревают в пальцах.
Шипит, вспыхивая, затравочный порох. Вспышки коротки, как молнии. Алтарь заволакивает грохотом и дымом; горловым криком и сумраком. Свечи гаснут. Чахлый свет из алтарных оконцев сползает по стенам и жмётся в углы.
– Бей! – захлёбывающийся крик вязнет в пороховой гари, глухих ударах, хрупком звоне переломанного клинка.
Рычкова стискивает в обхват, вздёргивает над полом. Васька силится вдохнуть, но его словно приложили спиной к бревну, заламывая руки, опутывая ослабевшие кисти грубыми путами. Горло обхватывает, офицерский бант давит на кадык, треуголка слетает с головы. Пряди, выбившиеся из косицы, свисают на щеку. В хребет и рёбра на спине немилосердно давят какие-то бугры. Асессор болтает ногами. Каблуки ботфорт едва цепляют пол. Рычков вскидывает колена к животу с намереньем резко бросить ноги вниз и, сгибаясь в поясе, перебросить через себя супостата на спине и… его обхватывает за щиколотки и резко тянет ноги назад-вниз с силой, которой он не может сопротивляться даже мгновение. Трещат суставы, вытягивает жилы, словно на дыбе.
Звон в ушах обрывается.
Дымная гарь уползает через алтарные врата в солею. Тусклый дневной свет смелеет, делается ярче, спрямляет лучи. Слышно, как стучит по тёсу дождь. В ноздри лезет запах плесени и трухлявого дерева.
Васька закашлялся, вздулись на висках жилы. Эфес уткнулся в рёбра.
Его вдруг понесло вбок, покачивая. Что-то дробно перестукивало внизу, он не обратил на это внимания. Против алтарных врат висели в воздухе казаки, опутанные волосатыми древесными корнями, с которых осыпались комочки земли и черви. Корявые ветки заломили им руки. Жёсткая кора давила на спины, затылки прижаты к расщепленным стволам, лбы перечёркнуты гибкими ветвями, под локти пропущены толстые суки. Столпы мелко переступали пучками корней по трухлявому полу алтаря. Казаки покачивались вместе с ними, словно стояли на настиле дощаника в сильную волну.
Шило дико вращал глазами, закусив грязный корень, рвущий ему рот. Сабля болталась на боку, рубаха разорвана. Весло зажмурился и шевелил губами, борода тряслась, но он не ронял ни звука. Лычко глядел куда-то вниз недвижным взглядом. Патронная сумка, прижатая к его боку, лопнула по шитью, чёрные зёрна пороха сыпались из раздавленной натруски, мешаясь с комками земли между шевелящихся корней внизу.
У престола, едва возвышаясь на ним, стоял торфяной старичок.
Роста в нём было аршина полтора. Платье из мшистых нитей, травы и лишайников волочилось по полу. Зелёный пух окружал морщинистую плешь, топорщась за вытянутыми ушками. Запавшие глаза лучились изумрудным светом с оранжевой искрой. Он жевал тонкими коричневыми губами, кончик носа-щепки дёргался, бородавка шевелилась. Коричневые пальцы подёргивались, сгибаясь в суставах, и походили на лапки мезгиря. Ногти щёлкали, ударяясь друг о друга, как высушенные кости.
– Эй, – прохрипел Рычков.
Горло сдавило. Васька задёргался.
Старичок коротко глянул на асессора и прошёлся вкруг престола. Посмотрел в угол, где ворохом хвороста валялся изломанный жертвенник. Потёр ладошками. Сухой шелест, с котором катит ветер жёлтые листья по голому подлеску, пронёсся по церкви. Храм покачнулся. Снаружи задвигалось, заходило. Что-то на мгновение перекрывало свет в алтарных окошках и отскакивало. Скрип, стон, шелест и треск давили на стены снаружи. Сруб похрустывал, углы ходили ходуном, словно его пытались скрутить, как бабы на реке отжимают пахучее, сдобренное мыльным корнем бельё. Из щелей между брёвен сыпался конопатный мох, щели обнажались, как старые раны, из темноты над головой сыпалась труха.
Васька дёрнулся, но, кажется, сросся с деревом, к которому был притянут. Он скосил взгляд вниз. Через грудь обернулся сырой корешок с нитяными волосками. Он смотрел на казаков, видом их поверяя свои ощущения. Лоб, шея схвачены корнями. Под локтями толстые сучки. Ноги опутаны ветками и корнями. И его столб позорный тако же топчется на месте, перебирая щупальцами корней. Нельзя посмотреть, но качало Рычкова из стороны в сторону, как на галере у Готланда.
В иссохших лапках старичка появилась деревянная ступка. Шевеля носом, он толок что-то чёрным пестом, растирал и шевелил губами. Борода дёргалась. Шляпки поганок отломились. Ножки влажными срезами блестели среди прядей. Красная многоножка юркнула в поросли, поднялась на поверхность и ушла в глубину.
Старик щёлкнул ногтями. В окна юркнули толстые, подвижные корни, распространяя в тесном алтарном закуте запахи земли и сырости. Они потянулись к старику, обвились вокруг крошечного тельца, как ластящиеся кошки. Тот ухватил один отросток, сдавил. Но бледном стебле набухли кровяные почки, разрастаясь мухоморными шляпками: красными, в белых лишайных пятнах. Вспучились, пошли трещинами, обнажая мясистое нутро. Старик повёл ступкой, подставляя в тот самый миг, как почки лопнули, просыпая белёсые семена: какие угодили в ступку, иные просыпались. Человечек отпустил обмякший корешок, ухватил другой. Ощерился. Зубы у него были крупные, лошадиные. С зелёным камнем у коричневых дёсен. Он поднёс извивающийся корень ко рту. Скусил. Волна дрожи прошла по отростку, с откуса брызнул чёрный сок. Старик подставил ступку, сцеживая густую жижу, сжимая и поглаживая обрубок, как коровий сосок.
Когда по-над краем заплескало, пролилось, старик бросил корень.
Отростки обмякли, втянулись в окна. Дед помешивал пестом, роняя густые капли на пол, и бросая колкие взгляды на пленников из-под кустистых, мшистых бровей. Приготовления к богомерзкому таинству заканчивались.
Васька угадал это в миг, как торопливо заходили у старичка руки, дёргано, суетливо; как приподнялись покатые плечи; как зашевелился пух вокруг плеши; как наново задёргался нос с бородавкой, словно клюв у падальщика. Столбы с опутанными казаками замерли, да и Рычков более не ощущал колыхания и качки. Мхи в углах засветились зеленовато-синими, гнилушкиными огнями, от пола до самой кровли…
Кровь застучала в виски сильно, с оттягом. Холодный пот потёк по спине. Ай да унтер! Вот Васька гвардеец, чёрт ловок! Исполнил наказ господина майора, Ушакова Андрея Ивановича! Понудил выказать себя того, кто «знать не знает никакого, анператора…», а заодно и «царя-батюшку, Петра Ляксеича». Только конец один – в пень головой!
Старик вдруг вытянулся, разросся в две сажени. Раздались плечи, протянулись руки, и ступка в огромных лешачьих ладонях сказалась не больше напёрстка. Он поворотился к Ваське спиной. Потянулся направо ступкой.
– Ыы-ы-ы-ы! – замычал Весло, завертел головой так сильно, что побежала кровь со лба, из-под гибких пут.
Шило задёргался, норовя качнуться к побратиму, на выручку. Вздулись на шее жилы, толщиной не менее пут, тяжёлой синий кровью налилось лицо. Всё тщета. Старик подносил ступку ко рту Весла. Тот отворачивал голову и косился круглым жеребячьим глазом. Пот и кровь стекала за ворот. Тесёмка нательного креста потемнела. Ступка коснулась сжатых губ казака. Он было дёрнулся, но движение это отразилось только в глазах. Зашевелилось у него за плечами, словно жирные черви поползли по щекам корешки, ощупывая искажённое мукой и животным ужасом, лицо. Обхватили нос, зажали. Посунулись в рот, растягивая мокрые губы в балаганную гримасу. Запутались в куделях мокрой бороды, дёрнули…
В распахнутый рот, меж зубов казака старик наклонил ступку, заливая Веслу дыхание.
Рычков видел, как замер острый, заросший волосом кадык, как Весло тужился выкашлять жижу, но не утерпел. Заглотил. Старик отнял чару, унялись корешки, отпустили. Казак плевался и отхаркивался. Слеза выкатилась на грязную щёку.
– Что, брате?! Что!? – кричал десятник, дёргаясь в тисках, не обращая внимания на подступающего к нему неприятеля, но вскорости принуждён был замолчать – корни облепили голову. Богомерзкое причастие продолжалось. Поднимались морщинистые руки, опрокидывалась посудина. Шевелились, отдельной жизнью живущие, травянистые пряди на затылке. Плевались и исходили на кашель казаки, но треклятый старик не отходил, пока не уверялся в том, что пойло его проникло внутрь.
Сморщенное лицо всплыло перед Васькой.
Лишайники наползали на виски и щёки, шевелились кустистые брови. Изумрудный свет лился из глаз с двойным зраком – искристыми, сияющими огнём, точками, – плывущим в зелени куда похочет.
Рычков ухмыльнулся. Закусил край трухлявой посудины и что было сил втянул в себя духмяную жидкость. Рот обожгло терпким холодом, в горле заскребло и провалилось в живот тёплым комком.
Старик съёжился до своих полутора аршин. Ступа в руках рассыпалась, стекла ручейками праха в щели половиц. Он уселся на престол, сдвинув книгу в позеленевшем окладе, и совсем по-стариковски уперев сморщенный кулачок в скулу, замер в согбенной неподвижности: усталой и всезнающей.
Гасли мхи в углах и теперь только тлели редкими огоньками. За стенами снаружи разошлось, расступилось и более не скрипело, не ухало и не рвалось. Даже дождь утих, и только липкие сумерки боязливо проползали внутрь через оконца.
В животе у Рычкова грело и толклось, ворочалось и затихало, чтобы шевельнуться вновь, разбежаться колкими огоньками по телу, обжечь и… угаснуть. Наконец, ломота в теле и всех членах совсем заглушила все прочие чувства, оставив только горькую, шершавую оскомину под языком. Казаки озадаченно смотрели на него, и косились друг на друга.
– Ну и что?! – гаркнул Рычков. – И долго нам тут болтаться, как говну в проруби?! А, старче? Ты кто таков сам?! Нектарий?! Вёрса?!
Он ожидал натяжения удавки, давления, что, наконец, путы растянут его как на дыбе, вывернут суставы, разорвут жилы и бросят изжёванной куклой в ноги зелёному старичку, к подножию престола. Он ожидал окрика, грозного взгляда, наказания и, может быть, смерти, но никак не того, что случилось…
В первую голову соскочил с престола старичок. Бойко, живенько, как не было сейчас перед ними воплощения старческой немощи.
А следом завыл Весло.
Завыл дико, как смертная тоска рвётся из волчьей петли вместе с пойманным хищником.
Казак выпучил глаза, со рта вместе с воплем летела коричневая слюна. Что-то кричал Шило, Лычко вытягивал шею, заглядывая, через десятника, и Рычков трезво отметил, что у Лычко, как и у него – ослабли путы, придерживающие голову. Он тут же позабыл об этом.
Вой вытянул из Весла фонтан горловой крови. Алая, пузырящаяся волна с плеском обрушилась вниз, обдав доски и малорослую фигурку чёрно-багровыми брызгами. Старичок приплясывал в омерзительном нетерпении и всплёскивал костлявыми ладошками.
Чекмень и рубаха на казаке вдруг вспучились невидимыми остриями. Кожа над открытой ключицей лопнула, разошлась, и наружу проклюнулся мокрый побег с кроваво-зелёными почками. Шевельнулся и потянулся, распрямляясь и с треском пуская побеги. С лопнувших почек сыпалась шелуха. Выскочил глаз и повис на нити, а из глазницы полезла веточка, утолщаясь и извиваясь новыми отпочкованиями. Весло уронил голову. Кожа высыхала, лопалась и деревенела извивами. С треском рвалось платье, в клочья разлетелась патронная сумка. Тело казака ощетинилось шевелящимися побегами и теряло человеческие очертания. Грохнули каблуками свалившиеся сапоги, размотались портянки, ноги слепились, белые ступни срослись и выбросили к полу истончающиеся корневища, которые осторожно ощупывали щели в половицах…
– Вöр-ва придоша… – приплясывал карлик в ногах умирающего казака. – Вöр-ва придоша…
Рычков сморгнул, не поверил ушам, а потом волна зловония ударила ему в ноздри, захлестнула с головой. Он не услышал, как закричал Лычко, задёргался, раздираемый изнутри корнями и ветками…
«Тебе, в душу твою вкладываю слово божеское…» – бился в голове юродивый речитатив Степашки, и слышалось, как осыпаются из изъязвленной спины белые черви. Как трещит одёжа Лычко, и грохочет об пол оружейная справа…
«…коли душа у тебя унавожена благочестием и ищет спасения, орошена слезами страдания и страждет жизни иной, слово божеское даст ростки истины, и окрепнут они и потянутся ввысь, преображая сердце твоё, и помыслы, и дела… Укрепят силу твою корни праведные, и никакие соблазны земные и козни диавольские не сподвигнут тебя с пути вознесения к богочеловечеству, устремлений праведных, и спасению от антихриста…»
Старик метался горбатой тенью между Веслом и Лычко, пришепётывая и приплясывая. Вот уж первого не узнать, не человеком стоит – уродливым сучковатым деревом на подгибающихся корнях покачивается. И уж не держит его никто, не опутывает. С треском и отлетающей щепой втискивается в алтарную стену, занимая своё место и прикидываясь обыкновенным бревном то, что его схватило полчаса тому.
А десятник мучался тяжко. Залитый кровью, беспрерывно ею харкающий, он бился в путах и не умирал. Побеги на нём вяло шевелились, бледнели и опадали, не наполняясь силой. Борода слиплась, Шило стонал и исходил жизнью, пока новые ветки не принимались буравить рубаху, чекмень, рвать сапоги…
«…а буде так, что слово божеское всходы даст, да возьмётся их душить терние, то здесь без помощи Нектария не обойтись…»
Рычков сразу понял, что будет. Старик бросил свои ужимки, и в руке у него появилась коряга, с виду похожая на длинный нож. Шило поднял глаза на асессора, в мокрой бороде появилась косая щель, в которой сверкали окровавленные зубы. Потом взгляд застыл, и глаза закрылись. Из вспоротого живота на пол густо посыпались сизые внутренности…
Васька заорал, осыпая карлика черной бранью, мешая русские, немецкие, голландские и татарские слова, плюясь слюной и расшибая затылок в кровь. Он ещё орал, когда с десятником было кончено, а у алтарных врат покачивались на слабых новорожденных корешках три корявых бревна: на одном остался пояс с пустыми ножнами; у другого меж сучков зажата пола чекменя; и тускло блестел в расщелине коры третьего скромный нательный крест…
Асессор больше ничего не чувствовал.
«…а ежели пуста душа твоя, омертвела и неживая, как поле мёртвых, куда был взят пророк Иезекиль, коли нет там ничего, кроме пыли и праха, упадёт слово в мёртвую сухую землю и погибнет без всхода, и не будет тебе преображения по слову божескому, ни спасения, ни вознесения. Хладный ветер понесёт душу твою по пустыне Антихристовым семенем…»
Потом его отпустили. Рычков обрушился онемевшим телом в горнем месте. Шпага сломана, пистоль выпал, не дотянуться, не пальнуть. Сырой мох холодил щёку и давил влагу. Тысячи иголок кололи ступни, кисти, спину. Он их едва чуял, но не владел. Только голову приподнять…
Старик стоял у престола и смотрел на Ваську, не мигая. Взгляд его потускнел, искры погасли. В бороде проклюнулись новые поганки, под ней снова шевелилась какая-то живность. Лишайники с висков осыпались…
– Ну, – прохрипел асессор. – Чего смотришь? Не вышло из меня ёлочки…
Он засмеялся зло и бессильно.
Старик поднял сухую руку, зацепил лист в книге на престоле и рванул с пергаментным хрустом.
Васька ждал, наблюдая, как он мнёт исписанную чёрными буквицами страницу, приближаясь крохотными шажками. Боль в лодыжках сменила покалывание. Рычков попытался приподняться, но ладони его ещё не слушались. Он заскоблил каблуками по полу, поворачиваясь, толкаясь прочь. Не поспел.
Морщинистые руки вытянулись, настигая безвольное тулово. Холодные пальцы ухватили Ваську за челюсть, выворачивая с хрустом, и безжалостная рука втолкнула пергаментный ком со вкусом плесени и чернил в распяленный рот. В глазах у Рычкова потемнело. Он услышал щелчок ногтей, а потом гибкие плети подхватили его и поволокли к выходу, нахлобучив треуголку по самые уши.
***
Развиднелось…
Луна, расталкивая тучи, скачет по небу, словно пьяный фельдъегерь по Адмиралтейскому проезду: круглая рябая рожа в синюшных запойных пятнах. Зеленоватый, мертвенно бледный свет летит на землю, как грязь из-под копыт, пятная широкие лапы елей, серебря листья осины. Растекается по густому подлеску липкой паутиной.
Вöр-ва стеной стоит, не пускает: многорукий, угрюмый, молчаливый. Норовит подставить ножку, насовать кулаков в бока, отхлестать по щекам, пихнуть в сторону. Не даёт сбиться с торного пути, вдоль ручья, к дощанику. Подгоняет…
Кафтан на Ваське изодран, офицерский бант развязался и болтается на шее удавкой. Казённое сукно напиталось влагой и сковывает движения. Ботфорты сползли, внутри хлюпает. Треуголку давно сшибло ветками, и волос шевелится на затылке: «Где они?! Близко?!» Блуждающий взгляд путается в изломанных тенях. Сердце колотится у горла. В грудях горит – как насыпали за пазуху тлеющих угольев. Ломит Васька вслепую, запрокинув голову, словно уязвлённый лось. Хруст и хряск разносится окрест, стон и трепет…
«Спаси, Господи, пронеси!»
Досмотрит ли Вседержитель? Нешто ему в досуг за безбожником присматривать?
Чу! Мечутся тени на том берегу. Скользят меж деревьев. Они?!