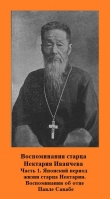Текст книги "Антихристово семя (СИ)"
Автор книги: Андрей Сенников
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Резон в словах десятника имелся, но самая думка его была прозрачна как вода в Колве-реке: рухлядишкой разжиться, что приносили в жертву Войпелю да Йёме; самородным серебром, что могло оказаться в жертвенных чашах у множества истуканов здешних божков и духов…
– В сём году воевода ясак брал, – сказал Васька и погрозил старинным зырянским присловьем, которых наслушался досыта в розысках и разговорах о постылом Нектарии, – А Йёма – баба кёд льёк. Сердитая…
Шило усмехнулся.
– Так то воевода…
Отдалённый рокот усилился. Дощаник забирал по стрежени влево, обходя пологий мыс поросший густым ельником. Рулевой за норой вяло шевелил веслом.
– Золочёные оклады на гнилые шкурки променять хочешь? Про скит старца Нектария в самом Петербурге известно. И народишку туда стеклось за последний год – тьма. Тоже не пустые шли, я чай…
– Эк тебя, господин асессор, – осклабился казак и поддразнил, – «Известно»… Град Петров далече, а чем длиннее дорога, тем больше врак пристаёт… Следов того исхода, о котором ты толкуешь, я что-то по берегам не вижу…
Тут десятник был в правых: места по обеим сторонам шли дикие, нетронутые. Ни единого следа торного речного пути: застарелых кострищ, рубленого лапника под ночлег, истоптанных полян, брошенных по берегам жердей от навесов, волокуш, шалашей; прочего сора, что походя оставляет за собой человек.
– Ладно, – сказал Васька, поглаживая пистолетную рукоять под плащом, – В следующее становище зайдём…
– Следующее – в двух переходах вниз по реке, – обронил Шило. Взгляд его затвердел, в бороде влажно блестели редкие зубы. Волосатые пальцы на рукояти сабли побелели. Двенадцать пар глаз напряжённо следили за десятником и асессором. Неужто всех подбил? «Дать бы тебе в душу», – подумал Рычков, – «Да по уху бы ещё…». Он сморгнул мутное безысходное бешенство, застившее ему и реку, и парус, и заросшие берега, и солдат на вёслах… В голове рокотало и ухало. Васька выпростал руки из-под плаща и накрыл ладонью головку рукояти казачьей сабли, склонился и зашептал дурнинушкой в бородатую харю:
– «Тебе, в душу твою вкладываю слово божеское… Коли пуста душа твоя, омертвела и пустынна, как поле мёртвых, куда был взят пророк Иезекиль, коли нет там ничего, кроме пыли и праха, упадёт слово в мёртвую сухую землю и погибнет без всхода, и не будет тебе преображения по слову божескому, ни спасения, ни вознесения. Хладный ветер понесёт душу твою по пустыне Антихристовым семенем…»
Шило отшатнулся, скамья подрубила казака под колени, и он бы рухнул гузном, не удержи Рычков его за опоясье. Гребцы сбились с ритма. Шило выпучил глаза, борода провалилась влажной, красной ямой раскрытого рта…
– Антихристовым семенем, казак. Понял ли?! – напирал Васька, унимая лютую радость от того, что угадал верно, и не катаньем варнака брать надобно, а мокрогубым юродивым речитативом, что врезался в память как затхлая вонь земляной ямы в платье. – Подберёт тебя Йёма, ох подберёт, коли креста на тебе нет…
– Аз, господин асессор! – донеслось с кички, – Аз берёзовый!..
Рычков отпустил Шило и ринулся вперёд, толкнув казака плечом.
Дощаник вышел за мыс. Впереди, в полутора верстах Колва круто забирала направо так, что, казалось, кончается вода, а река течёт прямо из земли. Стрежень, набравшая бег и силу где-то далеко и незримо, разбивалась пенными рокочущими гребнями о боец-камень тридцати саженей в высоту, ощетинившийся редколесьем, как кабанья холка. От камня на пару локтей выше по течению, по дальнему бережку, у самой границы воды и леса сложились берёзовые стволы, надломленные да поваленные в исполинскую буквицу «Аз», дивную, словно в расписной Псалтыри отца Феофила из Усольской обители, точно белилами её выводили по густой чащобной тени.
Васька живо растолкал казаков за спиной дозорного, вскочил на обносной брус, хватаясь за становой трос щеглы-мачты и вытягивая шею: не блазнится ли? Тот ли знак? А в зобу трепыхалось: «Оно! То самое!»…
– Сбрасывай парус, охотнички! – гаркнул Рычков, поворотившись. – Смену на вёсла! Навались!… Эй, на правиле, держи на сей створ!..
Он выбросил руку вперёд, радостно подмечая как заметались исполнять, загомонили, оскалились. Застучали каблуки по подмёту на днище, райна поползла вниз под скрип блока, захлопал-захрустел сминаемый парус. Дощаник сбавил было ход на смене гребцов и вновь рванулся, мнилось, по-над самой водой против сильной, зыбучей и беспокойной стрежени…
***
Устье ручья нашли в протоке за боец-камнем.
Не успел Рычков отрядить разведчиков, перемешав в партиях казаков, солдат и служилых людей воеводы Баратянского, как ушедшие на закат по берегу Колвы воротились: есть ручей, если где и искать святое озеро, то у его истока. Дощаник завели в протоку, ближе к устью ручья, упираясь в близкое дно шестами. До темна рядились, кто выступит на поиски обители Нектария, а кто останется стеречь судно. Охотников сидеть сиднем три дня – а именно столько Васька сторговал на поход и возвращение, – не нашлось. Соломинки тянули. Этакая прыть асессора загоняла в тоску пуще недавнего бунта. В собственные сказки на скорую руку о богатстве скита и старца Васька не верил, а равно и в лютую охоту служилых да казаков на грабёж зырянских селений, капищ да кумирниц – то одна видимость, ничем за весь поход не подтверждённая: просились – было, но и запретом вслух не тяготились до самого сегодняшнего дня.
Мыслил Васька так: коли есть среди соликамских начальных людей какой резон неведомому старцу трафить, то никак не могли оне своего человечка к гишпедиции не пристроить – а то и не в едином лице, – с умыслом бесславного ея завершения. Вот только кого? Как Рычков не присматривался, подсылов не распознал. А то что Шило – ухарская его голова, – не засмущался в зачинщики, так то ещё не явь: так, свойская живость натуры, да дурная кровь. Ваське ли не признать, коли сам таков?
Крюков, капрал? Косая сажень в плечах, кулачищи, голова, словно котёл, да и то, кажется, набита положениями воинского устава, а пуще – двумя сотнями статей «Артикула…» со всеми толкованиями. Уж больно горазд стращать…
Таможенный подьячий второго разряда Семиусов? Юркий, схожий с белкой человечек с быстрыми чёрными глазками, что смотрели всегда вприщур, как солдаты из полуплутонга Крюкова смотрят поверх фузейного ствола…
Иёма их разберёт, кто из них наушник. И чей…
Правду молвить, до сего дня, чем дольше длилась их гишпедия, тем пуще Рычков увязал в трясине сомнений сродни тем, что щедро втолковывал ему воевода Баратянский: нету никакого скита и старца; и заговора нету, поелику не ведомо к чему такой заговор и не видно никаких выгод от него, окромя пустой хулы на государя. А злость и хмурь охотничков – то всего лишь недовольство пришлым начальным человеком, что гонит неведомо куда и не пойми зачем, да ещё и лишает лакомого куса всякой походной жизни…
Но знак то вот он. В ста саженях. Рукотворный – Васька проверил, – а значит и остальное тако же ощутимо и быти, как гладкие рукояти пистолей за поясом; как гнус, сырость и вонь: рыбьей требухи, смолы, немытых тел, пороха и железа; и скит, и тарабарские грамотки, и так к случаю испустивший дух кликуша Степан, что и на самого асессора за то вины можно наложить.
Сидел Рычков на обносном брусе у норы и лениво следил за бивачной суетой: как разбирали справу; как солдаты чистили фузеи и багинеты; как шиловские казачки теребили торока, собираясь на завтра в пеший поход. По-над Колвой плыл стук каблуков по подмёту, треск сучьев и горький дымок костра на берегу. Глухо ворчал боец-камень, изнемогая в битве с рекой. Солнце катилось далече и книзу, словно норовило побыстрее добраться до Петрова града, а густые тени пихт, елей и кривых берёз забирали бивак в душную, заскорузлую жмень.
А ещё думал Рычков так: коль уж не вышло у подсыла или подсылов гишпедицию поворотить в Соль Камскую, то нынче расстараются они к тому, дабы сам господин асессор в той гишпедиции сгинул. И живость окрестная, и суета, и зычный рёгот охотничков, и унылые рожи остающихся в сторожах – всё к одному.
Принудил таки Васька кого-то завопить: «Знать не знаю никакого государя-анператора!»
В правых сказался господин Ушаков.
Только чтобы личину этого «кого-то» открыть, придётся Рычкову идти до конца. И сам того не ведая, сидел Васька на брусе и скалился в синие сумерки, как под Наровой – в набегающие шеренги свеев.
***
В сказках бабки Анисьи всего было по три: три желания, три испытания, три попытки и сроку, обыкновенно, тоже три: часа, дня, года… Как далее уходили охотники вверх по ручью, не раз и не два мнился Рычкову трескучий и глуховатый бабкин голос: «На осине сижу, сквозь клён гляжу, берёзу трясу». Трещала лучина, кудель на расписной лопасти шевелилась, словно живая, испускала из себя скрученную нить; шелестело в сухих старушечьих пальцах берёзовое веретено; поскрипывало донце, когда Анисья клонилась или прямила согбенную спину, расправляя узенькие костлявые плечи. А за загадкой – зачином уходили в дремучие сказочные леса встреч неведомым опасностям герои-удальцы с наказом отыскать то, чего и сами не знали, не ведали…
Ручей, что на пути к Колве пробил прибрежный камень, порожками, бойко и звонко катился по распадку меж двух невеликих горушек, в полутора верстах от устья поворачивал на северную звезду и далее, по горной равнине бежал тихо и покойно, выписывая руслом коленца: то застывая омутами, в коих крутился неспешно разный лесной сор, то укрываясь дико разросшимися кустами смородины и волчьего лыка, ветвями рябины и жимолости.
Берега делались топкими, мхи пятнали камни и ползли в подлесок плотным ковром. Сырой воздух звенел комариным писком, густые тени пихт и елей жадно тянулись к охотничкам – коснуться, смахнуть со лба пот, – а хилые, кособокие берёзки заходились в падучей, словно юродивые: «Грядёт, грядёт пришествие антихриста!» И забивал ноздри запах изрытой земли: влажной и жирной, как чёрный творог…
В рекогносцировку пошли чёртовой дюжиной – удачливое Васькино число.
Походный порядок с двумя подменными дозорными из казаков по обоим берегам, в двадцати – тридцати саженях впереди основного отряда. Арьергардию Рычков держал ближе, отряжая туда попеременно, то Шило со товарищи в одного – двух, то Крюкова с парой солдат с наказом непременно нагонять отряд до прямой видимости каждые пятьдесят шагов. Семиусова Васька держал при себе, всякий раз высматривая среди спин порывистую, скачущую походку.
Крайней нужды в сём построении не было, но господин асессор привычно понуждал подсыла себя выказать, хоть бы и выстрелом в спину. Господь не выдаст – свинья не съест. У пехотной фузеи прицельный бой на сорок саженей, и то на открытом месте. А тут – шаг в сторону, – и Рычков уже за спиной впереди идущего, али за кустом, деревом, и еловые лапы смыкаются, словно никого и не было. Подстеречь, конечно, можно, так ведь и попытка всего одна. На вторую времени не достанет, неоткуда ему взяться: курок на предохранительный взвод, открыть полку, достать патрон из сумки, скусить кончик, порох на полку насыпать, прикрыть огнивом-крышкой, остатний порох насыпать в ствол, вложить пулю, заряд прибить шомполом, убрать шомпол в ложу, курок на боевой взвод, вскинуть, прицелиться… Фузеи только у солдат и капрала, а средь гарнизонных вояк Васька добрых стрелков что-то не примечал – едва два раза за минуту успевали пальнуть, да лицо отворачивали раньше, чем успевали целить.
У казачков ухватки вполне варнакские, разбойные, так ведь и длинноствольного оружия нет: пистоли да сабли. А с надёгой из пистоля садить – так это на пять шагов сойтись нужно, курки взвести. Щелчки кремнёвых замков – звук особый, с треском сучьев никак не спутать, и в сыром воздухе разносится далече, даже если загодя их взводить.
Опаска была, конечно, но Рычков уповал на чутьё своё солдатское, что не подводило его ни при Нарве, ни при Лесной, ни в прочих баталиях, когда в минуты смертной угрозы накатывало вышним знанием так, что мнилось – каждый волосок на теле становился в дыбы, а в животе делалось холодно и пусто, как перед броском в развороченные пушечной пальбой неприятельские флеши.
Лихорадит Рычкова в тягостном ожидании, то сомнения точат. Всё асессор примечает: кто сменился с авангарда, кто приотстал; как посмотрел, куда шагнул, как повернул; справа под рукой ли; мелькнёт ли дозорный на другом берегу ручья – ширины то в нём, где переплюнешь, а где сажени на три; в ином месте порожек с осклизлыми камнями, что торчат над прозрачными струями, словно гнилые зубы, а подале – глянет, Васька, – омуток тихий, чёрный, с воронками, где-то там на дне сестрица Алёнушка: опутали грудь водяные травы, руки-ноги заплели – не пускают…
Тяжело шли, до грудного клёкота.
Леса то не чухонские – чистые да светлые, – в иных местах через подлесок прорубаться случается, каблуки вязнут в пружинистых мхах, а на разгорячённые лица липнет паутина. Хряск и стон стоит впереди, и какая ни есть живность окрест – замирает в испуге и разбегается. Должно быть. Не видали ещё живности то, ни зверья, ни птиц; ни следа, ни гнездовий… Хмарь и густые тени. Бледное солнце укрылось за толстым стёганым одеялом грязных облаков. Того и гляди польёт дождичком
– Путя не торные, – роняет Шило, поравнявшись с асессором. Серьга в ухе тускло поблёскивает. Сапоги, шаровары и полы бешмета – мокрые, хоть и заправлены за пояс: сменился с дозорных… Ножны сабли царапают в палой прошлогодней листве кривую борозду.
– Сам вижу, – огрызается Рычков. Ладони в перчатках вспотели, рукояти пистолетов давят на живот, да эфес шпаги норовит уткнуться под рёбра, когда экспедитор неловко задевает концом ободранных ножен узловатый корень под тонкой коркой мха.
«Как же такое возможно?» – вдругорядь думает Васька, – «Ведь ещё в 1702 году, определяя дела в ведении Преображенского приказа князя-кесаря Ромодановского, государь Пётр в первый черёд указал быти тем: «…которые в государственных делах, а именно: в дурных словах или делах, или деле к возмущению и тому подобных…». И в Канцелярии тайных розыскных дел порядок значения по ведомству остался неизменным.
Кто про такое дело знал и не донёс – умысел злее пьяной Васькиной выходки, облыжного навета по «слову и делу»: розыск дольше, наказание страшнее, а стало быть, и причина умолчать должна пересиливать страх на великую меру…
Так?
Так.
Первым с юродивым Степашкой сносился архимандрит Феофил, беседы имел тайные, и не раз. Тарабарскую грамотку держал в руках и тайнопись читал. Степашку держал поблизости, но в Монастырский приказ ничего не отписывал, с экзархом не сносился… Грамотка, конечно, была. Уж очень приметно ея диакон церкви Успения Святой Богородицы описывает: письмо святого Стефана, буквицы. Но что в ней было писано? То ли, что Степашка в порубе Рычкову бормотал? И где теперь сия грамотка? У Феофила? Али переписана не единожды и разошлась по Прикамью и далее, как указывал господин лейб-гвардии майор Ушаков? Соображай-смекай, господин асессор; отдели сущее от плевел…
Быль первая: Феофил о ските Нектария знает, приметы к розыску пути ведает, суть еретических посланий прозрел, но всё держит в тайне. Может, розыск асессора ему нож острый и многая разорения? Мог Феофил своего человечка приставить к Рычкову? Мог. Кого?
Да хоть кого»!
Васька хмуро оглядел своё воинство: Крюков с солдатом отстали в арьергардию; Шило перебрался в дозор на противный берег, его ещё видно, но вскорости скроется; Никишка Семиусов плетётся в плотной группе солдат впереди; казаки уклонились в чащу от берега, обходя залом, но держатся на виду…
«Все оне тут с крестами, православные», – думает асессор безутешно, – «И к причастию, и к обедне, и к исповеди горазды. Службы испросить, помолиться, свечку поставить. Во здравие ли, за упокой… И к архимандриту на поклон по какой нужде… Каждому прилично, и нет в том никакого подозрения.
Только единолично ли Феофил тайничает? Не похоже. Был бы в одного – Степашку упрятал бы с глаз долой накрепко. Мало ли погребов в монастыре на Усолке? Но не так делал. Держал юродивого близко, под призором, но у всех на виду, прилюдно. А не с умыслом ли, дабы кликушу взяли за караул, под надзор капитан-командора Свешникова? Спихнуть заботу с плеч, да от нужды доносить в приказ, али в розыскную канцелярию избавиться; не имать Степашку под микитки для сопровождения в Петербург, как по указу о «государевых делах» делать надлежит…
С грамоткой ли спровадил?
Капитан-командор от сего открещивается, а значит, быль вторая – Свешников о ските, Нектарии, тайнописи и поношении государя ведает из допросных и пыточных листов, снятых с юродивого – на дыбе молчальников мало, на дыбе все откровенны, как дети; – регламента «…о розыскных канцеляриях и государевых делах…» не применил; Степашку держал за караулом; допросных листов у себя не сохранил; упирает на то, что де промемория «о кликушестве» исполнена до последней буквицы.
И хоть капрал Крюков на смекалку туговат, но особые приказы капитан-командора на предмет участи асессора иметь может, и исполнит в точности с должным артикулом «…какое кому наказание за вины принимать надлежит».
Быль третья: князь-воевода Баратянский со слов своих о Степашке и тарабарской грамоте пребывает в неведении; пыточных листов не читал, отговорился великими заботами; намекнул на небрежение асессора в розыске; представил дело о Нектарии и ските немощным, пустяшном, вроде бабьих пересудов.
Быль четвёртая: допросных листов Степашки нет; подьячий, что записывал речи юродивого – неведомо где: не то налим столетний его доедает под осклизлой корягой на дне Камы-реки, а не то шагает он впереди Васьки в обличии подьячего среднего разряда Никишки Семиусова. А? Ежели и прятать кого, так на самом видном месте. И за столичным асессором призор, а воеводе – доклад. Придавить бы его в сторонке…
Юродивый Степашка кончился совсем, только сам ли? И спросить за всё за это не с кого и на поверку – незачем. Истаяло дело о поношении государя, прошлогодним снегом изошло. И всякий помянутый чин Соликамский к тому руку приложил и старание немалое. И сие – есть быль пятая. А случилось то по недомыслию, али напротив – с каким умыслом – то ещё розыску подлежит. Ох, держи ухо востро, асессор. Аникой-воином ты в эту гишпедицию выступил…».
Заходится Рычков в нервной горячке. Неладное вкруг себя чует, недоброе. Мнится уж, что и лес следит за каждым его шагом многоглазой россыпью ягод волчьего лыка, огнём диавольским жжёт; за всяким кустом – засада; всякий треск под неосторожной ногой – маслянистый щёлк взводимого курка; влажный высверк меж пихтовых лап – изготовленный к пальбе ствол фузеи; оступился ли кто, споткнулся – к подлому удару приготовляется…
Давит низкое небо на плечи, гнёт, набухает скорой теменью. Мхи с лишайниками ползут по стволам, словно живые, виснут на низких ветвях грязным саваном. Чавкает под ногами, сырость ползёт по ботфортам, тянет за плащ, забирается под платье, сковывает движения дровяной усталостью, забивает грудь запахами прели. Тени скользят впереди, прячутся меж стволов, замирают, корчатся, словно навьи и… отступают перед дозорными, чтобы стать поодаль плотнее, неприступнее. За поворотом ручья – осторожный плеск и журчливый русалочий хохоток… В животе собирается ледяной головой, занемевшая ладонь тискает рукоять пистоля… Ан, нет. Шило вброд перебрался…
Капище, – сипло отплёвывается десятник.
– Стой! – скомандовал Рычков, солнце за лоскутным небом бледнело и таяло, словно кусок масла в горячем молоке, сумрак сторожко выползал из подлеска вслед за мхами и лишайниками. – Ты всё не угомонишься, казак, а? Упрямый…
– Не то говоришь, господин асессор, – отмахнулся Шило.
Мрачно сказал, без всегдашнего своего плутовства. Посеребрённая тесьма на вороте рубахи и позумент на бешмете потемнели от пота. Он вытянул руку и сунул Рычкову грязное, мокрое…
– Гляди…
В первый миг почудилось – змею ухватил: холодную, чешуйчатую, с бледным узором на спине. Едва не выронил обвисшую в ладони плеть. После над ухом кто-то выдохнул:
– Виток, кажись…
Рычков огляделся. Семиусов. Тут как тут, через плечо заглядывает. Прочие охотнички повытягивали шеи, вишь – сгрудились. Арьергардия с хрустом ломала подлесок. Близко, враз подойдут.
– Что за виток? – Васька покрутил в пальцах туго сплетённый жгут в выцветших красках.
– Ну лариат, – подсказал подьячий. – Инако же – змейка…
– Украшение бабье, – сказал Шило. – Пояс, али бусы…
Глядел он всё тако же хмуро – брови насуплены, – и ронял слова, словно пульку в ствол фузеи сплёвывал. Рычков рассерчал.
– Ну так и что с того?! Виток, лариат… – он ткнул кулаком с зажатой в нём грязной верёвкой в грудь десятнику.
– Ты погоди на вороп брать, господин, – казак как не заметил, осторожно принял виток, сдавил крепко. – Посмотрел бы сам пока свет, тебе, я чай, к розыску способнее…
Вот оно, думает Рычков, пожалуй, что и началось. Отведут в сторонку и придавят… «Посмотрел бы…» Как же…
– И на ночь становиться пора, – десятник уколол взглядом темнеющее небо в просветах еловых макушек, – На том бережку «егыр», а за капищем, в гору чистый «яг» идёт, суше там, пореже и ветерком обдувает. Место подходящее…
Он отмахнулся от тоскливого комариного писка. Виток в кулаке качнулся, словно удавка…
***
«Егыр» – заболоченная сосновая рощица.
Невесть сколько лет ручей, поворотивший здесь на восход, пропитывал низкий бережок студёной водицей, замешивал квашнёй землю в излучине, нагонял в заводь палой хвои, сора, почернелых листьев и ряски, и теперь вяло шевелил меж голых и мокрых стволов это чёртово варево невидимыми низовыми струями, словно лешак сонно ворочался под дырявым, ржавым в закатных лучах, рядном.
– Эхма! Скособочило-то…
Сгрудились на топком бережку, задышали сипло, заперхали, но чем дольше стояли и глазели, тем тише становилось сорванное тяжким переходом дыхание, да голову гнуло к земле: всё хотелось сделаться крошечней, незаметнее.
В чахлой рощице не было ни одного прямого деревца. Где стройные чухонские корабельные сосны, что тянули кроны в серое балтийское небо, под самые набухшие штормовым дождём облака? Не то всё. Словно стайка юродивых высыпала на соборную паперть, являя язвы свои и увечья, потрясая веригами, но не жалости к себе ради, не с укором к телесному здоровью пришлых, а с неведомой, глухой угрозой, застывшей натужным мычанием в безъязыких ртах.
Были сросшиеся стволами дерева, перевитые в последних объятьях, с шелушащейся корой, словно влюблённые, задохшиеся в дыму под рухнувшей кровлей сгоревшей избы; был колченогий старик с мшистой бородой, далеко отставивший клюку, попираясь костлявым плечом и клонясь набок; был ствол, изогнутый татарским луком, нацеливаясь на пришлых через ручей длинным, острым сучком как стрелой; была сосна, колодой оплывшая, морщинистая, простоволосая пучками торчащих веток с чёрным провалом распяленного в безмолвном крике дупла; дальше были дерева, застывшие в исступлённой пляске или мольбах, с ветвями воздетыми к небу – прямо и длинно; и ряд сосёнок мал мала меньше, рядком, словно пострелята выглядывающие над плечом переднего…
В самой середине увечного хоровода монастырскими чернецами возвышались на две сажени обугленными столбами изломанные, голые стволы в два обхвата, без крон, с расщеплёнными верхушками: в глубоких бороздах окаменевшей коры, наплывами на обломанных сучьях, коростах сине-зелёных лишайников и паутинных лохмотьях мшистого покрова. Числом три. Шевелились юркие тени у оснований, словно колыхались полы оборванных ряс. Идолы? Тихо плескала вода. Меж стволов, по-над рыжим покровов гнилых листьев и павшей хвои клубились облачка гнуса. Неподвижный воздух тихонько звенел комариным писком: тонким и злым. И мнилось Ваське, что глядят на него оттуда. Тяжело глядят, по последнему – как глядят поверх ружейного ствола; словно весь лес сошёлся в заболоченной низине, все давешние страхи асессора в кулак собрал и огрел по лбу со всего маху.
– Виток я с крайнего снял, – сказали над ухом.
Рычков повернулся, едва ворочая окаменелой шеей.
Шило остервенело скрёб в бороде, зрак меж припухших, покраснелых век настороженно обшаривал противоположный берег, как внове. Ощупывал диковинные деревца, ловил вялое шевеление мшары у мокрых стволов, скользил вослед клубам комарья, растворявшимся в спорых сумерках.
Асессор не видел, но чуял – тако же застыла вся его ватага охотничков, онемела, только грязные пальцы тискают оружейную справу, ищуще касаются нательных крестов под мокрыми рубахами, да шевелятся обкусанные губы, поминая не то святых, не то чёрта…
– Зыряне сказывают: у каждого человека в лесу двойник-дерево имеется – Ап-су…
– Чего? – Васька покосился за спину.
Говорил Семиусов. Глаза на выкате, кончик хрящеватого носа подёргивался, словно у амбарной крысы, в худой рыжей бородёнке на впалых щеках застряли крупные капли пота.
Подьячий моргнул.
– Говорю, оттого оне и на русских косо глядят, когда лес валим, – забормотал он. – Всё ждут, когда с зарубок да затесей кровь хлынет… Стало быть, где-то живая душа хиреть зачнёт…
– Свят-свят… – плеснул шепоток.
Васька криво осклабился.
– Ага. Все калики от храма Успения тут собрались, – сказал он и махнул рукой в сторону рощи. Обернулся к Шилу:
– И ты хорош, казак – «капище». Подношения где? Шкурки, серебро, снедь? Болото и есть… Ты вот чего, выводи охотничков на сухое, пока воинство наше не обгадилось. Становище ладьте. Дай…
Рычков потянул лариат из руки казака. Тот ещё вглядывался в шевеление теней меж стволов, жевал губами и не враз выпустил осклизлый шнурок, но плутовской блеск мелькнул в глазах раз, другой, и Шило тряхнул плечами.
– Любо, – сказал и гаркнул – А ну, браты, забирай через стрежень на Кол-звезду! Вишь там бугор сухой…
Выдохнули, загомонили, шумнули справой, вода в ручье разошлась плеском, пошла усами.
Асессор глядел им вослед цепко, ведя счёт по головам – как, раскачиваясь, взбивали на шаге пену, как жались плечами, обходя окаянную рощу, сбиваясь в гурт, и только Шило в головах вскидывал колени бойко, подвернув полы чекменя за пояс, – и злая усмешка не сходила с лица. «Удавят… Как же… Сами со страху того и гляди удавятся…»
Он перевёл взгляд на рощу.
Усмешка сошла, лариат вился вокруг ладони холодными петлями, Васька бездумно теребил загубленное украшение, смекая, а не есть ли то первый и пока единственный след той людской убыли с соликамских варниц, посадов и торжищ, что в такую заботу взяла господина майора Ушакова?.. И указал на тот след Шило. А мог бы и утаить… И что за сказки принялся Семиусов толковать? Бабкино веретено ему в дышло…
Эк всё перепуталось то: есть ли подсыл, нет ли? И что за комиссия – быть на службе Канцелярии Тайных государевых дел? Голову сломишь… Так и в демидовских рудниках, чай, не слаще… А инако глядеть – вервие ещё не указка. Мало ли инородцев-охотников по лесу шатается? Ну, оставил иной мету из чего не жаль. Что в руку посунулось…
Обрубки-чернецы немо маячили перед глазами. Тучи комарья колыхались, истаивая вдруг в сгустившихся тенях, то уплотняясь в стороне, на сажень, густыми кляксами. Сосна-лук изогнулась, мнилось, сильнее, нацеливая на асессора острие сухой ветки-стрелы. Гудение мошкары чудилось звоном натянутой тетивы, «пострелята» сбилась в гурт, переплетённые сосны разомкнули объятья, колченогий старик подсмыкнул клюку, колода принялась раскачиваться… Рычков сморгнул и взялся набивать трубку духмяным табаком. По-над ручьём стекал гомон уходящей ватаги, плеск воды и бряцанье железа, и уносились звуки ниже, чуть не бесследно. До самой Колвы, глядишь, доплывут…
Васька почиркал кресалом, окутываясь горьким дымком, и убрал трутницу в патронную сумку.
Вода холодно схватила его за щиколотки, перебирая складки на голенищах.
Противный берег разом надвинулся.
Кривая роща разомкнула крыла, словно с флангов за спину асессора ринулась лёгкая конница. По фронту скрюченные фигуры упёрлись, пригнулись в сторону неприятеля. Васька рвал стрежень, нащупывая подошвами дно, лариат давил на пальцы змеиными кольцами. Вода поднялась и опала. Ручей застыл, загустел мшарой, замедлился. Каждый шаг колыхал топкое одеяло от края и до края, насколько хватало глаз, словно за деревьями крались лазутчики-пластуны. Небо сделалось ещё ниже. Быстрые сумерки жались к болотине, заплетая мхи тугими вицами. Рычков стиснул зубы, едва не перекусив мундштук. Сердце стучало сильно и торопливо. Кровь грохотала в ушах отдалённой артиллерийской канонадой. Каблуки вязли в болотной жиже. Рычков навалился грудью и ворвался в рощу плечом вперёд, словно в апроши перед вражеским редутом…
…и едва не упал.
Юродивые сосны расступились, брызнули в стороны, и Васька очутился у самых чернецов. Близко.
Рой гнуса отпрянул, истаял над головой в чахлых кронах, но, почуяв разгорячённую плоть, потянулся, изготовляясь навалиться превосходящим числом, загудел. Васька старательно пыхал дымком, окутываясь завесой, но разумно предполагал, что долго не выстоит, и вскорости очумелая от запаха крови мошка принудит к ретираде. Воздух в роще загустел. Запахи сырых мхов и мёртвой болотной гнили забил ноздри, перебивая ароматную горечь табака.
Определить, из какой породы дерев вышли истуканы, Рычков не сумел. Толстые, корявые, плотной панцирной коры, изборождённой глубокими – до почернелой плоти, – трещинами. Оплывшие наростами основания обломанных сучьев. Замшелые книзу, в нитяной паутине ползучих мхов. С размозжёнными в обугленную щепу верхами. Схожие меж собой и отличные, морщинистые, как ноги-столпы элефантов, которых Васька видал на картинках в немецких книжках, которыми бивачные распаляли костры в разграбленном Нотебурге…
В трубке захлюпало. Асессор отмахнулся от назойливой мошкары. «Крайний слева», – Шило сказал. Ну так и чего? Рычков обошёл истукана кругом, с усилием вытягивая отяжелевшие ботфорты из грязи. Рука в перчатке следовала пальцами по изломам коры… Ничего, пень пнём, как есть – гнилушка. Оттолкнулся, поворачиваясь к среднему, потоньше, столбу, надломанному как бы в гигантском суставе на высоте Васькиных плеч… Мёртвое древо, мёртвое. Давно не бегут от корней к вершине живительные соки, и невесть зачем цепляется лесной упокойник за расползающуюся под ногами твердь. Если где и были в миру у этих обрубков человеки-двойники, то давно сгнили в могилах…
В сальных волосах над ухом зло запищало, забилось. Васька лапнул себя, едва не сшибая треуголку и ощутил жгучий укол. Всё, распухнет как оладья. Перед глазами рябило и роилось, толкалось и лезло в зрак. Трубка погасла…
Рычков начал ретираду мимо третьего столба, на треск валежин и отдалённый гомон: ватажники ставили бивак и, мнилось, уж тянет из густеющей тьмы горьким дымком сгоревших лишайников. Асессор сделал два нестройных тяжёлых шага, когда почувствовал плотную, упругую хватку на правой щиколотке.