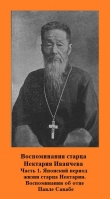Текст книги "Антихристово семя (СИ)"
Автор книги: Андрей Сенников
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Антихристово семя
Луна, расталкивая тучи, скачет по небу, словно пьяный фельдъегерь по Адмиралтейскому проезду: круглая рябая рожа в синюшных запойных пятнах. Зеленоватый, мертвенно бледный свет летит на землю, как грязь из-под копыт, пятная широкие лапы елей, серебря листья осины. Растекается по густому подлеску липкой паутиной.
Вöр-ва стеной стоит, не пускает: многорукий, угрюмый, молчаливый. Норовит подставить ножку, насовать кулаков в бока, отхлестать по щекам.
Кафтан на Ваське изодран, офицерский бант развязался и болтается на шее удавкой. Казённое сукно напиталось влагой и сковывает движения. Ботфорты сползли, внутри хлюпает. Треуголку давно сшибло ветками, и волос шевелится на затылке: «Где они?! Близко?!» Блуждающий взгляд путается в изломанных тенях. Сердце колотится у горла. В грудях горит – как насыпали за пазуху тлеющих угольев. Ломит Васька вслепую, запрокинув голову, словно уязвлённый лось. Хруст и хряск разносится окрест, стон и трепет…
«Спаси, Господи, пронеси!»
Досмотрит ли Вседержитель? Нешто ему в досуг?
***
В крепости Петра и Павла, что на Заячьем острову, младший унтер лейб-гвардии Семёновского полка Василий Рычков очутился по трём причинам: зелено вино, злая насмешливость и гвардейский апломб – либо в стремя ногой, либо в пень головой. Безусым юнцом с косой саженью в плечах и пудовыми кулачищами, Васька Рычков сначала был зачислен в Потешные, а после переформирования приписан в полк «покуда живота хватит». Сметливого до дерзости, склонного к охальным проказам и злоязыкого до глупости рекрута офицеры не жаловали. Изводили наказаниями и муштрой: «подыми фузею ко рту; содми с полки; возьми пороховой зарядец; опусти фузею к низу; насыпь порох на полку; закрой полку; стряхни; содми; положи пульку в ствол; вынь забойник; добей пульку до пороха; приложися; стреляй»… Беда да морока.
А потом случились Азов, Нарва, под которой Васька, качаясь в плотном строю из живых и мёртвых, скалил окровавленные дёсны в белобрысые хари над жёлто-синими мундирами, орал непотребно, прикладывался и стрелял, прикладывался и стрелял. Он швырял бомбы, рубил и колол, стоя по колено в крови, и был среди тех, кто уходил с поля через Нарову под развёрнутыми знамёнами, с оружием, барабанным боем… и без Бога в душе.
Много чего случилось и после. Десант у Нотебурга и тринадцатичасовой штурм; битва при Лесной; Полтава. Давно подрастерял Рычков юношеский жирок, подсох, сделался жилистым и мосластым, но то, что дерзость, злость и дурная сметливость хороши только на поле брани – в разумение не взял, а посему, выше унтера не поднялся. Через что грызла Рычкова глухая обида, словно червь яблоко, выстужала сердце сырыми Петербургскими ветрами, да топила душу в болотной тоске.
В конце лета одна тысяча семьсот девятнадцатого в кабаке за Госпитальной улицей и казармами седьмой линии бражничал Рычков с компанией случайных знакомцев. Пил вино, а наливался, по обыкновению, хмельной жёлчью. Клубился под низким потолком табачный смрад, разбавляемый неверным светом чадных плошек, роилось комарьё, да тянуло в оконца малярийной сыростью. Запахи снеди мешались с вонью прелой одежды и разгорячённых тел. Сальные столы закисли пролитым пивом и квасом. Лавки, отполированные сотнями седалищ, постанывали, но за гомоном и гвалтом этого было не угадать. Кабатчик метался меж столов, как чёрт на адовой кухне. По тёмным углам таились скрюченные фигуры, изредка блестя глазами: трезво и цепко.
Бойкое местечко…
Мужичонка с биркой об уплате проезжей подати на бороду маялся над миской кислых щей напротив Рычкова. Он старался держаться степенно и настороже, но по всему обличию его распирало от столичных впечатлений: обилия воды вокруг, прямых и длинных – в линию, – улиц; диковинных изб; дворцов посреди грязи и вязнущих в ней гатей; «босых» лиц и кургузого немецкого платья чуть не у каждого встречного. Ещё не зная зачем, Васька поднёс мужику чарку.
В Семенцы – слободу, где квартировал Семёновский лейб-гвардии полк, – Мирон Зайцев попал с хлебным обозом из какой-то дремучей Тьмутаракани. Был он не просто холоп, а староста. Человек солидный и начальный, что, хмелея, припоминал всё чаще и чаще, тыча в стол заскорузлым крестьянским пальцем. Рычков поддакивал, да подливал. Во хмелю Мирон сделался громче, и, рассказывая о том, что видел в Петровом граде за долгий день, широко размахивал руками. Вот уж и сам тряхнул полушкою по столу. Вкруг них сдвинулись плотнее, подставляя чарки под дармовое угощенье и предвкушая потеху. Наконец, озорно сверкая глазами, Васька провозгласил «виват» за здоровье императора. И не прогадал…
Зайцев ударил кружкой в стол и завопил, выкатывая мутные хмельные зенки:
– Не стану за такое пить! Знать не знаю никакого «анператора», черти бы его, антихриста латинского драли! Знаю токмо царя-батюшку, государя Петра Ляксеича…
В кабаке пала тишина, даже чад норовил скользнуть под столы и лавки. Фигуры в тёмных углах замерли, и только цепкие глаза разгорались ярче…
– Слово и Дело! – гаркнул Рычков, ухватив солового Мирона за бороду, и уложил старосту широким крестьянским лицом в миску кислых щей.
Всё пришло в движение: опрокинулись лавки, двинулись столы, грязный пол закряхтел под ногами, мигнули лампадки, зашипели, гаснув, фитили, шкворча в прогорклом масле, заметались тени.
Васька отпустил бороду старосты и скользнул вбок – нечего ему тут, пусть веселье своим чередом катится…
Только отвернулся, а в затылок вдарило, словно оглоблей приложили.
***
Остатнее Васька помнил смутно. Вроде, подхватили, поволокли. В ноздри набился едкий запах конского пота, в голове гудело набатом и раскачивалось, как язык в Иване Великом. Дохнуло сырым ветром с запахом водорослей, и раз помнилась частая свинцовая зыбь с лунными бликами, после – тьма окутала Рычкова гнилым и затхлым солдатским сукном.
Очнулся он на каменном полу, в луже воды и выпитого за вечер. Руки заломлены за спину и стянуты крепко, до ломоты. В голове стон и близкий крик, на который исходит тяжко казнимый человек.
– Очухался? – услыхал Рычков над головой, – А ну-ка, вздыми его…
Ухватило под руки, дохнуло палёным волосом и холодной убоиной. Ноги подгибались. На плечи давил сводчатый кирпичный потолок, по пятнам копоти нехотя ползали багровые отсветы. Дурнота подбиралась к горлу. На затылке, под косицей как будто ещё одна голова росла: толкалась изнутри плотным комком. Васька зажмурился, а когда открыл глаза увидел перед собой, у грубо сколоченного стола человека в добром кафтане, атласных кюлотах и чулках; башмаки сверкали начищенными пряжками, кружевной бант на шее лежал изящными складками. Выражение лица надменное, со значением; высокий лоб, складки у переносья, нос крупный с горбинкой, рот жёсткий, прямой складкой, щёки выбриты до синевы, а глаза под прямыми бровями смотрели хитрецой. Парик вельможа снял и небрежно бросил на едва ошкуренный стол, короткий ежик волос топорщился на макушке…
Рядом с медным подсвечником, в котором оплывала свеча, лежали листы бумаги. Над ними склонился в готовности невзрачный человечек, похожий на хорька, покачивая пером в корявых пальцах…
– Знаешь меня, гвардеец? – спросил носатый, приподняв бровь.
Рычков очистившимся от дурной мути взглядом ещё раз коротко осмотрел потолок каморы, массивную дверь из плах, окованную железом; плети и веники, разложенные на лавке, факел на стене, что истекал горючими каплями в каменный пол. На ката за спиной смотреть нечего. От него несло мертвечиной и угрюмым равнодушием. В низкой жаровне изогнутыми челюстями тихо рдели клещи…
Ваську тряхнул озноб, но унялся. Похоже на каморы Трубецкого бастиона… А человек?.. Ему ли не знать майора Преображенского полка. И о его положении в Канцелярии Тайных розыскных дел Рычков тоже знал. И несло сейчас Ваську, похоже, в самый пень забубённой пьяной головушкой.
– Ушаков Андрей Иваныч…
– Ишь ты, – усмехнулся Ушаков. – Сам кто таков?
Хорёк окунул перо в чернильницу и вновь замер над листами. На кончике наливалась густая, чёрная, как Васькина участь, капля.
Рычков назвался. Хорёк зачиркал в листах…
– Ну и зачем ты, братец, простеца деревенского под «слово и дело» подвёл, а?
Отвечать было нечего. Отвечать придётся. На плечо легла короткопалая лапа с опалённым волосом на пальцах, и кровяной каймой под обломанными ногтями.
– Дрянь человечишко, – сказал Васька, стараясь не лязгать зубами, – Пустозвон. Во хмелю зело шумный. И простеца его из тех, что воровства хужее…
– И ты решил, что можешь его судьбой вершить?..
– Под Нарвой только тем и спасся, – сказал Рычков. – И при Полтаве в вину мне того не ставили…
Хорёк замер в сомнении, косясь на Ушакова. Взгляд вельможи сделался тяжёл, неподвижен…
– Пошли вон! – сказал он вдруг.
Кат засопел, тяжело затоптался, а переписчик метнулся к двери споро и сообразительно. Рычков посмотрел на голую волосатую спину палача, блестевшую от пота. Заскорузлые завязки кожаного фартука болтались поверх жирного гузна в засаленных портах. Кольцо на двери тяжело брякнуло.
Ушаков взял едва начатый лист.
– Я тебе скажу, что будет, – сказал он, не поднимая глаз, – Зайцеву, как после дыбы оклемается, всыпят батогов, выправят пачпорт и отправят восвояси, в его Кукуево…
Он пожевал тонкими губами.
– С тобою же выйдет инако. Дабы не было у тебя охоты впредь озорничать, показывать на людей облыжно, да отрывать попусту розыскную канцелярию от насущных дел государевых, будешь ты допрошен с обыкновенным пристрастием, признан виновным, лишён чести и звания, прилично наказан батогами и по сему экстракту сослан на вечные работы в Демидовские рудники…
Васька зло оскалился: напугал ежа…
Ушаков меж тем смял допросный лист и поднял взгляд на Рычкова.
– Для всех, – добавил он. – Кроме меня…
Рычков таки ослаб разом, словно выдернули из него стержень, и стоять остался из того же лютого и бездумного упрямства, с каким стоял по колено в убитых в самых жестоких сражениях.
– Нужен, мне сейчас такой человечек, – сказал Ушаков в задумчивости, – Чтобы сам чёрт ему ворожил. Который и невиновного может принудить кричать «знать не знаю никакого «анператора». Так что – выбирай…
***
У бабки Анисьи, первейшей прядильщицы на дворе бояр Головиных к старости повыпали все верхние зубы. Да из нижних остался редкий частокол: пожелтелых и длинных, как у старой кобылы, клонящихся вперёд. Век не забыть Рычкову бабкиных сказок о мертвецах. В неверном свете лучины, в мелькании веретена, под искряной треск углей в печи и завывание вьюги за бревенчатыми стенами людской избы стелился надтреснутый, расщеплённый годами голос, и мнилось в нём подвывание заложного покойника, деревенского колдуна, что восстал их мёртвых диавольской волей и взалкал живой плоти человеческой: «Душно мне, душно!..»
Поглотила Ваську Сибирь, как есть с потрохами поглотила.
Полгода прошло, как дал согласие быть асессором разыскной канцелярии и начал дознание, а от цели так же далече. И теперь болтается Васька в казацком донском дощанике в десять саженей от норы до кички, на студёной стрежени Колвы-реки, а одесную встают каменные зубья в сто локтей жёлтого камня с опушкой мелколесья на маковках, а ошую – пихты да ели, спустившиеся к самой воде глухой стеной. И белые нитяные барашки на перекатах, в верхушках мелкой волны так напоминают тонкие паутинки слюны во рту бабки Анисьи, что вот-вот сомкнётся с последним словом, как сойдутся берега Колвы, и каменные зубья прикусят ельник намертво. Вместе с Васькой, дощаником, полувзводом солдат комендантской роты Соликамского воеводы, да десятком казаков-охотников. Один плеск останется…
Из Чердыни вышли – две седьмицы тому. Давно позади устье Вишеры – зимнего прямопутка старой Бабиновой дороги на Верхотурье, за Уральские горы, а Колва всё петляла меж седых дурнолесных гор, подпиравших низкое небо, и длинные плёсы сменялись звонкими перекатами, а те – порогами, которые проходили бечевой, чтобы пустить дощаник в следующий плёс, тихий и неподвижный, как тёмное зеркало. Берега сходились и расходились, в безветрие люто донимала мошка, гнулись вёсла, ломались в водяном стекле, а приметного знака на берегу всё не видно.
«Имею верные сведения», – говорил Ушаков, – «Что за Чердынью, в верховьях реки Колвы есть некий скит старообрядческий. В том скиту обретается будто бы великой святости старец Нектарий и многия люди к себе привечает. Пророчествует о скором конце света и готовит вознесение, а попросту – гарь, самосожжение. То, конечно, худо, но есть и того плоше. Рекомый старец пророчествует Страшный суд не иначе, как следствие реформ государевых, а восшествие на престол Петра Алексеевича равняет с воцарением Антихриста на земле русской. Самого царя называет Антихристовым семенем. Смекаешь? По всему Прикамью ходят берестяные списочки с изменными пророчествами Нектария, и ни Соликамский воевода, ни капитан-командор Свешников, командир соликамского гарнизона, ни дьяк Пустоватов, голова торгового приказа – источник тех списочков не выявили и не пресекли. Даже грамотки ни одной не заполучили. А по ревизским сказкам сего года работного люда на соляных варницах стало менее на пятую часть, чем в прошлом годе; служилого люда – на четверть; казачьего круга – вдвое; солдат гарнизонной роты – на одну шестую. Воевода отписывает, что де с конвоями пленных свеев, да по указу нового губернатора Сибири князя Гагарина, часть людишек отписана к Верхотурью, Тобольску, Тюмени да Томску. Но сколько? На бумаге одно, а на деле? И не потекли ли с теми конвоями да свеями в Сибирь дальнюю подмётные грамотки старца Нектария? Дознание воевода ведёт абы как, почитать его листы розыскные – так и вовсе никакого Нектария нет, и скита нет. С чего бы так? И в какое время? Государь новую морскую кампанию на Балтике начал, а с другого боку у него хула зреет как чирей. И царёвы слуги на то плечами пожимают. Это – во-первых. Нынче же имею на руках извет от диакона церкви Вознесения Господня, в том, что архимандрит Свято-Троицкого монастыря на реке Усолке, Феофил принимал у себя тайно человечка, у которого берестяной списочек старца Нектария есть, и он готов его передать, а заодно и указать приметы, по которым можно сыскать скит старца Нектария. Это, во-вторых. Феофил же в Монастырский приказ ничего об том не отписывал, с патриаршим местоблюстителем, экзархом Стефаном не сносился. Может, облыжно на него вину возвели, а может и нет… И это – в-третьих.
А ещё государь изволил рассуждать: «…что с раскольниками, которые в своей противности зело замерзели, надобно поступать вельми осторожно, гражданским судом…»
Вот и выходит тебе, господин асессор, быть в Соли-Камской не мешкая; начать дознание по подмётным списочкам громкое, на виду; снестись с диаконом, найти человека с грамоткой и вызнать место скита. Дознание своё так веди: никому не верь, имей подозрения на всех чиновных людей, да того не скрывай, и смотри, как себя поведут, что делать станут, что говорить… Ябед не страшись, они ко мне стекаться будут, и хоть в кровь расшибись, но заставь изменника себя выдать…»
«Заставь»…
Легко сказать.
Нет, дело своё Рычков начал затейливо и бойко, а то сказать – нахрапом и нагло, не чинясь. Многие имел беседы и с воеводой, и с капитан-командором, и с Пустоватовым; читал допросные листы, взятых на дыбу «словом и делом» воров; входил в купеческие дома, заводил знакомства да сиживал в трактирах пьяно и сонно; вёл беседы, слонялся на соликамском торжище; тихо сиживал в уголке приказной избы у таможенных дьяков да прислушивался к разговорам скучающих в ожидании подорожной купчишек; ходил с казаками и служилым людом на дощанике по селениям зырян, собирать ясак для воеводы, да всё выспрашивал про скит и лесного старца. Про скит зыряне ничего не знали, а про лесного старца рассказывали охотно, пока Шило – казак соликамского круга и десятник, – посмеиваясь, не поведал Ваське, что лесной старец у зырян – это такой русский лесовик, лешак, что присматривает за всеми лесными угодьями, и что на русских Вёрса зело сердит оттого, что много леса изводят, гонят с угодьев зверя, да без меры берут из рек и ручьёв рыбу… На вопросы, где живёт тот лесовик, зыряне лишь молча пожимали плечами да махали рукой в тайгу: вон, мол, лес, где ещё лесовику жить.
Беда, словом. Толку – чуть…
И с дьяком церкви Успения Святой Богородицы вышло неладно. Пропал по его человек с грамоткой. Как в Колву канул, да так ловко и без всякого следа, что сильные имел Рычков сомнения: а был ли такой человек вовсе?
«Был, но не в себе прибывал человече, Степане», – диакон говорил тихо, поминутно касаясь напёрстного креста и оглядываясь. – «И мой покой смутил. Не хотением, но случаем довелось мне быть при разговоре с архимандритом. Поначалу показаться я замешкался, а после боязно стало себя явить. Рек человек околёсицу, да такую, что в дурном сне не привидится. Хуже всего, что грамотку я видел. И письмена тарабарские, старообрядческую тайнопись. На вид – пермское письмо, что придумал просветитель зырян Стефан, когда киррилические буквицы меняются на греческие, но ещё фигурно прописаны. Не разобрал смысла, в руки-то мне грамотку никто не давал… Одно ведаю, из того что говорил Степан – ничего к старообрядческой, дониконианской ереси относится не может. Кликушества диавольские, безбожные. Не то чтобы с христианской верой не сродни, но даже и с остальными – магометанской ли, иудейской… Я ведь и в Приказ весточки подать не могу через голову Феофила, ни доказательства представить. И Степан этот канул, то каждый дён на паперти толкался, а теперь неделю глаз не кажет. Боюсь я господин асессор, в приходе-то нашем убавление – душ пятьдесят. Кто со чадами и домочадцами…»
Очень даже завлекательно. После нескольких дней пустопорожних встреч и разговоров появился у Рычкова некий следок: робкий, едва заметный, как заячий скок по первопутку. Недавний государев указ – «ни по церквям, ни по домам не кликать и народ тем не смущать» – прямо указывал Феофилу на надобность спровадить означенного Степана в острог. Но он этого не сделал. Старообрядческая грамота или нет – разбирать то должно было как раз Монастырскому приказу, а значит те письмена должны были попасть в руки архимандрита всеми правдами и кривдами и переправлены куда следует. Но не попали. И не переправлены. И если бы не донос диакона в Тайную канцелярию, то никто бы ничего и не узнал. Почему? А нет ли во всём этом какого умысла? И если архимандрит не спровадил кликушу под арест, то не сделал ли этого кто-нибудь другой?
«А-а-а, что-то припоминаю», – капитан-командор Свешников промокнул краем манжеты жирные губы. Командир Соликамского гарнизона изволили обедать холодной бужениной и сёмгой, закусывая рябиновую настойку красной икрой. «Господина асессора» за стол не пригласил. – «Был такой. Взят на торжище за кликушества непотребные. И на дыбе упорствовал. Нет, никаких письмён, ни тарабарских, ни прочих грамот при юродивом не найдено. Что? Батогами был бит… и вся недолга. Где? Да в порубе, где ж ещё. Если не кончился совсем…»
Испросив дозволения на посещение острога и получив его, уже в дверях Васька невинно поинтересовался, а не тот ли есть господин капитан Свешников, что в авангарде драгун Гебхарда Флуга захватил на реке Сож четыре тысячи повозок обоза бегущей армии Левенгаупта при Лесной, но тут же себя одёрнул – ах, нет, не тот. «Тот» Свешников пал доблестной смертию в драгунской атаке под Полтавою…
Вышел Рычков, ухмыляясь в усы: «Нате вам, господин капитан, закусите рябиновую»…
А вот в поруб, обустроенный среди прочих прямо в острожном валу, пришлось лезть. Провожатый солдат отомкнул запор и откинул крышку с провала, дохнувшего смрадом и темнотой. Намерений лезть внутрь служивый не выказал, запалил кресалом факел, сунул Рычкову светоч и безучастно уставился в серое сибирское небо: надобно, мол, ты и полезай, – не дознание, на дыбу тащить не велено. Из ямы, в которой дневной свет едва ощупывал бревенчатые стены лаза, не доносилось ни звука. «А вона – дробына», – махнул рукой солдат, выдавая малоросское своё происхождение. Ну, конечно, и лестницу сам…
Цепляясь за осклизлые брёвна, Рычков полез в поруб, погружаясь в смрадный сырой дух и темень, как в колодец с загнившей водой. Тут и факел горел слабее, словно не хватало воздуху. Смрад забил Ваське глотку и щипал глаза. Асессор закрыл нос рукавом, в голове ухало лесным филином. Ступил на земляной пол, поднял светоч перед собой…
По стенам ползут мхи, в середине, в земляном полу – отхожая яма, у стены – нары, а на досках мятая куча тряпья, в грязных складках прячутся багровые отсветы, перескакивают в мшистые швы сруба, подмигивают искрами в каплях влаги, раскачиваются на бледных корешках, свисающих из потолочных щелей, и давит на выю многопудовая толща земли острожного вала…
«Эй, Степан», – позвал Рычков. – «Живой ли?..»
Куча зашевелилась. Косматая голова поднялась над тряпьём, и налитый кровью глаз уставился на Ваську. Второй заплыл гулей, ресницы слиплись грязью, пряди свалявшейся бородёнки путались с нитями грубого рядна. Глаз смотрел мутно, узник не подал голоса.
«Слышишь меня? Нет?» – ответа не дождался. – «Сказывай, как найти старца Нектария. Где его скит, сколько людишек к нему прибежало. Кому отписаны тарабарские грамотки. Всё сказывай…»
В грязной бороде открылась красная щель с обломками зубов, тряпьё заколыхалось, в глубине кома заворчало, заклокотало, и утробный хрип вырвался наружу. Рычков шагнул ближе, сторонясь отхожей ямы.
«Смеёшься?! На дыбу ещё захотел?! Говори, где старика сыскать!»
Ухватил осклизлую рогожу, дёрнул с хрустом и выпустил тряпьё из рук. Узник лежал на животе. Спина, иссечённая батогами, вспухла почерневшими шрамами, с которых Васька отодрал коросты вместе с тряпьём. Белые черви слепо и беспокойно копошились в разодранной плоти. Смрад усилился. Степан вцепился Рычкову в рукав костлявыми пальцами, приподнимаясь. Открытый глаз сверкал отсветами факела.
«Старичка сыскать?» – заговорил он расщеплённым голосом, – «Старичка сыскать? Старичка-лесовичка, хе-хе… Сыщешь, господин, сыщешь… Я научу… и грамотку перескажу…»
Паучьи пальцы мяли рукав Васькиного кафтана и ползли вверх. Грудь и плечи узника запеклись ожогами. Рычков разглядел на едва оструганных досках нар налипшие ошмётки мёртвой кожи. Отшатнулся, но Степан его не выпустил, с силой потянул к себе…
«Тебе, в душу твою вкладываю слово божеское… Коли пуста душа твоя, омертвела и неживая, как поле мёртвых, куда был взят пророк Иезекиль, коли нет там ничего, кроме пыли и праха, упадёт слово в мёртвую сухую землю и погибнет без всхода, и не будет тебе преображения по слову божескому, ни спасения, ни вознесения. Хладный ветер понесёт душу твою по пустыне Антихристовым семенем…»
Степан выкрикивал Рычкову в лицо юродивый речитатив, давясь словами и смрадным воздухом и смрадом же дыша асессору в лицо: жарким, горячечным. Со спины осыпались черви, и глухо постукивали о нары в паузах, когда кликуша набирал в сожжённую грудь воздуха.
«…А коли душа у тебя унавожена благочестием и ищет спасения, орошена слезами страдания и страждет жизни иной, слово божеское даст ростки истины, и окрепнут они и потянутся ввысь, преображая сердце твоё, и помыслы, и дела… Укрепят силу твою корни праведные, и никакие соблазны земные и козни диавольские не сподвигнут тебя с пути вознесения к богочеловечеству, устремлений праведных, и спасению от антихриста…»
Мох в щелях сруба зашевелился, с подволока посыпались комочки земли и раскачивались бледные корни. Рычков упирался, отталкивая от себя юродивого, факел в руке затрясся. Смрад в порубе загустел, стены сжались, словно в колодце, и белый свет в люке померк, лестница исчезла. В чёрном квадрате вызверились неведомые звёзды…
«…а буде так, что слово божеское всходы даст, да возьмётся их душить терние, то здесь без помощи Нектария не обойтись…»
Васька зарычал и ткнул факелом в распяленный рот. Степан выпустил асессора. Стены отскочили, раздались. Рычков оступился и угодил ногой в выгребную яму. Опрокинулся, ударясь спиной – лестница! Лестница! – уцепился за перекладины, подтянулся и полез спиною наверх, размахивая почти угасшим факелом перед собою, низом…
«В верховьях Колвы-реки Нектарий живёт», – неслось из темноты, – «У святого озера скит. И путь к нему с первой буквицы начинается. Аз! Аз берёзовый!.. Слышишь, человече?!..»
Рычков вывалился из погреба, как из проруби выскочил, завалился на спину, и гранатным разрывом рвал голову дикий крик – «Аз берёзовый, внимай, Аз!» – пока крышка поруба не придавила завывания с глухим гробовым стуком. Шипел, угасший в траве факел…
Васька перевёл дух, глотнул чистого воздуха, криво усмехнулся. А ведь и напугал его юродивый, как ни турок ни швед не пугали. Аз берёзовый… То ли ещё в допросных листах понаписано…
«Нету, господин асессор, тех листов», – сокрушался Пустоватый, моргая крохотными поросячьими глазками, – «Приказный подьячий, что при допросах вёл записи, спешным порядком по указу воеводы отбыл с последним обозом в Тобольск ещё третьего дни. Не то он их с собой прихватил второпях, не то оставил для дознания капитан-командору – как знать? Может, и сам воевода к себе повелел принести… Дык, велика ль беда? Кликуша – в узилище. Допытать по новой…»
Не пришлось допытать. Помер Степан. Или не Степан…
«И как это он дух испустил в аккурат после твоей визитации, а?» – щурился на Рычкова воевода Баратянский: седой, грузный, с пунцовыми лоснящимися щеками. – «Нехорошее что-то в этом вижу, да не в упрёк тебе, господин асессор, то будет сказано. Нет, дела этого я не знаю и допросных листов человека Степашки не видел. Мало ли у меня забот? Посадские, купчишки, соляные варницы, караваны, торжища, разбойные людишки окрест, жалобщики и доносчики… Нет, батюшка, в монастырские дела мне лезть не с руки. Кого там святые отцы принимают, о чём беседуют – то дело божеское, духовное. Но коли Феофил кликушествам ходу не дал – значит и нужды такой нет, а? Как думаешь?! Слухи о ските за Чердынью и старце Нектарии имеют хождение, так оно на то и слухи… По всему Уралу и далее старообрядческие еретники разбежались, бесчестят словом и государя и порядки, сеют в умах брожение, к гари склоняют малодушных и заблудших… Но, заметь, господин асессор, с проповедями по земле не ходят. Живут в своей ереси тайно, и гарь творят только когда у ним приступают… Что? Берестяные грамотки старца Нектария? Ты их видел? Верно ли в них сказано, что тебе кликуша наговорил? Как теперь проверишь? Вижу, вижу к чему ты клонишь, только сам посуди, возможно ли, чтобы государев воевода, монашеский верховный чин и воинский начальный человек состояли в некоем сговоре, укрывая невесть чего, да ещё и против государя устремлённого? В своём ли ты уме, батюшка?! Мне, старику, и слушать про такое невместно, а по здравому рассуждению то – зачем такой заговор, к чему? От столиц мы далече, делом заняты государевым, для пополнения казны, приращения земель российских. Не по писанному выходит? Экая беда?! Соль, пушнина, руда, таможенные да торговые выгоды куда идут? От то-то… Что?! Народишку убыло? Господь с тобой! Через Соль Камскую тыщщи проходят человеков: и на запад, и на восток. Что теперь прикажешь, за каждым розыск чинить?! Нет, господин асессор, твое дело государево, особливое – тебе и розыск. Имеешь охоту на каждое кликушество гишпедицию снаряжать – мешать не стану. Скликай охотников на казацком круге, дощаник бери, дам; и полувзвод солдат. Более не могу, не серчай. Службы то в Соли Камской, я чай, не убавилось…»
Поглотила Ваську Сибирь, как есть с потрохами поглотила…
***
К исходу третьей седьмицы воинство Васькино зароптало.
Стали свободные от гребли кучками собираться, то у норы, то на кичке – от господина асессора далее, – шептаться и сверкать зло глазами из-под насупленных бровей. Измождённые лица опухли от укусов мошки, застарелые струпья расчёсов гноились. Дощаник окутывался табачным дымом, который пронырливый ветер растаскивал по-над Колвой грязными тающими клочьями. Табака то мало осталось. Это Васька знал. Всю полбу сварили и съели пять дён тому. Рыба стояла поперёк горла, и пустую ушицу хлебать – охотники перевелись: последние крошки хлеба уже вытрясли из мешков. С голоду, понятно, не пухли, но вынужденное безделье, однообразие ломовой работы и вид угрюмых берегов без края и конца осаживали дощаник сердечной тугой всё ниже и ниже, того и гляди через борт хлестнёт студёной водицей…
Рычков вострил шпагу и чаще чистил пистолеты, кляня и старца, и неведомый скит, и самого Ушакова с его дознаниями. От табака во рту стояла горькая оскомина, тело немилосердно чесалось, но горше телесных немочей донимали мысли: а ну как и впрямь нет никакого Нектария, морока одна да небылицы, и прав воевода Баратянский, но в Петербурге того не объяснишь, а значит быть Ваське драну батогами как сидоровой козе, да судьба сгинуть в каменных мешках демидовских рудников. А то и того хужее – навалятся прямой сейчас гуртом, намнут бока до беспамятства, да пустят за борт в студёную и прозрачную волну. С тем в Соль Камскую и воротятся: пропал де совсем господин асессор…
…К полудню развиднелось, разошлись в синем небе прозрачные облака, и солнечные зайчики играли в брызгах под ударами вёсел. На стрежени дощаник шёл тяжело, в сиплые ритмичные выдохи гребцов и скрип уключин стал вплетаться отдалённый рокот, словно где-то над горной грядой одесную ходила невидимая грозовая туча. Поносное весло убрано и вытянулось вдоль борта. Распущенный парус на райне вяло шевелился. Вперёдсмотрящий, оседлав бушприт, вытянул шею. Плечи его выдавали напряжение…
От казацкого кружка на кичке отделился Шило и, перешагивая скамьи, цепляя их ободранными ножнами татарской сабли, направился к асессору. Васька незаметно взвёл курки пистолетов под плащом, невозмутимо разглядывая переносье десятника: обгоревшее на солнце, расчёсанное в лоскуты сползающей кожи. Тумак с овчинной опушкой заломлен на ухо, концы вислых усов вросли в окладистую бороду, словно корни, серьга в ухе вспыхивала на шаге золотой искрой. Варнак и есть…
– А что, кошевой, – сказал Шило, щуря плутовской глаз, – Не пора ли братам вёсла сушить? Который уж дён идём – нет приметного знака. Может, и скита никакого нет, враки одни…
– В гишпедицию вас никто силком не тащил…
– Так то оно, конечно. Охота пуще неволи, – согласился Шило. – Токмо не упустили ли знак то? Не просмотрели? В зырянские селения заходить не даёшь, кумирницы языческие искать не велишь. Разве сказано, что знак с реки виден?..