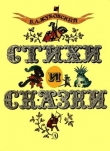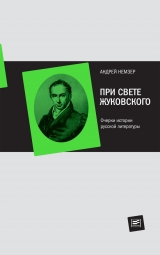
Текст книги "При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы"
Автор книги: Андрей Немзер
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Это чувство властно, хоть и по-разному, проступает в двух следующих книгах, выпуская которые Гоголь уже не прятался под маской пасичника Рудого Панька, но выставлял на обложках свое имя. «Арабески» могли опередить изданием «Миргород» и по стечению случайностей, но, по сути своей, это пестрое собрание разножанровых опытов действительно «моложе» (а потому – светлее и оптимистичнее) четырех тесно меж собой сцепленных малороссийских историй. Раздробленной и измельчавшей современности в «Арабесках» противопоставлено не только кипящее жизнью, деятельное и величественное прошлое (средневековье и украинская старина), но и чаемое прекрасное и цельное будущее, предтечами которого выступают великие художники – Пушкин, Брюлов и сам автор. Он, равно сведущий в искусствах и науках всех времен и народов, уже готов приступить к возведению колоссальных зданий – к начертанию всеобщей географии и всемирной истории. Он может запечатлеть в историческом романе (представлен в «Арабесках» двумя фрагментами) величие минувших времен и правдиво поведать о дьявольских соблазнах и комических страстишках нынешней пошлой, меркантильной и суетной повседневности. Он хранит верность духу могущественной музыки, которая призвана преобразить и спасти доставшийся Гоголю и его читателям «дряхлый и юный век». Здесь, однако, потребны оговорки.
Погибает плененный наваждением художник Пискарев. Забывает об оскорблении и радуется пирожкам и мазурке одураченный другой подменой и опозоренный поркой поручик Пирогов. Лжет во всякое время Невский проспект, где «сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде». Но все же враг рода человеческого назван по имени, его изобретательно глумливая ложь изобличена, а заключительный авторский монолог уводит нас из химерного пространства сверкающих витрин, завлекательных дамских шляпок (Перуджинова Бианка, оказавшаяся проституткой, стоит добропорядочной немецкой мещаночки, принятой за искательницу приключений) и рождающих опасные миражи фонарей.
Губит свой дар, становится ненавистником истинного художества и в чудовищных мучениях умирает Чертков. Но антихристу не пришла еще пора воплотиться – нарушить великий естественный уклад бытия. Художник, невольно послуживший силам тьмы, искупает свой грех. Пречистая Дева, чей лик смог достойно запечатлеть ставший монахом раскаявшийся живописец, обещает ему, что зловеще «живой» и неуклонно сеющий зло портрет ростовщика-антихриста (тот самый, что, одарив Черткова свертком червонцев, подтолкнул его к отречению от искусства во имя довольства и ложной газетной славы) в положенный срок исчезнет. Что и происходит в финале повести, когда сын монаха-живописца, некогда приписавший рассказ отца о демоническом портрете «распаленному его воображению», по неведомому наитию заходит на аукцион и раскрывает случайным слушателям антихристову тайну. Художник легко может соскользнуть на стезю Черткова, но вовсе не обречен стать орудием адских сил. Земной – изначально благой – миропорядок постоянно искажается и слабеет, но сопротивление злу возможно и в преддверье последних времен.
В завершающей «Арабески» повести с ума сходит не музыкант (этот, типовой для романтической эпохи, сюжет Гоголь занес в план будущей книги), а заурядный титулярный советник, униженный своим прозябанием и исполненный самодовольства, тщетно и глупо мечтающий каким-то чудесным образом выскочить из привычного амплуа. Безумие Поприщина растет из той действительности, где «всё, что есть лучшего на свете, всё достается или камер-юнкерам, или генералам». До времени свихнувшийся (читающий собачью переписку) персонаж остается таким же фигурантом этого вывихнутого мира, как и его «нормальные» обитатели. И открытие, вдруг настигшее прилежного читателя иностранных известий «Северной пчелы», сперва кажется лишь гротескным выражением его мизерабельного, завистливого и безуспешного желания выйти в «большие люди». «Да разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором, или интендантом, или там другим каким-нибудь? Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?» – вопрошает Поприщин незадолго до мига откровения, низвергнувшего прежде всего надоевший размеренный календарь. Основательные размышления о европейской политике вообще и испанских делах в особенности помечены скучным «Декабря 8», но приходит «день величайшего торжества» ( «Год 2000 апреля 43 числа»), и, наконец-то осознав себя пропавшим (нашедшимся) испанским королем, Поприщин стряхивает прах титулярного советника. Чем сильнее недуг героя, чем абсурднее его умозаключения, чем экстравагантнее поступки, тем больше открывается в «чиновнике» живой, страдающий, жаждущий справедливости и добра человек. Несчастный безумец, озабоченный спасением луны, духовно выше «нормальных людей», которые твердо знают, что земля на этот «нежный шар» никогда не сядет и обитающие там человеческие носы не раздавит. Поприщин превратился в истинного мудрого и великодушного государя, который чтит «народные обычаи», печется обо всем мироздании и царственно пренебрегает «бессильною злобою» великого инквизитора (надзирателя в сумасшедшем доме), «зная, что он действует как машина, как орудие англичанина». В открывающей «Арабески» статье Гоголь восклицал: «Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?» Музыка, исчезнувшая из мира, что прельстился всевозможными мнимостями (чертовым золотом, которое рано или поздно обратится в сор), возникает в последней из «записок» безумного титулярного советника, измученного испанского короля. Перед окончательным уходом в небытие Поприщин слышит звон колокольчика спасительной тройки, которому вторит таинственная струна в тумане. В освобождающем от мук полете он видит истинный мир, совсем не похожий на тот, в котором столько лет обретался. «…С одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит под окном?» Мать – как в лирическом размышлении «Жизнь», где гордящиеся ложной мудростью, но омертвевшие, чуждые истинной жизни, великие страны древности обращают взоры к востоку: «В деревянных яслях лежит Младенец; над Ним склонилась непорочная мать и глядит на Него исполненными слез очами». Мать – как в «Портрете», где, исполнившись духом благочестия и раскаяния, живописец-монах изобразил «Божию Матерь, благословляющую народ». Поприщину не спастись. Обращенные к матушке (и, как кажется, стоящей за ней Богородице) мольбы страждущего сбивает вспышка газетно-политического бреда («А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?»), но – вопреки логике сюжета – доминирует в «Записках сумасшедшего» (а значит, и в целом сборнике, который повесть эта замыкает) не отчаяние, а светлая грусть, оставляющая надежду на исцеление и прозрение многочисленных безумцев, на обретение ими царственной (человеческой) стати, на спасительную силу таящихся в мире любви и сострадания.
Совсем иная тональность господствует в «Миргороде», где многоликое зло празднует победу в каждой из четырех повестей. Исчезает благословенный хутор старичков Товстогубов – у замкнутой на себе идиллии нет и не может быть продолжения, ибо у живших одной только любовью друг к другу старосветских помещиков не было (и, кажется, быть не могло) детей. Пульхерия Ивановна ласково привечала любого пришельца, укрывала его во всегда теплом доме с поющими (музыкальными) дверями от холода внешнего мира, заботилась о госте, как о родном, но лишь до той поры, пока смерть не предъявила свои права. Беспредельная и не отступающая под напором времени любовь Афанасия Ивановича к усопшей супруге, быть может, вознаградится загробным соединением, как происходит с юными героями баллад Жуковского (впрочем, об этом повествователь умалчивает), но земной Эдем (где оголтелое воровство дворни не могло подорвать вечного счастливого, без забот дающегося изобилия) подчинится всеобщим экономическим законам – волшебный хутор превращается в обычную нищую деревню с разваливающимися избами и бегущими невесть куда мужиками.
Гибнет род могучего Тараса Бульбы – навсегда уходит в предания эпоха безудержной, безбрежной и безжалостной, не знающей личных чувств козачьей воли. Казнен отцом соблазненный ведьмой-полячкой Андрий, замучен в Варшаве истинный отцовский сын Остап (и не помогли ему хитрости и унижения, на которые пустился Тарас, как не помогли Андрию ляхи), справляя кровавые поминки по сыну, рассорившийся с гетманом и полковниками старый Бульба справляет их и по себе. Вслед за идиллией невозвратно завершается героический эпос. (Во второй – привычной нам – редакции Гоголь несколько смягчил общее трагическое звучание повести речью заглавного героя о русском товариществе, что выше родства, и пророчеством объятого пламенем Тараса: «Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымется из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!..»)
В «Вие» камня на камне не остается от сказочного канона, согласно которому правильно действующий герой (нередко, подобно Хоме Бруту – сирота) побеждает зловредную нечисть, добывает чудесную невесту и обретает высокий (часто – царский) статус. Хоме не помогли ни первоначальное сопротивление похотливой старухе и учиненная над ней расправа, ни попойки со слугами сотника (которые должны были бы обернуться его волшебными помощниками, а остались – прекрасно зная о бесовстве панночки – верными исполнителями господской воли), ни мужество первых двух бдений в храме, ни попытка бегства (из заколдованного пространства не вырваться), ни молитвы и крестные знаменья. Выдержавший нападения мелкой нечисти, Хома пасует, когда в игру вступает само зло, воплощенное в страшном и странном (скорее всего самим Гоголем придуманном) заглавном персонаже повести. «Не гляди!» – шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он, и глянул». Зло неодолимо притягивает к себе (испытал же скачущий с ведьмой на спине Хома «какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство»!), и гибели обречен всякий, кто почему-то приглянулся темным силам. Выбравшая Хому ведьма не проявила какого-либо интереса к его спутникам. Вот они и живут по-прежнему. В редакции 1834 года богослов Халява и ритор Горобец, расставшись с Хомой в хате ведьмы, вовсе исчезали из поля зрения читателя; позднее Гоголь заставил их в финальном фрагменте весело поминать приятеля и здраво толковать о причине его гибели. Излагая рецепт «правильного» обращения с ведьмами, Горобец наглядно демонстрирует не столько свою забубенную дурь, сколь всеобщую слепоту людского племени, не желающего уразуметь, какую силу обрело в этом мире безликое и непонятное зло.
Это зло сперва тихо оплетает беспечную и по-своему приятную жизнь двух почтенных обитателей Миргорода («нарочито невеликого при реке Хороле города» – согласно справке из Географии Зябловского, ставшей первым эпиграфом книги Гоголя), а потом, прикинувшись старым ружьем, вздорной бабой, бурой свиньей, обращает их бытие в настоящий ад. Как бы ни потешался, прикрывая пышными величаниями язвительную издевку, над Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем рассказчик их истории в ее зачине, как бы ни презирали мы этих «несмотря на некоторые несходства» равно «прекрасных людей», как бы ни кипели праведным гневом на их бессмысленное существование, должно признать: покуда не было вытащено на свет ружье Ивана Никифоровича, воспламенившее страсть в душе Ивана Ивановича, нарочито невеликий город вполне соответствовал своему тихому имени. Не зря же забилось сердце рассказчика, когда он после двенадцатилетнего отсутствия подъехал к Миргороду. «Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитых людей <…> Я въехал в главную улицу: везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы: производилась какая-то новая планировка! Несколько изб было снесено. Остатки плетней и заборов торчали уныло». Смерть и разрушение привычного (а потому – милого) старинного порядка стоят в одном ряду с омертвением двух былых друзей, упоенно отдавшихся бесконечной нелепой тяжбе. В плюшкинской главе «Мертвых душ» Гоголь скажет о том, что старость страшнее могилы. Такова старость двух Иванов, каждый из которых свято убежден, что если не завтра, то на днях его тезка-супротивник (некогда – лучший друг) будет наконец повержен. Нет больше смешной дружбы, которая все же несравнимо лучше, естественнее, человечнее бессмысленной и убивающей душу вражды. Нет больше старого доброго Миргорода, властителям и гражданам которого не удалось примирить соседей с разными по форме, но одинаково пустыми головами. Не на что больше надеяться путешественнику, покидающему город, в котором «бублики из черного теста» то ли уже не пекутся, то ли потеряли свой прежний вкус. История о том, как дружба сменилась томительной и яростной враждой, была написана раньше трех остальных повестей, вошедших в «Миргород», и ее мрачная тень ложилась на страницы умирающей идиллии, умирающего эпоса, умирающей сказки. Поэзия кончилась – одинокому путнику, покидающему ставший чужим Миргород в промозглый серый день, не на чем остановить восхищенный взор. «Опять то же поле, изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. (Вот чем обернулся раздольный и прекрасный, переливающийся всеми цветами и поющий на все голоса степной простор “Тараса Бульбы”. – А. Н.) – Скучно на этом свете, господа!» [162]162
Некоторые аспекты смыслового единства (общего скрытого сюжета) «Миргорода» рассматриваются в статье «Еще раз о Гоголе и В. Т. Нарежном».
[Закрыть].
Этот скучный, холодный, заменивший чувства приличиями и интересами, чуждый поэзии, разучившийся отличать добро от зла, утративший внутренние связи, распавшийся на куски мир, это фальшиво прикидывающееся живым царство побеждающей смерти, где человек постоянно обманывает не только других, но и себя самого, эта забывшая о Творце мнимая противоестественная «реальность», в которой всякий час может объявиться и воцариться антихрист, будет вновь и вновь возникать под пером Гоголя. В наступательно абсурдном, дразнящем рискованными намеками, закончившемся внешним торжеством пошлого порядка (из которого и родился сюжетный беспорядок) рассказе о носе, который покинул своего хозяина и прикинулся статским советником. В «совершенно невероятной» (изумительно достоверной психологически) комедии, где невеста соглашается пойти под венец с человеком, ничем не превышающим прочих претендентов на ее руку, а счастливый жених срывает свадьбу, безболезненно выпрыгнув в окно. В простой и внешне безыскусной (восхищавшей Льва Толстого) истории о печальном и смешном следствии заурядного азартного хвастовства («Коляска»). В филигранно выстроенной короткой пьесе, где поднаторевший в обманах мошенник оказывается не могучим «игроком», а жалкой жертвой игры своих более изощренных партнеров. В повести о неприметном робком чиновнике, все душевные силы которого ушли сперва на «постройку» шинели, а потом на страшную месть тем, кто, закутавшись в теплые меха, не заметил ни похищения возлюбленной бедняка, ни его предварительного бунта, ни его смерти. Этому миру Гоголь хотел напомнить о том, что такое истинная жизнь, в переработанных версиях «Тараса Бульбы» и «Портрета», в формально незаконченном (но отданном на суд публике, то есть бесспорно очень значимом для писателя) отрывке «Рим», том единственном сочинении, где автор отвел взор от России. Над этим миром Гоголь вершит страшный суд в «Ревизоре», обвиняя героев не только за то, что они манкируют обязанностями, пекутся о видимости, а не о вверенном им деле, сплетничают, суесловят, пишут доносы, распечатывают письма, берут и дают взятки, но – и в большей мере – за то, что они легко и радостно поддаются на обольщающий обман, влюбляются в ложного ревизора и верят, что тот простит им любые грехи и исполнит все заветные желания. Этот мир Гоголь стремится освободить от злых чар, претворяя забавный анекдот о несбыточной афере в поэму о воскресении всех мертвых душ и полном преображении России.
Мог ли художник, уверенный в своем особом назначении, поставить перед собой более высокую (и опасную) задачу? Что бы случилось, заверши Гоголь второй, а затем и третий том «Мертвых душ»? Ответа нет и никогда не будет. Спросим иначе. Вправе ли мы сетовать, что создатель «Ревизора» и первого тома «Мертвых душ» (не говоря о других его свершениях) чего-то недоговорил? Не совестно ли требовать большего? Можно ли писать по-русски объемнее, выразительнее, неожиданнее, смелее, фантастичнее, достовернее, проникновеннее, чем это удалось Гоголю в двух его вершинных шедеврах? (Не будь у нас Пушкина, Достоевского и Толстого, не было бы вопроса. Но они есть.) Можно ли не подчиниться достовернейшим миражам гоголевской прозы, не почувствовать себя раз и навсегда, по острому слову Набокова, «гоголизированным»? Так и происходит. Но и войдя в мир Гоголя, мы все никак не можем там «обжиться». Подбираем изысканные интерпретации. Смакуем изумительные детали. Наслаждаемся игрой слога. А все как-то неуютно. Дует. Сквозит. Манит неведомо куда. Будоражат, смущают, раздражают какие-то неуловимые мелочи, вдруг вырастающие грозными горами. Что-то все время (второй уж век) мешает. «Нет, это не то место <…> – гумно видно, а голубятни нет!» Никак не дается завороженный клад – никак не унимается тревога, о которой писал Блок.
Мы все еще ждем разгадки гоголевской тайны. Поэтому старательно ищут второй том «Мертвых душ», хоть и известно, что был он сожжен в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года. Поэтому утешаются блестящей и по-дьявольски лживой фразой булгаковского Воланда: «Рукописи не горят» (горят, и очень даже неплохо, Булгаков это знал не понаслышке). Потому не прекращается спор о том, кто надеялся воскресить словом «мертвые души», о его книгах, о его жизненном деле, о его душевной муке, о том, с чем он пришел в мир и с чем ушел.
Вскоре после смерти Гоголя князь Вяземский написал стихотворный цикл «Поминки». Стареющий поэт почтил память ушедших друзей – Пушкина, Дельвига, Языкова, Жуковского. Есть в нем и стихотворение о Гоголе. Это далеко не самые удачные стихи Вяземского. Они, большей частью, холодноваты, а местами и вовсе кажутся сложенным по заказу и по неведомой причине зарифмованным журнальным некрологом. Но среди строф, составленных из дежурных комплиментов и обязательных, чуть измененных гоголевских цитат, есть одна, резко выпадающая из интонации почтительной скороговорки над свежей могилой. В этой строфе Вяземский вдруг сказал о Гоголе вполне по-гоголевски:
Тенью вечного покрова
Дум затмилась красота:
Окончательного слова
Не промолвили уста.
Тут и единство красоты и думы, столь дорогое писателю, и его жажда последней правды, и горечь утраты, и сознание ее невосполнимости. Эти четыре строки видятся лучшим надгробным словом Гоголю. Контрдоводы понятны. И приведены выше.
1984, 2009
Еще раз о Гоголе и В. Т. Нарежном
Воздействие романов В. Т. Нарежного на Гоголя в пору создания «Миргорода» отмечалось неоднократно, начиная с Белинского и Аполлона Григорьева и кончая современными исследователями. Напомним наиболее очевидные, а потому чаще других приводимые параллели: описание бурсы в «Бурсаке», «Вие» и «Тарасе Бульбе»; мотивы казацких войн в «Бурсаке» и «Тарасе Бульбе»; названия романа Нарежного о двух Иванах и гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»; мотивы разорительной тяжбы, возникшей по пустяковой причине и обросшей мелкими каверзами и пакостями, в тех же произведениях; сходство сцен блуждания бурсаков в «Двух Иванах» и аналогичной – в «Вие». Уже этот список отчетливо сигнализирует о системности обращения Гоголя к определенным («Бурсаку» и «Двум Иванам…») текстам Нарежного. Вместе с тем необходимо отметить еще два немаловажных момента.
Во-первых, Гоголь маркирует свои отсылки к Нарежному, помещая их в достаточно приметные позиции – здесь наиболее показательны ориентация названия на известный образчик и совпадения в описании сцен блуждания («Два Ивана» и «Вий») – они открывают повествование, а потому особенно приметны. Во-вторых, выделенные Гоголем «цитаты» бросают дополнительный отсвет и на более спорные случаи, появление которых, в принципе, можно было бы объяснить сходством объектов описания либо общим «праисточником».
Маркированность поддерживает системность, вместе они приводят к третьему важному качеству гоголевских цитат – семантической наполненности.
Подобная постановка вопроса не была характерной для исследователей интересующей нас проблемы. Творчество Нарежного осмысливалось ими как своего рода «бытовой материал», позднее возведенный Гоголем в «перл создания». У исследователей начала XX века Гоголь следует за Нарежным, у советских – борется с ним. Однако замена «следования» «борьбой» не меняет дела, так как «новый» тезис модифицирует не суть проблемы, но лишь стилистическую тональность разговора о ней.
Для того, чтобы литературный диалог осуществился, необходимо наличие двух полноправных голосов, двух разных (это не означает равнозначимых) художественных систем. В противном случае возможны только частные заимствования, которые незачем маркировать писателю, которые безразличны читателю и представляют интерес (порой очень серьезный) лишь для историков литературы (исследования генезиса текста, но не его структуры и смысла).
Дабы наполнить смыслом тезис о борьбе Гоголя с Нарежным, рассмотрим, как трансформируется эпизод из «Двух Иванов…» – блуждание бурсаков Короната и Никанора.
«Ужасная гроза свирепствовала на летнем полуденном небе: зияющие огни молнии раздирали клубящиеся тучи железные; рыкающие громы приводили в оцепенение все живущее в природе; неукротимые порывы вихря ознаменовали путь свой по земле рвами глубокими, отчего взлетело на воздух все растущее, начиная от низменной травы до возвышенного тополя, и проливной дождь в крупных каплях с быстротою стрел сыпался из туч, подмывал корни древесные и тем облегчал усилие вихря низвергнуть их на землю» [163]163
Нарежный В. Т. Сочинения: В 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 316. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в скобках тома и страниц.
[Закрыть].
Это самое начало романа; пейзажная зарисовка предшествует знакомству с героями и описанию сюжетной ситуации. Пейзаж выдержан в гипертрофированно зловещих тонах – недаром в первой же реплике одного из героев возникает мотив потопа. Гроза у Нарежного экстраординарна и резко контрастна тому, что было до нее (слова о «летнем полуденном небе», видимо, не предвещавшем дурной погоды).
У Гоголя в «Вие» дело происходит совсем иначе. Мы прежде узнаем героев, уясняем ситуацию и лишь затем сталкиваемся с чем-то непривычным. Поначалу события в «Вие» развиваются вполне естественно: день сменяется ночью, и происходит это не «вдруг» (как у Нарежного): «Был уже вечер, когда они своротили с большой дороги», «Сумерки уже совсем омрачили небо…», «Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная» [164]164
Гоголь Н. В.Полное собр. соч.: <В 14 т.>, <М.; Л.>, 1937–1952. Т. 2. С. 181–182. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в скобках тома – римскими и страниц – арабскими цифрами.
[Закрыть].
Бурсаки как у Нарежного, так и у Гоголя ищут какого-то пристанища или укрытия. Коронат и Никанор находят его довольно легко, пережив, однако, приступ страха. «Тут философы увидели, что войлок пошевелился, послышалась сильная зевота, и медленно две ноги показались, сейчас послышался басистый голос: “Ну, что ты?” – и еще две ноги выставились.
Мои студенты всполошились, да и не диво: всякая нечаянность приводит нас в недоумение, а недоумение рождает боязливость, отсутствие духа и делает не способным ни к чему путному» (2, 318).
Уже прежде бурсаки мельком (почти в междометной форме) помянули лешего. О хозяине кибитки, к которой направились герои, говорится: «Пусть это будет сам леший, то и он не поступит с нами хуже теперешнего» (2, 317). Странное «поведение» войлока едва не убедило бурсаков в том, что хозяева кибитки «лешие» или «вовкулаки». Аналогично – жутковатый вид самих героев заставил испугаться хозяев (ср. выше, в реплике Короната о Никаноре, который похож «на того окаянного <…>, который, вопия под ударами огненного меча архангела Михаила, клубится по земле у ног его» – 2, 318). Взаимный испуг героев не распространяется на читателей; Нарежный далек от того, чтобы последовательно выстраивать фантастическую картину; она задается только легкими штрихами, довольно быстро снимаемыми. Для героев же фантамагоричность происходящего существенна: вначале гроза, а потом встреченные персонажи предстают пугающими, чужими. Обыденное готово стать фантастическим и/или враждебным.
Однако превращения «своего» в «чужого» не происходит. Страшная гроза заканчивается, а потенциальные «лешие» или «вовкулаки» оказываются обычными людьми, более того – ближайшими родственниками путников: Коронат и Никанор встретились в лесу со своими отцами, Иванами – Зубарем и Хмарою. Подобные ошибки (обыденное принимается за враждебное) в романах Нарежного не редки. Например, в «Бурсаке» (ч. 1, гл. 4) Неон Хлопотинский принимает Евгению и Леонида (в будущем открывается, что это его родители) за ведьму и дьявола (2, 26–28); в дальнейшем он же, попав на хутор пана Мемнона (тот же Леонид), почитает себя оказавшимся в вертепе разбойников (2, 40–49) [165]165
К этому эпизоду (ч. I, гл. 4–8) мы еще вернемся.
[Закрыть]. Случаи, вроде отмеченного выше, манифестируют важную особенность того мира, что описывается Нарежным: это мир однородный; в нем возможны эксцессы, случайности, совпадения, путаница и т. п., но все они находят естественное объяснение, укладываются в обычные нормы. Точно так же и герои Нарежного могут легко менять свое обличье (маскарадные мотивы активно обыгрываются в «Бурсаке» и в «Двух Иванах…»), выдавать себя за кого-то другого, но при этом они сохраняют внутреннее единство (Коронат и Никанор могут предстать в виде запорожцев Дубоноса и Негоды, но суть их характеров и поведения от этого не изменятся). Мир Нарежного, при всей его очевидной пестроте, на редкость стабилен. Взаимоопознание отцов и сыновей во 2-й главе «Двух Иванов…» задаст общую тональность роману, уверенно ведомому писателем к счастливому концу.
В «Вие» ситуация прямо противоположна. Здесь не реальное пространство представляется фантастическим, но фантастическое – реальным (на сходный прием в «Заколдованном месте» указывает Ю. М. Лотман). Важной особенностью того мира, в котором оказался Хома Брут, является его принципиальная «неясность». Обычные бытовые приметы и навыки здесь теряют смысл. Например, Хома Брут «попробовал перекликнуться»: «…Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой» (II, 182), разумеется, не порадовавшее бурсаков. Чуть позже говорится: «…к величайшей радости их, в отдалении послышался лай» (II, 183). Лай этот и выводит героев к злосчастному хутору. В обыденном мире вой волка и лай собаки суть знаки потенциальной опасности и потенциального приюта. В пространстве гоголевском противопоставление их снимается, поначалу незаметно, затем – подчеркнуто. Третья ночь бдений Хомы над трупом описывается так: «Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей. И самый лай собак был как-то страшен.
“Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк”, сказал Дорош» (II, 216). Волчий вой и собачий лай сливаются воедино, знаменуя собой нечто третье, точно охарактеризованное эпитетом первого предложения. «Адская» здесь не относительное, но притяжательное прилагательное: ночь, когда свершилась судьба Хомы Брута, принадлежит аду. Очевидная перекличка сцен блуждания бурсаков и последнего пути Хомы Брута в церковь свидетельствует о том, что в «адское» пространство герой попал в самом начале повести. Всякая попытка Хомы Брута уйти, вырваться из этого пространства, вернуться в сферу обыденного бытия оборачивается крахом. Избиение ведьмы и возвращение в Киев приводят к отправке на хутор сотника; диалоги с ректором, слугами сотника и самим сотником не приводят к какому-либо результату. Не удается и побег Хомы, сопоставимый с уже упомянутым эпизодом из 1-й части «Бурсака».
Неон Хлопотинский, принявший пана Мемнона за разбойничьего атамана, а его жилище – за вертеп, пытается бежать; он приходит в соседнее село, где его принимают за грабителя, связывают и доставляют к Мемнону. «Видишь, Неон, – сказал хозяин с усмешкою, – что жилище мое околдовано, и без ведома моего никто отсюда уйти не может» (2, 49). Усмешка хозяина снимает вопрос о фантастике: мы имеем дело с рядом комических совпадений, почти маскарадной путаницей, в конечном итоге ведущей ко взаимопониманию. Человеческая наружность может быть обманчивой, но эта обманчивость устранима; причины ее не в игре демонических сил, но во всеобщем недоверии, возникающем от недомыслия. Поэтому друг Мемнона и «воспитатель» Неона Диомид Король и произносит приличное случаю поучение: «Можно ли неизвестного человека счесть разбойником и вязать только потому, что он в чужом платье и в кармане у него есть деньги!» (2, 49). Морализм Нарежного теснейшим образом связан с авантюрно-плутовской структурой его романных повествований. Герой (будь то Неон Хлопотинский, Коронат и Никанор или даже Гаврила Симонович Чистяков) постепенно преодолевает мнимую гетерогенность окружающего его мира; к концу каждого из романов (которым предшествуют аналогичные развязки отдельных эпизодов, вроде рассмотренного выше) маскарад завершается, правда торжествует и мир принимает отчетливо ясную форму.
Совершенно иначе дело обстоит у Гоголя. Побег Хомы описан подробно: герой пробирается сквозь запущенный сад, «целый лес бурьяна», поле, густой терновник. Казалось бы, все это хаотическое пространство должно защитить его от погони; на самом же деле оно только «играет» с героем, изматывая его. Герой, вроде бы достигший желанной свободы, слышит за спиной голос преследователя – Явтуха. «Напрасно дал ты такой крюк, – продолжал Явтух, – гораздо лучше выбрать ту дорогу, по которой шел я: прямо мимо конюшни» (II, 211). Здесь также сняты привычные оппозиции: прямая и кружная дорога, дикая и «приветливая» природа. Но в отличие от Нарежного, означает это «особость» мира, в который попал Хома. Жилище сотника действительно «околдовано»; волшебные свойства его воздействуют и на здешних обитателей, и на попавшего в дурное место Хому. Видно это по реакции героя на случившееся: «“Чертов Явтух!”– подумал в сердцах про себя философ. – “Я бы взял тебя, да за ноги… И мерзкую рожу твою и все, что ни есть на тебе, побил бы дубовым бревном”» (II, 214). Намерение это, с бытовой точки зрения легко выполнимое, разумеется, не осуществляется. Обычные способы преодоления преград невозможны. И герой, и преследователи его словно бы погружены в неодолимый сон.