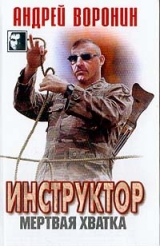
Текст книги "Мертвая хватка"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
– Натешившись вдоволь, Хобот оставил старика в покое. Тот неподвижно лежал в грязи, лицо его было выпачкано землей и кровью. Хобот перевел дыхание. Берданка все еще была у него в руках, и он, держа винтовку за ствол, размахнулся ею, как бейсбольной битой, и со всего маху ударил прикладом об угол кирпичной сторожки. Приклад отломился с сухим деревянным треском и, кувыркаясь, улетел за угол. Хобот отшвырнул ружье, высморкался в два пальца, отошел в сторонку и принялся брезгливо оттирать об снег испачканные ботинки.
Теперь тишину нарушало только горестное мычание парня, которого держал Простатит.
– Чего ты с ним нянчишься? – одышливо спросил Хобот, придирчиво разглядывая подошву. – Отверни ему башку, на хрен нам свидетель?
– Да какой из него свидетель? – возразил рассудительный Простатит. – Он же глухонемой, ты что, не видишь?
Недоумков даже дикари не трогают, я читал.
– Чего ты делал? – недоверчиво переспросил Хобот, снова приходя в отличное расположение духа. – Читал?! Да ты чего, в натуре, читать умеешь? Никогда бы не подумал.
– Да пошел ты, – беззлобно сказал Простатит, отпуская немого. – Блин, Хобот, сколько можно? Что ты тут устроил?
– А чего? Поучил немного старого пердуна. Подумаешь, событие! В следующий раз трижды подумает, прежде чем пасть разевать.
Через четверть часа серебристый джип, тяжело переваливаясь на ухабах и разбрызгивая грязь высокими колесами, покинул старую усадьбу и взял курс на Москву. В багажном отсеке, распространяя тяжелый запах мокрой земли, лежали драгоценные саженцы черешни с заботливо укутанными сырой мешковиной корнями.
Глава вторая
– Ты еще не устал, Марат Иванович? – пряча в углах губ усмешку, спросил Илларион Забродов.
Он сидел в глубоком, обитом ярко-красным плюшем кресле с гнутыми, покрытыми стершейся позолотой ножками и вертел в пальцах незажженную сигарету. Поза его, как всегда в минуты отдыха, наводила на мысль о том, что в теле этого человека не осталось ни одной целой кости. Вряд ли кто-то еще смог бы чувствовать себя удобно в такой позе; Забродов же, казалось, не испытывал ни малейших неудобств. Он втянул ноздрями аромат дорогого табака, проведя сигаретой под носом, и мечтательно закатил глаза. Ему хотелось курить, но не хотелось в десятитысячный раз выслушивать многословные рассуждения Пигулевского о том, почему курение в букинистической лавке, совмещенной с антикварным магазином, следует приравнивать к террористическому акту и преследовать в уголовном порядке. К тому же Марат Иванович был бы только рад затеять ссору, чтобы отвлечь внимание партнера от совершенно безнадежной партии.
– С чего бы это мне уставать? – сварливо осведомился старый антиквар, нерешительно теребя своего коня.
Он играл белыми. Фигуры были мастерски вырезаны вручную из слоновой кости и стояли на большой, инкрустированной ценными сортами дерева доске. Этот набор Марат Иванович приобрел недавно, и сегодня они играли за этой доской впервые. Илларион сильно подозревал, что Марат Иванович пошел на такую жертву неспроста: хитрый старик наверняка рассчитывал, что утонченная красота вырезанных в конце позапрошлого века неизвестным мастером фигур отвлечет Забродова от игры и окажет влияние на исход партии. Забродов видел его насквозь, но не возражал против подобного коварства: шахматы – это война в миниатюре, а на войне, как и в любви, хороши любые средства. Сигарета, которой Илларион вот уже в течение десяти минут старательно водил у себя под носом, была маленькой местью хитроумному противнику: она отвлекала Пигулевского от игры точно так же, как фигурки из слоновой кости должны были, по его замыслу, отвлекать Иллариона. Марат Иванович наверняка с нетерпением ожидал появления на сцене зажигалки, чтобы немедленно поднять крик, и это нетерпеливое ожидание сбивало его с толку почище дымовой завесы.
Забродов сунул сигарету за ухо, взял со стола тонкую, как розовый лепесток, чашку кузнецовского фарфора и сделал аккуратный глоток. Чай уже основательно остыл, но не потерял удивительного аромата. Заварка была хороша, но Илларион знал, что дело тут не только в заварке: никто из его знакомых не умел заваривать чай так, как это делая Марат Иванович.
– Грамотные люди, – сказал он, стараясь, чтобы голос звучал как можно серьезнее, – полагают, что умственная деятельность отнимает наибольшее количество энергии.
Кстати, именно поэтому, наверное, большинство людей предпочитают вообще не напрягать голову. Орудовать руками как-то спокойнее. Вот я и спрашиваю: ты не устал, Марат Иванович?
– Нахал, – рассеянно сказал Пигулевский и принялся задумчиво жевать нижнюю губу, разглядывая доску. Ситуация на игровом поле складывалась явно не в его пользу. – Ты хочешь сказать, что мои мозги менее тренированные, чем твои? Придется тебя проучить, мальчишка, чтобы ты относился к старикам с должным почтением.
– В следующий раз, – сказал Илларион. – Сдавайся, Марат Иванович, партия-то безнадежная.
– Черта с два! – запальчиво ответил Пигулевский. – На моей стороне теория вероятности!
– Э, – разочарованно протянул Илларион, – эка, куда тебя занесло! Теория вероятности… Ты бы еще ОМОН вызвал.
– Да?!
– Ага.
Пигулевский сердито засопел, залпом допил свой чай, оставил в покое коня и сделал ход ферзем, сметя с доски Илларионова слона и объявив ему шах.
– А это ты видел, корифей мысли?! Ну, что ты теперь скажешь?
Забродов сделал озабоченное лицо, что стоило ему немалых усилий. Марат Иванович был очень грамотным антикваром и одним из лучших букинистов в Москве, а может быть, и во всей России, но гроссмейстером это его, увы, не делало.
– Да, – сказал Илларион, – это серьезно. Это, пожалуй, партия.
– То-то же, – сказал Пигулевский с воодушевлением и попытался снова отхлебнуть из чашки. Чашка оказалась пуста, и он заглянул в нее с некоторым удивлением. – Ну что, сдаешься?
– Да нет, пожалуй, – сказал Илларион, снимая с доски его ферзя и ставя на опустевшую клетку своего коня. – Пожалуй, я все-таки доведу дело до логического завершения. Заметь, Марат Иванович, тебе шах.
– Как шах?! – всполошился Пигулевский. – Почему шах? Откуда? Не может быть никакого шаха! Ты мошенник, Илларион.
– Конечно, – сказал Илларион. – Ты ходить будешь или нет?
Пигулевский забрал в горсть нижнюю часть лица и сокрушенно покачал головой, глядя на доску.
– Ты знаешь, – невнятно произнес он, не отнимая ладонь от лица, – мне рассказали одну любопытную историю.
– Не поможет, – сказал жестокий Забродов. – Мат в два хода.
– Это мы еще поглядим, – немедленно вскинулся Марат Иванович. – А вот так?
– Ты вроде советских врачей, – ответил Илларион, забирая его ладью. – Пускай больной терпит непереносимые мучения, лишь бы их совесть была чиста. – Шах, Марат Иванович. И рыба. В смысле, мат.
– Глупости, – сказал Пигулевский, недоверчиво глядя на доску. – Какой еще мат? Да, действительно… Я же говорю, ты мошенник и нахальный мальчишка, не имеющий ни капли уважения к старости.
Он смешал фигуры и начал аккуратно складывать их в резной ящик красного дерева. Забродов заметил, что руки у него немного дрожат от огорчения.
– Какая еще старость, – сказал он. – Посмотри на себя, Марат Иванович, какой из тебя к чертям старик? В лучшем случае, вздорный старикашка. В жизни из тебя путного старика не получится. Как, впрочем, и из меня. Так что это за история, которую тебе рассказали? Пикантная, надеюсь?
Пигулевский немного покряхтел, успокаиваясь, закончил складывать шахматы, осторожно, двумя руками опустил узорчатую крышку ящика и накинул латунный крючок.
– Разговаривать с тобой, – пробормотал он. – Хоть бы раз поддался! Я вот тебе все время поддаюсь, а ты пользуешься этим и мнишь себя Ботвинником. И после этого я еще должен забавлять тебя рассказами… Пикантными!
Поскольку партия была закончена, Илларион отыскал взглядом массивную бронзовую пепельницу, придвинул ее к себе и вынул из-за уха сигарету. Пигулевский сердито пожевал губами, но ничего не сказал. Забродов чиркнул колесиком зажигалки и закурил, с наслаждением втянув в себя ароматный дым.
– Я повторяю, – сказал он, – путного старика из тебя, Марат Иванович, не получится. Старик – это спокойствие, неторопливость и презрение к житейским мелочам. А ты обижаешься, как маленький, проиграв партию в шахматы. Как будто в первый раз! Не умеешь проигрывать – выигрывай, а не умеешь выигрывать – не садись играть.
– Ты меня нарочно дразнишь? – спросил Пигулевский.
– Ага, – совершенно искренне ответил Илларион, обожавший подначивать старинного приятеля. – Ты так потешно дуешься, что я просто не могу упустить возможность поглядеть на это еще разок. Слушай, Марат Иванович, а коньяку у тебя нет?
– Еще чего, – проворчал Пигулевский. – Я, в отличие от некоторых бездельников, на работе. Чаю хочешь?
– Можно и чаю, – сказал Илларион.
Пигулевский, кряхтя, встал и поставил чайник. Чай он кипятил на старенькой электроплитке. Илларион тысячу раз говорил ему, что это древний прибор опаснее любого курения, но Марат Иванович на это возражал, что из-за его плитки пожара еще ни разу не было. Пока он возился, накрывая на стол для неспешного обстоятельного чаепития, Илларион с привычным любопытством оглядывался по сторонам: что новенького? Новенького, как всегда, хватало, но это были исключительно антикварные побрякушки да парочка недурных статуэток, выполненных, впрочем, не во вкусе Иллариона Забродова.
– Что смотришь? – сказал Пигулевский. – Нечего глазеть, сегодня мне тебя порадовать нечем.
– М-да, – сказал Илларион. Марат Иванович стоял к нему спиной, и оставалось только гадать, откуда он узнал, что Забродов именно глазеет по сторонам, а не занят чем-нибудь другим. – Действительно, ничего по-настоящему любопытного. Нищаешь, Марат Иванович. Кстати, тебе не приходило в голову, что твой бизнес, по большому счету, бесперспективен? Что такое антиквариат? Я имею в виду настоящий антиквариат, о котором только и стоит разговаривать. Это вещи, изготовленные, самое позднее, в конце девятнадцатого века. Ну, пускай в начале двадцатого. Объем этих вещей, особенно таких, которые до сих пор сохранили товарный вид и пригодны к употреблению, конечен. Вещи стареют медленнее, чем люди. Пока тот диван, что стоит у тебя на даче, станет антикварным, мы с тобой уже и помереть успеем.
– Оптимист, – фыркнул Пигулевский. – Тот диван, о котором ты говоришь, антиквариатом не станет никогда.
Дерьмо, даже если оно, скажем, окаменело и пролежало в земле десять тысяч лет, так и останется дерьмом. А мой диван даже не окаменеет, он просто развалится и сгниет, и произойдет это, надеюсь, еще при моей жизни. Нынче разучились делать хорошие вещи.
– Тем более, – сказал Илларион. – Значит, твой бизнес бесперспективен не только для тебя лично, но и вообще.
В глобальном, так сказать, смысле. Чем будут торговать антиквары через сто, пусть через двести лет? Пластиковыми ночными горшками? Да тебе уже сейчас, я вижу, туго с товаром приходится. Ни одного приличного раритета. А книги?
Ну, что это такое?
Он небрежно дотронулся до стопки потрепанных томиков серии «ЖЗЛ», выпущенных в начале семидесятых.
– Да, – заливая кипятком заварку, согласился Марат Иванович, – с книгами стало плохо. Даже то, что есть, выхватывают из-под носа. Коллекционеры! Ты знаешь, – признался он, – ненавижу эту новую генерацию коллекционеров. Гребут все под себя, а зачем им книги? Они ведь их даже не читают! Все, что их интересует в книгах, это их рыночная стоимость. Пришел ко мне недавно один – знаешь, из этих, с цепью на шее. Я, говорит, папаша, хочу кабинет себе обставить, так ты мне, типа, подгони книжонок покрасивее, чтобы переплеты с золотом… Подгони! Слово-то какое нашел!
– Ну а ты что же? – заинтересованно спросил Илларион.
– А что я? Продал ему Большую Советскую энциклопедию. Переплет у нее – закачаешься, и сразу на три полки хватит. Хотел еще полное собрание сочинений Ленина продать, да он отказался – золота на переплете маловато.
Илларион молча улыбнулся и с благодарным кивком принял курящуюся горячим паром чашку. Пигулевский уселся напротив него, поддел ложечкой варенье, запил его чаем и почмокал губами. Сделал он это как-то совсем по-стариковски, да и губы у него были нехорошего синеватого оттенка, и Илларион с большим беспокойством отметил про себя, что Марат Иванович начинает понемногу сдавать. Даже щегольской галстук-бабочка сегодня сидел на нем как-то криво, а под тонкой, как пергамент, и такой же коричневой кожей рук сильнее обычного проступали синие узловатые вены.
– Что бизнес, – дуя на чай, пренебрежительно сказал Пигулевский. – Бизнес меня не волнует, на мой век богатых дураков хватит. Душа болит, Илларион. Все меньше для нее отдушин, а это, согласись, печально. Эх, молодость, где ты?
Будь я помоложе, разве я бы тут сидел? Как подумаю, сколько бесценных книг прямо сейчас пропадает по чердакам и подвалам, сердце кровью обливается!
– Брось, Марат Иванович, – сказал Илларион. – Все, что пропадает, спасти невозможно, так же как нельзя заработать все деньги, сколько их есть на белом свете. Брось, береги нервы. Расскажи лучше свою историю.
– Так я же, можно сказать, и рассказываю, – старательно дуя в чашку, обронил Пигулевский.
Илларион осторожно поставил на стол свою чашку и искоса посмотрел на Марата Ивановича. Пигулевский пил чай, так внимательно глядя в чашку, будто там лежало что-то очень интересное.
– Так, – произнес Илларион. – По-человечески, значит, сказать нельзя. Надо, значит, подводить теоретическую базу. Ну-ну. Будем считать, что присказка уже исчерпана. Я жду сказки.
– Есть шанс раздобыть кое-что интересное, – отбросив стариковское кряхтенье, сообщил Пигулевский. Глаза у него заблестели, как у молодого, что было верным признаком того, что Марат Иванович напал на свежий след. Или считал, что напал.
– Это я уже слышал, – равнодушно сказал Илларион, – и слышал неоднократно. И ездил к черту на кулички по твоим советам не раз. Уволь, Марат Иванович, я ведь тоже не мальчик.
Пигулевский сердито запыхтел, но справился с раздражением и скандалить не стал. Не стал он также напоминать Иллариону о том, что настоящие жемчужины его, Иллариона, богатой личной библиотеки были добыты именно по наводкам Пигулевского. Оба и так это знали, и в напоминаниях не было нужды. Забродов просто дразнил старика, и тот, вопреки обыкновению, на сей раз не счел нужным ему подыгрывать.
– Ты слышал о графах Куделиных? – спросил он. – Была такая фамилия – не из самых богатых, не из обласканных, так сказать. Когда-то, по слухам, были сильны, а потом не поделили чего-то с царствующей фамилией и впали в немилость. Так вот, несколько последних поколений этих самых Куделиных безвыездно жили у себя в поместье на Брянщине.
Род был достаточно просвещенный, и от тоски, от невостребованное™ впали господа графы в то, что по тем временам считалось чудачествами. Парк регулярный разбили, да такой, что всем на зависть, а об их саде до сих пор легенды ходят среди специалистов. Но это нас, понятно, не интересует. Так вот, один из этих графов в незапамятные времена начал собирать библиотеку, сын продолжил, и внук тоже, и правнук… Пять поколений библиотеку собирали, представляешь?
– Представляю, – сказал Илларион. – Представляю, что со всем этим стало году этак в восемнадцатом. Тогдашние борцы за победу мировой революции печки, наверное, топили книгами, боролись одновременно с холодом и с чуждой идеологией.
– Это верно, – со вздохом сказал Пигулевский и вдруг оттолкнул от себя чашку. – Нет, не могу я! Как подумаю, сколько тогда всего погибло – и книг, и мыслей, и людей…
Нынешней молодежи этого не понять. Им что гражданская война, что Пуническая – все одно… Но давай-ка не будем отвлекаться. Дело в том, что надежда есть. Слабенькая, но есть.
Понимаешь, все эти годы за поместьем присматривали, присматривают и сейчас. Правда, в основном за садом, но и за домом тоже, в меру человеческих сил естественно. Живет там один старик садовник…
– Садовник? – перебил Илларион. – Вряд ли садовник станет беречь книги каких-то графов, которые жили чуть ли не сто лет назад.
– Фамилия садовника Куделин, – сказал Пигулевский таким тоном, будто вовсе не слышал последнего замечания Иллариона.
Забродов присвистнул.
– Подумаешь, фамилия, – сказал он. – Сколько крестьян носили господские фамилии? Откуда, по-твоему, на Руси до сих пор целые деревни однофамильцев?
– Больше там Куделиных нет, – возразил Пигулевский, – если не считать его сына. Я понимаю, Илларион, все это кажется в достаточной степени фантастичным, но." Когда я был, например, в Чехии, нас возили на экскурсию в замок. Старый замок в горах, но до сих пор в превосходном состоянии.
А знаешь почему? Его владелец – тоже, кстати, граф – с приходом к власти коммунистов никуда не побежал, а добился открытия в замке музея и сам работал там экскурсоводом. До самой старости работал, водил туристов по собственному дому, а в старости получил его обратно… Вот такая история. У нас, конечно, не Чехия, но все же… Угол там медвежий, могли и сквозь пальцы посмотреть.
– Это у нас-то? – усомнился Илларион.
– М-да, – сказал Пигулевский. – Ты прав. Надежда, сам понимаешь, умирает последней. Но ты, конечно, прав.
Это просто легенда… Значит, не поедешь?
– Тебе бы, Марат Иванович, в ФСБ работать, – сказал Илларион, – следователем. А еще лучше – вербовщиком.
Умеешь ты без мыла в любую щель залезть, ох, умеешь! Поеду, конечно. Шансов что-то найти – один на тысячу, но это все-таки шанс. Чем дольше я буду сидеть и внушать себе, что это дохлый номер, тем сильнее мне будет казаться, что книги там есть и что без меня они действительно пропадут. Помнишь старую шутку, когда кому-то предложили в течение десяти минут НЕ думать о белом медведе с голубыми глазами? Подсунул ты мне голубоглазого медведя, Марат Иванович, спасибо тебе! Дорог там, конечно, нет?
– Дороги есть даже на Колыме, – сказал Пигулевский и, подумав, добавил:
– В некотором роде.
– Вот именно, – сказал Илларион. – Ладно, рассказывай, как найти твоего графа, он же садовник.
– А что я с этого буду иметь? – быстро спросил Пигулевский.
– Половину расходов на бензин, – не растерялся Илларион.
Марат Иванович обозвал его нахалом и, ворча, принялся рисовать карту на обороте какого-то старого, еще брежневских времен, плаката.
* * *
У оперативника было длинное лило, состоявшее, казалось, из сплошных острых углов – острый длинный нос, острые скулы и острый, почти карикатурный подбородок. Глаза у него тоже были острые и холодные, как два торчащих из подтаявшего сугроба осколка бутылочного стекла. Не было в них ни доброжелательности, ни желания помочь любой ценой, и под взглядом этих равнодушных глаз не имевшая до сих пор опыта тесного общения с милицией Анна вдруг почувствовала себя до крайности неловко, будто сама была в чем-то виновата и не жаловаться пришла, а явилась по повестке на допрос.
В углах тонкогубого рта оперативника можно было без труда разглядеть скептические складки, которым оставалось всего ничего, чтобы превратиться в гримасу откровенного неудовольствия. По всей видимости, оперативник считал, что имеет дело с очередной вздорной бабой, явившейся попусту отнимать его драгоценное рабочее время.
– Итак, вы утверждаете, что яблоню у вас украли, – сказал он с таким выражением, будто намеревался вот-вот, буквально сию минуту, уличить Анну во лжи. – Выкопали ночью и увезли, так?
– Совершенно верно, – ответила Анна. Из-за неловкости, которую она ощущала, ответ прозвучал излишне независимо и резко, едва ли не с вызовом.
Оперативник протяжно вздохнул.
– Но вы же сами сказали, что на месте яблони остался пень. Как вас понимать? Может быть, вы сначала сами разберетесь, выкопали ее или спилили на дрова? Скажем, сторож замерз и решил погреться…
– В том-то и дело, что это не тот пень! – горячо воскликнула Анна. Оперативник поднял брови, изображая вежливое удивление, и Анна почувствовала себя полной идиоткой. – Это не тот пень, – упрямо повторила она, не зная, что еще сказать.
– Выходит, кто-то выкопал яблоню, а на ее место посадил пень? – в голосе оперативника звучала откровенная насмешка. – Прямо Агата Кристи! Не слишком ли сложно, как вы полагаете? Выкорчевать взрослое дерево, да еще ночью, тайком, – это такая работа, какой врагу не пожелаешь. А тут еще и пень надо посадить, да так, чтобы было незаметно, что тут кто-то рылся! Это же физически невозможно – в темноте, через забор… Или вы подозреваете охрану?
– Это ваше дело – подозревать, – сердито сказала Анна, чувствуя, что ничего не выходит.
Оперативник снова длинно вздохнул и без нужды переворошил лежавшие на столе бумаги.
– Ну вот что, – сказал он наконец, отбросив насмешливый, деланно вежливый тон. – Если вы будете настаивать, заявление я у вас приму, тем более что, как вы говорите, дерево это не простое, а… Простите, как вы выразились?
– Памятник живой природы, – повторила Анна и сама почувствовала, как глупо и неуместно это прозвучало. – Всероссийского значения, – добавила она упавшим голосом.
– Вот именно, – сказал оперативник. Он уныло покивал длинным носом и потер ладонью подбородок. – Тяжелое положение, – сказал он вдруг. – В городе такое творится…
Воруют машины по пятьдесят тысяч долларов, и доллары тоже воруют, в подъездах грабят… Да что там – грабят!
Убивают и фамилию не спрашивают. А вы говорите – яблоня. Нет, если угодно, можете написать заявление, будем разбираться, но шансы на успех… – Он развел руками. – Если честно, шансов никаких. Не думаете же вы, что злоумышленник потащит ваше дерево в аэропорт или, скажем, на вокзал. Нет, оно уже давно на месте назначения – либо в поленнице, либо в чьем-то саду, что мне лично кажется крайне маловероятным. Ну, допустим, я поверю в эту вашу историю с пнем, который, как вы утверждаете, от другой яблони. Да мне необязательно в это верить, это же очень легко установить. Допустим, я начну раскручивать охрану ботанического сада, допустим даже, что кто-то признается; мол, получил энную сумму от неизвестного мне лица, каковое ночью погрузило поименованное дерево в автомобиль, номера которого я не разглядел, и увезло в неизвестном направлении…
Ну и что? Легче вам от этого станет? Да и не признается никто, улик-то никаких. Вот так обстоят дела, если честно.
При всем моем сочувствии к вашему.., гм.., горю помочь вам ни я, ни кто бы то ни было другой просто не в состоянии. Это я вам неофициально говорю. А официально, повторяю, вы вправе подать заявление, а я не вправе его не принять. Ну, так как?
Анна растерянно молчала. Это были именно те слова, которых она больше всего боялась. Пока оперативник ерничал, играл бровями и отшучивался – в общем, что называется, вертел вола, – у нее еще оставалась какая-то надежда, что, натешившись всласть, он все-таки поможет. Но теперь все вещи были названы своими именами, и разговаривать стало не о чем.
– Но послушайте, – сделала она последнюю слабую попытку, – ведь это же не просто дерево! Не просто яблоня, а памятник! Чудо, если хотите. Чудо природы, чудо человеческого терпения и труда…
– Да, – сказал остролицый опер, – я помню, вы говорили. Памятник живой природы всероссийского значения, охраняется государством. Чудо природы, да. – У нас тут недавно был один случай, тоже с чудом природы. Был у одной старухи козел. По ее словам, умнейшая была скотина. Все понимал, вот разве что говорить не умел да газет не читал. Дом сторожил, представляете? В магазин с ней ходил, сумки таскал. А потом его украли. Бабка, естественно, к нам, а что мы?
Чем мы поможем? Пока она бегала, его, наверное, десять раз съели и косточки закопали. Я понимаю, конечно, что это вас мало утешает. Своя болячка всегда больнее, чужую пережить как-то легче… Но вы поймите, что нашим возможностям тоже есть предел. Помочь мы вам не поможем, зато жизнь отравим. Ну, напишете вы заявление, и начнется канитель: допросы, повестки, протоколы, подозрения, обидные намеки, копание в личной жизни – и вашей, и ваших коллег… А результат, поверьте, будет такой же, как если бы вы сюда вовсе не приходили. Вы скажете, что потомки, мол, будут нами недовольны. Что ж, очень может быть. Вы свое чудо природы не уберегли, я его не нашел… Но вы вот о чем подумайте: что скажут эти самые потомки, если я сейчас брошу дела о двух убийствах и четырех изнасилованиях и начну искать вашу яблоню? О кражах и ограблениях я уже не говорю. Современники у нас с вами, знаете ли, такие, что о потомках как-то даже и думать некогда.
Он замолчал и стал демонстративно перекладывать на столе бумаги.
– Охраняется государством, – повторила Анна. – Что ж, теперь я буду знать, что это просто слова. Пустой звук.
– Насчет охраны – это не ко мне, – сказал опер, делая вид, что не понял ее. – С кем у вас заключен договор об охране? Вот к ним и обращайтесь с претензиями. Мое дело – найти, задержать и изобличить преступника. Да, кража из городского ботанического сада – это тоже преступление.
Но что же вы мне предлагаете – мотаться по всем подмосковным деревням и дачным поселкам и инспектировать приусадебные участки?
– Не знаю, – сказала Анна. – Мне почему-то кажется, что вы просто хотите от меня отделаться. И потом, что значит – мотаться и инспектировать? Вы что же, расследуете карманные кражи, проверяя содержимое карманов поголовно у всех москвичей и гостей столицы? Есть же, наверное, и другие методы…
Длинное угловатое лицо оперативника приобрело кислое недовольное выражение.
– Отделаться, – повторил он. – Ну да, именно отделаться. Я ведь этого и не скрывал. Именно отделаться, совершенно верно. – Избавить вас от пустых хлопот и нервотрепки, а себя – от бесполезной и очень трудоемкой работы, она же – мартышкин труд. Но решать, повторяю, вам. Хотите усложнить жизнь и себе и мне – валяйте, пишите заявление.
– Я напишу, – решительно сказала Анна. – Извините, я все понимаю, но я же, помимо всего прочего, пришла к вам как официальное лицо.
Оперативник окончательно помрачнел и буквально на глазах утратил последние остатки приветливости.
– Это ваше право, – сказал он. – Ступайте к дежурному, он все оформит.
Покинув отделение милиции, Анна остановилась на тротуаре, невидящими глазами следя за проносившимися мимо машинами и торопящимися по каким-то своим делам людьми. Ощущения, которые она испытывала, были самыми неприятными. Легкие казались забитыми канцелярской вонью, на коже ощущался какой-то липкий налет, которого там, конечно же, не было и быть не могло. Мимо проехал милицейский УАЗик. Анна проводила его взглядом и криво улыбнулась. Романтический ореол вокруг родной российской милиции, и без того достаточно тусклый, теперь окончательно развеялся. Это были просто мелкие чиновники со светлыми пуговицами, только и всего. Они точно так же целыми днями перекладывали с места на место бумажки и главной целью своей деятельности полагали не общественное благо, как казалось когда-то Анне, а собственные покой и благополучие.
Ничего им не было нужно, кроме покоя, благополучия и порядка в их пыльных бумажках, и за дело они брались только тогда, когда у них не оставалось иного выхода – иными словами, когда посетителя не удавалось просто отфутболить.
Когда Анна шла сюда, ее предупреждали об этом, а она, дурочка, не верила. Ну вот и убедилась…
«Перестань, – мысленно сказала она себе, медленно бредя по улице в сторону метро. – Прекрати немедленно! Чиновники… Что ж, они и есть чиновники. По определению. Но в них, между прочим, иногда стреляют, и, если бы не они, здесь бы такое творилось…»
Это помогло, но не очень. Обида все равно осталась, и Анна чувствовала, что не скоро сможет забыть это двойное унижение – сначала утром, в ботаническом саду, возле свежего пня, оставшегося на том месте, где еще вчера стояла яблоня Азизбекова, а потом в милиции, в кабинете остролицего опера. Да, и потом еще в дежурной части, где она писала заявление, а люди в форме обменивались у нее за спиной ироничными замечаниями… Разве такое забудешь! И то, что в них иногда стреляют, оправдывает их лишь частично.
В обыкновенных людей, в обывателей, тоже время от времени стреляют, а они даже не имеют возможности выстрелить в ответ, потому что держать дома огнестрельное оружие им запрещает закон – тот самый закон, который не может и не хочет их защитить. Вот и получается, что прав сильный и наглый, а остальные дышат только до тех пор, пока на них не обратили внимание. Хорошо американцам! У них с этим делом все просто: забрался в чужой дом – не жалуйся, если получишь пулю в брюхо. Закон против этого не возражает.
А что у них на улицах иногда стреляют, так разве у нас этого нет?
Анна вдруг представила, как она застает некоего злоумышленника за выкапыванием бесценной яблони, выращенной покойным профессором Азизбековым, поднимает на уровень глаз тяжелый пистолет и нажимает на спусковой крючок.
Она даже остановилась на несколько секунд, таким неожиданно мощным было незнакомое ей чувство ненависти – не раздражения, не гнева, а именно ненависти, холодной и расчетливой. От нее все тело разом сделалось легким, как воздушный шарик, мышцы живота свело от напряжения, кожа на голове съежилась, и Анне показалось, что она ощущает на своем теле каждый волосок в отдельности.
Новое ощущение быстро прошло, Анна расслабилась, горько усмехнулась и двинулась дальше по уже просохшему, сделавшемуся из черного светло-серым асфальту. Что толку в ее ненависти? Что она может сделать? Что она могла бы сделать, даже будь у нее оружие? Она, Анна Беседина, не хищник и даже не охотник, а так, травоядное… А что ей на мгновение захотелось кого-нибудь убить – ну, так это просто от обиды, от бессилия, от унижения, наконец. Травоядным тоже иногда хочется кого-нибудь укусить, боднуть или лягнуть – в общем, покалечить, а то и убить, и происходит это, конечно же, не от хорошей жизни…
Было тридцатое апреля, и солнце вовсю сияло на безоблачном, непривычно синем после серой городской зимы небе.
Весна чувствовалось во всем, город радостно впитывал в себя забытое за долгие зимние месяцы тепло, и на лицах прохожих нет-нет да и мелькало выражение беспричинной радости. Весна была самым горячим временем для всех, кто работал с растениями и землей, в том числе, конечно же, и для работников ботанического сада, где Анна числилась старшим научным сотрудником. Год для нее и ее коллег начинался не в середине зимы, как у всех нормальных людей, а с наступлением весны. Это было радостное событие, и надо же было кому-то испортить все в самом начале, посадив на радость грязное пятно с отвратительным запахом. Вот уж, действительно, плюнули в душу… Кража – это всегда огромное унижение для того, кто обокраден, особенно если украли самое дорогое.








