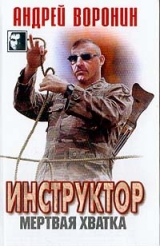
Текст книги "Мертвая хватка"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
– Давай о деле, – напомнил Илларион.
– А о деле, в общем-то, и говорить нечего. Ну, поехал я снова в ботанический сад, а там всеобщий траур по случаю безвременной кончины любимого директора…
– Вот и труп, – с непонятным удовлетворением произнес Забродов. – Что ж, этого следовало ожидать.
– Инфаркт, – остудил его энтузиазм Сорокин. – Обыкновенный обширный инфаркт. Умер прямо за рулем своей машины по дороге с работы.
– Повезло, – с завистью сказал Мещеряков. – Ни старости, ни боли, ни немощи… Ехал-ехал, а потом раз! – и приехал…
– Ты еще здесь? – удивился Илларион и снова повернулся к Сорокину. – Он что, был сердечником?
Сорокин пожал плечами, сдвинул в сторону газету и принялся задумчиво катать по столу барабан револьвера. Барабан тускло поблескивал в свете настольной лампы и тихо рокотал, постукивая гранями по полированному дереву.
– Все мы в некотором роде сердечники, – сказал полковник. – Кто из нас всерьез следит за своим здоровьем?
Единицы! А жизнь наша, между прочим, на девяносто восемь процентов состоит из стрессов." Но на кардиологическом учете он не состоял, я проверил.
– Ага, – сказал Илларион, – проверил-таки! Сам чувствуешь, что тут нечисто, правда?
– Как тебе сказать, – снова пожал плечами Сорокин. – Ну, чувствую, а толку-то? – Он взял барабан, поднес его к правому глазу и, прищурившись, посмотрел сквозь него на Забродова. – Тут бы любой почувствовал. Вот смотри, что получается. В ночь с двадцать девятого на тридцатое апреля из ботанического сада исчезает эта пресловутая яблоня, а на ее месте остается пенек. Беседина утверждает, что пенек от другого дерева, Егоров – это фамилия нашего усопшего – по этому поводу только разводит руками и всеми силами стремится поскорее замять дело. Первого мая пня уже нет, его выкопали и сожгли; седьмого мая Егоров приобретает подержанный «мерседес» девяносто шестого года, а десятого неожиданно умирает от инфаркта за рулем этого самого «мерседеса».
Волей-неволей напрашивается предположение, что Егорову сначала хорошо заплатили за яблоню – отсюда и «мерседес», – а потом организовали ему сердечный приступ, чтобы, упаси бог, не проболтался.
– Правду сказал я, шотландцы, – нараспев продекламировал Илларион, – от сына я ждал беды. Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды…
– Бред, – произнес Мещеряков который, оказывается, все еще был тут. – Опоздаю я из-за вас на совещание. Вы тут занимаетесь интеллектуальным онанизмом, а я слушаю, как дурак. Было бы из-за чего огород городить! И потом, все, что вы тут наплели, абсолютно недоказуемо. Да и предположения ваши, честно говоря, вилами по воде писаны.
– Сорокин, – сказал Илларион, – нам тут нужны скептики и нигилисты?
– Вряд ли, – отозвался Сорокин. – Мы сами скептики и нигилисты. Нам бы парочку энтузиастов, мы бы горы свернули, а скептиков возле каждого пивного ларька навалом.
– Слыхал? – сказал Илларион Мещерякову. – Поезжай на свое совещание, скептик, а мы тут уединимся и продолжим занятия, как ты выразился, интеллектуальным онанизмом.
– Извращенцы, – брезгливо морщась, объявил Мещеряков и гордо удалился.
Сорокин дождался, пока щелкнет замок входной двери, закурил и, прищурившись, посмотрел на Иллариона.
– Слушай, – сказал он, – что это с тобой? С чего это ты так землю роешь? Раньше я за тобой такого рвения не замечал. И такой чувствительности, кстати, тоже. Честное слово, на тебя смотреть неудобно.
– Наверное, я действительно старею, – задумчиво произнес Забродов. Он не шутил, не ерничал и не разыгрывал Сорокина, и от этого полковнику стало как-то не по себе. – Старею… Раньше я действительно как-то не обращал на все это внимания. Мир устроен так, как он устроен, и нам его не переделать – вот как я думал раньше. А теперь… Не знаю.
Ну, не знаю! Обидно мне как-то стало, как будто это меня самого унизили. Четверо здоровенных жлобов на новеньком джипе, с пистолетами… Им бы банки грабить, от охраны отстреливаться, а они мордуют семидесятилетнего старика, ребра ему сапогами пересчитывают… У меня от этого прямо мороз по коже. Не знаю почему.
– А я тебе скажу почему, – медленно проговорил Сорокин. Он взял в руки револьвер, приставил дуло к губам, выпустил в него сигаретный дым и посмотрел, как он выходит с другого конца. – Это очень просто, и старость тут ни при чем. Ты ведь раньше и дома-то почти не бывал. Лет с семнадцати в казарме жил, верно? То есть всю свою сознательную жизнь ты провел как бы на другой планете, и теперь тебе все здесь дико, все непривычно, все устроено не так, как надо бы… Что, не правда? Ты кадровый военный, и тебе непонятно, почему, когда противник отлично виден и даже не просто виден, а нагло лезет на рожон, его нельзя быстро и эффективно прижать к ногтю.
А тут еще эта вечная проблема разделения людей на своих и чужих…
– Я тут недавно смотрел по телевизору детектив, – сказал Забродов, неторопливо закуривая новую сигарету. Уголки его губ скорбно опустились книзу, лицо выглядело непривычно грустным и каким-то расслабленным, словно он утратил способность контролировать напряжение лицевых мускулов. – Так вот, там один маньяк охотился на преступников – воров, убийц, сутенеров, жуликов всяких… Выслеживал их и убивал, аргументируя это тем, что мир от его действий становится чище и лучше. А за ним, в свою очередь, гонялся честный полицейский, который считал, что наказывать преступников надлежит исключительно по закону. Вот ты, Сорокин, мент сравнительно честный, ответь: кто из них прав? Авторы фильма, судя по концовке, считают, что прав полицейский. А ты как думаешь?
– Я, наверное, плохой мент, – устало сказал Сорокин. – Или, как ты выразился, поганый. Понимаешь, авторы твоего детектива, конечно, правы. Теоретически. Закон для того и придуман, чтобы всем было хорошо. Каждый понимает это «хорошо» по-своему, и закон как раз и должен приводить эти разнородные представления к общему знаменателю. И в идеале моя работа должна сводиться к тому, чтобы заставить жить по закону всех, от президента до безработного. Может, так оно и будет лет через сто, – Черта с два, – вставил Забродов.
– Ну, пускай через двести. Но мы-то живем сейчас.
– То есть ты считаешь, что прав убийца?
– Да нет, конечно. Слушай, а нам обязательно нужно это обсуждать? Не стану скрывать, у меня имеются на этот счет кое-какие мысли, но излагать их я не хочу. Просто потому, что не вижу в этом смысла. Странно это все: чувствуешь одно, думаешь другое, говоришь третье, а делать приходится четвертое.
– Согласен, – сказал Забродов. – Давай выпьем… Ах да, выпить-то и нечего! Может, кофе?
– На ночь? – усомнился Сорокин.
– Тогда чаю…
– Меня дома ждут, – сказал Сорокин. – Волнуются, наверное, – он посмотрел на Иллариона и болезненно сморщился. – Перестань киснуть, Забродов. Далось тебе это дело! И потом, с чего ты взял, что между кражей яблони из ботанического сада и этим твоим избитым стариком садовником существует связь?
– Прямой связи может и не быть, – сказал Илларион. – Но, согласись, это дела одного порядка. Кто-то захотел посадить на своих шести сотках что-то этакое, чего ни у кого нет, и ради удовлетворения своей прихоти спокойненько прошелся по головам. Впрочем, насчет шести соток я, пожалуй, погорячился. Какие там сотки! Тут, скорее всего, речь идет о гектарах. Сидит, понимаешь, этакий латифундист в своем имении и отдает приказы: а подать мне морозоустойчивую черешню! Или, к примеру, молодильное яблочко… Кстати, ты знаешь, что по-латыни слова «яблоко» и «зло» пишутся одинаково – «malum»?
– Ну?! – удивился Сорокин. – Странно. Что им, алфавита не хватило?
– Не знаю, – сказал Илларион. – Была, наверное, какая-то причина, – он вздохнул. – Так, говоришь, дело гиблое? Тогда познакомь меня с этой интеллигентной пострадавшей, Бесединой. Тебе ведь теперь все равно, верно?
Сорокин медленно кивнул, в глубине души начиная жалеть о том, что рассказал Забродову о происшествии в ботаническом саду. Полковник был опытным человеком и давно научился загодя предчувствовать неприятности. Сейчас его предчувствия выросли и окрепли, почти превратились в твердую уверенность;
Глава восьмая
В то утро, если можно назвать утром двенадцатый час дня, папу Мая подвело взрывоопасное сочетание горячего темперамента с выпитой накануне водкой. Это сочетание подводило русских людей с того самого дня, как они научились гнать спирт из всего, что бродит, и продолжает подводить до сих пор с удручающей регулярностью.
Словом, накануне вечером папа Май основательно проигрался в казино, спустив там больше десяти тысяч долларов.
Потеря эта была не то чтобы глобальной или убийственной, но достаточно ощутимой. Папа Май расстроился и от расстройства основательно приналег на спиртное, так что по прибытии домой его пришлось выгружать из машины совместными усилиями троих охранников. Проснувшись поутру, папа Май, естественно, чувствовал себя как шахтер, только что выбравшийся из заваленной, наполненной угарным газом шахты. Стеная и охая, он добрел до бара, трясущейся рукой плеснул в стакан на два пальца коньяку и, кривясь, опрокинул его в рот, как лекарство.
Немного придя в себя, он принял душ, переоделся и кое-как спустился во двор – подышать свежим воздухом и полечить растрепанные нервы красивым видом. О том, чтобы ехать в офис, не могло быть и речи. В данный момент папа Май выглядел не как преуспевающий бизнесмен, а как разбойник с большой дороги, всю ночь пропивавший награбленное. Душ немного поправил дело, но появляться в таком виде на люди все равно было еще рановато.
На свежем воздухе было хорошо, даже замечательно, разве что солнце светило чересчур ярко да птицы щебетали так, что их чириканье отдавалось у папы Мая прямо в воспаленном мозгу. Он с трудом доковылял до полотняного навеса, недавно установленного на изумрудной траве английского газона, и со вздохом облегчения опустился в пластиковое кресло. Отзывчивый и сердобольный Простатит, переваливаясь на ходу, как бегемот, принес ему банку холодного пива. Сгоряча папа Май наорал на Простатита – дескать, он культурный человек, а не алкаш какой-нибудь, чтобы с утра пораньше жрать пиво, – но от собственных воплей у него так разболелась голова, что он замолчал на полуслове, вырвал из огромной, как подушка, лапищи Простатита запотевшую жестянку, вскрыл ее трясущимися пальцами и осушил в три огромных глотка.
– Слушай, Простатит, – сказал он и длинно, с удовольствием рыгнул. – Ты когда-нибудь задумывался о том, что много денег – это местами не так хорошо, как кажется? Бабки – они вроде надувного матраса. Когда их нет, ты тонешь, а когда их слишком много, они тебя выталкивают наверх, даже если ты этого не хочешь. Начинается какой-то геморрой: ходи так, говори то, общайся с этим и не общайся с тем… Пива не пей, это дурной тон…
– Да ты не убивайся так, папа, – сочувственно сказал Простатит. – Послал бы ты их всех на хрен! Чего себя-то мордовать?
– Ага, послал, – саркастически проворчал Майков, массируя ноющие виски. – Послать не проблема. А дальше что? Обратно на авторынок, палеными тачками торговать?
Ты в школе-то учился? Помнишь, как классик сказал: нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Во! Умный мужик был.
– Это кто же? – заинтересовался Простатит.
– А хрен его знает. Пива больше нет?
Простатит хитро улыбнулся и извлек из кармана своих необъятных брюк еще одну жестянку. Майков с подозрением покосился на банку. Ему хотелось сказать, что в культурных домах пиво подают на подносе, а не вынимают из кармана или, к примеру, из ширинки, но он промолчал – не столько из деликатности, сколько из-за того, что ему было лень ворочать языком. Он взял жестянку, поддел ногтем жестяное колечко на крышке и потянул. Пиво зашипело и полезло наружу. Майков слизал пену и стал пить, на этот раз медленно, никуда не торопясь, растягивая удовольствие. Тупая ноющая боль в висках и затылке понемногу отступала, сменяясь ощущением давления – тоже не слишком приятного, но, по крайней мере, безболезненного. Мутная пелена перед глазами мало-помалу поредела и рассеялась, и папа Май задышал ровнее.
– Жениться мне надо, – доверительно сообщил он Простатиту. – А то все так и норовят на бабу подловить, как будто я с необитаемого острова приехал. Ну, и для солидности, опять же… У тебя нет на примете подходящей телки, пузан?
Только чтобы не твоей комплекции, а как положено – ноги, там, талия и все прочее…
И он нарисовал в воздухе руками некую фигуру, отдаленно напоминающую восьмерку или гитарную деку. Простатит угодливо осклабился.
– Надо поискать, – сказал он.
– Брось, брось, – махнул в его сторону пивной банкой Майков. – Расслабься, я пошутил. А то ведь и вправду найдешь какую-нибудь лахудру да и женишь меня на ней, пока я спать буду… Слушай, а что это с нашими деревьями? С них правда лепестки осыпались или это у меня с бодуна в глазах темно? Ночью, что ли, ветер был?
– Где? – всполошился Простатит. – Не было ветра, Андреич, и града не было… Сходить проверить?
– Сходи, братан, – сказал Майков, – проверь. Хрен их знает, эти черешни, чего им не хватает. Может, они заболели, так надо тогда этого вызвать, как его… Ну, не ветеринара, а как он называется? Чтобы подлечил, в общем.
– Так не бывает таких докторов, – неуверенно возразил Простатит. – Или бывают?
– Как это не бывает? – возмутился Майков. – А чего тогда делать, если дерево сохнет? Рубить, что ли, на хрен?
Так за него же баксами плачено!
Простатит не стал напоминать ему о том, чем именно было заплачено за эти черешни. По правде говоря, добродушный Простатит до сих пор считал, что с тем стариком можно было обойтись помягче. Это все Хобот, черт бы его побрал, вечно у него кулаки чешутся…
Тяжело переваливаясь на ходу, Простатит пошел к пруду, над которым, на пригорке, росли высаженные в кажущемся беспорядке черешни. Уже с полпути он увидел, что с черешнями действительно что-то не так. Вся земля у их корней была, как снегом, усыпана опавшими лепестками, да и сами деревья выглядели как-то странно, будто и впрямь захворали. Простатит ускорил шаг и через минуту уже озабоченно разглядывал желто-коричневые, мертвые, свернувшиеся в трубочку листья.
– Папа! – крикнул он, обернувшись к навесу. – Андреич! Иди сюда, тут правда какой-то геморрой!
Майков подошел к нему и принялся осматривать заболевшие деревья с таким видом, словно что-то в этом понимал.
Впрочем, понимать тут было, по большому счету, нечего: даже такой, с позволения сказать, специалист, как Простатит, прекрасно видел, что деревья погибают – уже, считай, погибли.
Еще день, и листья с них опадут, а еще через неделю тонкие ветки станут сухими и ломкими, как хворост. Да они и будут хворостом, пригодным отныне разве что на растопку камина.
– Блин, – сказал папа Май сквозь зубы. – Это какая-то хрень, понял? Так не бывает, чтобы вчера деревья стояли, как огурчики, а сегодня взяли и сдохли ни с того ни с сего. И, главное, все сразу, хором. Черт меня дернул связаться с этим гребаным садоводством!
Простатит дипломатично промолчал, хотя под последним заявлением Майкова готов был подписаться обеими руками сразу. Глядеть на деревья ему было скучно, и, пока Майков, цедя сквозь зубы грязные ругательства, бегал, как ошпаренный, вокруг своих драгоценных черешен, Простатит от нечего делать глазел по сторонам.
– Гляди-ка, Андреич, – сказал он вдруг, – а вон там, под забором, куст пожелтел. Может, это, в натуре, какая-нибудь эпидемия? Жучок какой-нибудь или тля…
– Сам ты тля толстопузая, – огрызнулся Майков. – Где ты видишь хотя бы одного жучка? Ну где? Погоди-ка…
Куст, говоришь? Где?
Простатит показал где и торопливо заковылял за Майковым, который помчался к забору с такой прытью, будто его хорошенько ткнули шилом пониже спины.
Один из высаженных вдоль забора кустов и впрямь увял за одну ночь, как по волшебству. Кое-где на листьях еще виднелись зеленые пятнышки, окруженные желто-коричневыми ободками. Они напоминали физическую карту: зеленая низина, затем желтое плоскогорье и, наконец, темно-коричневые горы. Майков зачем-то сорвал один из таких листков, растер его между пальцами и понюхал.
– Ни хрена не понимаю, – растерянно признался он. – В натуре, как будто ночью кислотный дождь прошел.
– Если бы дождь, все бы завяло, – резонно возразил Простатит. – И трава тоже.
Ему было скучно и хотелось есть. Впрочем, есть ему хотелось всегда, независимо от времени суток и обстоятельств.
– У, мать твою! – выругался Майков и в сердцах пнул мертвый куст ногой.
В глубине куста что-то глухо звякнуло, и на лужайку лениво выкатилась узкогорлая двадцатилитровая бутыль – пыльная, захватанная, с остатками какой-то маслянистой жидкости на дне.
– Это чего? – не понял Майков.
– А я знаю? – растерянно ответил Простатит.
Майков набрал в грудь побольше воздуха, но покосился на забор и с шумом выпустил воздух наружу. Орать на весь поселок, вынося сор из избы, не хотелось.
– А кто должен знать? – спросил он со зловещим спокойствием. – Кто здесь охранник – ты или я? Кто кому бабки платит? И, главное, за что? А если бы это бомба была?
Крыть было нечем. Простатит тяжело опустился на корточки, поднял из травы бутыль, поднес горлышко к носу и осторожно втянул ноздрями воздух. Его щекастое лицо перекосила гримаса отвращения, он быстро отодвинул от себя бутыль и повернул голову к Майкову.
– Кислота, Андреич, – сказал он. – По-моему, серная.
В таких вот бутылках на предприятиях электролит для аккумуляторов держат, я видал. По-моему, твоим черешням кто-то помог загнуться.
– Я даже знаю кто, – медленно проговорил Майков, остановившимся взглядом изучая грязные отпечатки ног на беленой штукатурке забора. Судя по этим отпечаткам, кто-то не так давно перемахнул через забор, направляясь с участка папы Мая во двор к Алфавиту. – Вот пидор старый, совсем ополоумел на почве садоводства!
Простатит сделал испуганное лицо, вопросительно поднял густые брови – так, что они почти слились с низкой линией волос на лбу, и ткнул большим пальцем в сторону забора.
– Да, да, – неприятным скрипучим голосом сказал Майков, – так точно! Знаешь, какой самый страшный зверь на свете? Жаба! Она, падла зеленая, столько народу передушила, что и не сосчитать. Не понравилось ему", что у меня черешни есть, а у него нету. Урод, блин! Я ж хотел эти черешни по осени ему подарить, на хрен они мне нужны-то, в натуре…
Ну, сука, ну держись! Я не посмотрю…
– Андреич, – просительно сказал Простатит, – может, не надо? Уж больно сосед у нас авторитетный… Стоит ли связываться?
– Что? Авторитетный?! – дико вытаращив глаза, заорал на него папа Май. – Кто авторитетный?! Авторитет хренов выискался! Какой он, в жопу, авторитет, если ночью на чужих участках крысятничает? Да его на зоне за такие дела в два счета опустили бы! Авторите-е-ет… Я таких авторитетов раком ставил и ставить буду! Если он ведет себя как сявка, значит, с ним и разговаривать надо, как с сявкой, понял?
А ну пошли!
На крики из дома выскочил Хобот, и ему тут асе пришлось об этом пожалеть. Папа Май мигом припомнил, кто охранял двор минувшей ночью, схватил Хобота за галстук, отбуксировал его сначала к погибшим черешням, потом к забору и, наконец, окончательно разойдясь, пару раз чувствительно ткнул Хобота в этот забор его знаменитым носом. Хобот не сопротивлялся: в гневе папа Май вел себя еще почище, чем сам Хобот со своей справкой, и с ним лучше было не связываться.
– Да ладно, Андреич, – сказал он, шмыгая разбитым носом и осторожно промокая кровь носовым платком, – ну чего ты, в натуре? Я ж не виноват, что у тебя двор такой здоровенный! Разве в одиночку за всем уследишь? Кто ж думал, что к нам, блин, от соседей полезут. Это ж беспредел какой-то!
Хорошо, что у нас сортир в доме, а то бы они туда еще дрожжей набросали, чтоб веселее было.
– Дрожжей, – противным голосом передразнил его Майков и, не удержавшись, съездил Хобота по уху. Хобот молча скривился и схватился за ушибленное место. – Пошли к нему, разобраться надо!
Хобот мигом отнял ладонь от уха, подобрался и расплылся в нехорошей хищной улыбке. Зубы у него были выпачканы кровью, и Хобот сейчас здорово смахивал на упыря. Он мгновенно позабыл и о боли, и о нанесенной ему Майковым обиде: слово «разборка» действовало на него так же, как звук боевой трубы действует на старого кавалерийского скакуна. Хоботу было плевать, с кем клеить разборки, и то, что сосед Майкова по участку был вором в законе, ему было до фонаря.
По пути они выудили из гаража благоразумно скрывавшегося там Рыбу и через две минуты уже барабанили в ворота усадьбы Букреева.
В калитке открылось окошечко, и в нем появилась хмурая физиономия охранника.
– Что? – лаконично и не очень приветливо осведомился он.
– – Открой-ка, браток, – сдерживаясь, сказал ему Майков, – нам с твоим хозяином поговорить надо.
– Его нет, – ответил охранник. – Будет дня через два.
Передать что-нибудь?
– Смылся, сука, – злорадно прошептал над ухом у Майкова воинственный Хобот и вышел вперед. – Открывай, брателло, – сказал он. – Хозяина нет, так мы с тобой побазарим.
– Не о чем мне с вами базарить, мужики, – сказал охранник.
– Это как сказать, – возразил Хобот и, хорошенько прицелившись, засветил охраннику кулаком в переносицу – прямо через окошко, очень точно и, судя по звуку, очень сильно.
Вероятно, он рассчитывал, опрокинув охранника, просунуть руку в окошко, нащупать замок и отпереть калитку, но вышло все немного иначе. Пока Хобот тряс в воздухе отшибленной кистью и матерился сквозь зубы, окошко вдруг закрылось.
– Ни хрена себе, – удивился Хобот и перестал махать ушибленной рукой. – Он что, каменный?
Тут лязгнул засов, калитка распахнулась, и охранник шагнул на улицу. Это был уже знакомый Майкову двухметровый амбал. Одет он был в просторные спортивные шаровары, белые кроссовки и черную майку без рукавов – такую, какие любят носить культуристы. Майка эта позволяла всем желающим насладиться зрелищем великолепно развитой мускулатуры, которая была сплошь покрыта черно-синей вязью татуировок. На левом плече, на самом видном месте, у охранника была искусно вытатуирована голова свирепого на вид быка, и Майков некстати вспомнил, что у блатных каждая татуировка что-то означает, вроде как нарукавная эмблема у военных. Бык – это боец, не в переносном смысле, а в самом прямом, первозданном, так сказать…
Двухметровый бык не стал вступать с гостями в переговоры. Он, верно, и впрямь был сделан из камня или из какого-то другого не менее прочного материала. Во всяком случае, мастерский удар Хобота не оставил на его гладко выбритой физиономии ни малейшего следа. Папа Май как раз пытался понять, как это могло получиться, когда бык начал действовать.
Начал он, как и следовало ожидать, с Хобота. От его удара носатый охранник Майкова мигом потерял всякий интерес к разборке, пролетел пару метров по воздуху, очень неловко приземлился на спину, медленно, с большим трудом перевернулся на бок и, судя по всему, уснул.
У всех остальных, в том числе у папы Мая, при виде этого полета сразу пропала охота драться и вообще выяснять отношения. Беда, однако, заключалась в том, что бык уже не спрашивал, хотят они драться или не хотят. Вся баталия заняла не более десяти секунд, и только Простатита быку пришлось ударить дважды – один раз в солнечное сплетение и еще раз – в ухо. Лежавшему на земле в позе зародыша Майкову показалось, что поначалу бык хотел ударить Простатита в челюсть, но в последний момент, похоже, пожалел коллегу и не стал укладывать его в больницу. Хватило и удара в ухо: громадный Простатит, казавшийся рядом со своим противником каким-то маленьким и сморщенным, будто враз усохшим, покачнулся на ослабевших ногах, закатил глаза и медленно, очень неуклюже опрокинулся на спину, задрав к небу плохо выбритую, синеватую от проступающей щетины тяжелую челюсть.
– Козлы, – сказал бык. Он даже не запыхался.
Потом послышался звук презрительного плевка и лязг закрывшейся калитки. Только после этого папа Май сел и принялся осторожно ощупывать себя руками в поисках повреждений. Ребра с левой стороны неприятно ныли. Они явно были основательно ушиблены, но, кажется, не сломаны. Пиджак на локте оказался разорванным, рукав рубашки под ним потемнел от пыли, но крови почти не было, и Майков вспомнил, что, падая, проехался локтем по земле. Хорошо хоть, что не по асфальту…
Он посмотрел на ворота. Ворота были закрыты и заперты наглухо. Над ними висела прямоугольная коробка следящей видеокамеры, и глаз объектива смотрел, казалось, прямо на папу Мая. Майков помотал головой и огляделся по сторонам. Его люди лежали вокруг в странных позах. Рыба и Простатит слабо шевелились, Хобот не подавал признаков жизни, и только как следует приглядевшись, папа Май заметил, что он дышит.
"Отлично, – подумал папа Май. – Просто превосходно!
Называется, разобрались. Сука Хобот! Вечно сует свои ручонки куда не надо. Что ж теперь делать-то? С блатными воевать? Хороша будет война, нечего сказать. Минуты две провоюем, не больше. Эк меня угораздило! И Алфавита нет, пожаловаться некому, не с кем поговорить по-человечески. Если так дальше пойдет, то я, пожалуй, до его возвращения просто не доживу. Уделают меня его ребятишечки, а когда Алфавит за это с них спрашивать начнет, так прямо ему и скажут: сам, мол, полез, первый, ворота хотел штурмом взять… Что делать, а? Вот лажа-то, вот позорище!"
Он с трудом поднялся на ноги и, хромая, поковылял к калитке. Окошечко распахнулось раньше, чем он успел в него постучать, и оттуда высунулся вороненый, масляно отсвечивающий ствол помпового ружья, показавшийся Майкову широким, как магистральная канализационная труба. От этой смертоносной железки неприятно пахло оружейным маслом и металлом.
– Алло, – сказал Майков чуть ли не в самое дуло, – хорош быковать. Я, в натуре, поговорить пришел.
– Ты уже, по-моему, поговорил, фраерок, – послышалось из-за калитки. – Хилял бы ты отсюда, пока я тебе ноги не прострелил.
– Ты знаешь, кто я? – мысленно скрипнув зубами от небывалого унижения, агрессивно спросил Майков. – Алфавит тебе яйца твои бычьи оторвет за то, что ты сделал.
Тут он вспомнил, что черешни были загублены, скорее всего, по прямому указанию Букреева, и окончательно растерялся. Это что, какая-то провокация? Может быть, Алфавит именно этого и хотел – чтобы папа Май сам пришел сюда просить пулю? Но зачем?! Подгрести под себя фирму? Чушь собачья, это невозможно, а главное – совершенно не нужно Букрееву.
Ведь он для того и связался с Майковым, для того и предложил ему партнерство, чтобы, оставаясь в тени, заставить работать свои грязные деньги.
– Слушай, земляк, – сказал он в окошко, аккуратно, одним пальцем отводя в сторону дуло помповика, которое тут же вернулось на место. – Непонятка вышла, въезжаешь? Мне действительно нужно было поговорить, разобраться…
– С кем разбираться хочешь, фраер? – пробасил из-за калитки охранник. – Много на себя берешь. Алфавиту с тобой разбираться не в уровень, а со мной ты, по-моему, уже разобрался. Мало показалось?
– Да пошел ты, – снова начиная выходить из себя, процедил папа Май. – Было бы с кем разговаривать, а то – бычара безмозглый… Погоди, вот вернется Букреев, он тебя научит с людьми разговаривать, волчина ты лагерный…
В ответ раздался красноречивый лязг затвора. Услышав этот звук, Майков решил не перегибать палку, демонстративно плюнул на землю, повернулся и, все еще прихрамывая, зашагал в сторону своего дома. Позади, на почтительном расстоянии, Рыба и Простатит волокли под руки Хобота, который еще не мог идти самостоятельно, но уже во всеуслышание грозился прострелить охраннику Букреева его дубовую башку.
Никто из участников инцидента не обратил внимания на Валерия Лукьянова, который сидел в кустах на другой стороне дороги и от души наслаждался, наблюдая за развитием событий в театральный бинокль. Досмотрев спектакль до конца, Валерий покинул укрытие и не спеша зашагал к автобусной остановке, думая о том, что это было хорошо, но.., мало.
И он таки знал способ продлить удовольствие – или думал, что знал.
* * *
Все-таки она была чертовски хороша – и вечером, при настольной лампе, и ночью, при луне, и сейчас, при ярком солнечном свете, беспрепятственно вливавшемся в недавно отмытое до скрипа окно. Илларион изо всех сил притворялся спящим, наблюдая за ней через частую сетку ресниц и не забывая глубоко, ровно дышать.
Двигалась она тихо, явно стараясь не разбудить его, и от этого ее движения были особенно плавными и грациозными.
Когда она надела юбку, Илларион подавил вздох. Не то чтобы в юбке она стала хуже, но Забродов все равно испытал неприятное ощущение потери. Не так уж часто ему теперь приходилось видеть обнаженные во всю длину женские ноги, и очень не хотелось думать о том, что, чем дальше, тем реже ему будет выпадать такая возможность. Разве что по телевизору или, скажем, в кабаре. Ну, и еще на пляже. А здесь, в этой квартире, – вряд ли, вряд ли… Конечно, можно будет жениться на даме предпенсионного возраста, но вряд ли разглядывание ее ног доставит ему такое сильное удовольствие, ради которого стоило бы пожертвовать своей холостяцкой свободой…
"Старый хрыч, – подумал он, всхрапывая и для убедительности сонно причмокивая губами. – Девчонке двадцать девять лет, у нее беда, она к тебе за помощью пришла, а ты?
Ты что сделал, сластолюбец на пенсии? Не стыдно тебе?"
Он старательно проанализировал свои ощущения и понял, что нет, не стыдно. Наоборот, при воспоминании о вчерашнем вечере и последовавшей за ним ночи все тело наполнялось приятным теплом, исходившим откуда-то изнутри, из точки, расположенной в районе солнечного сплетения, как будто там и впрямь завелось микроскопическое солнце. Жить с солнцем под диафрагмой было приятно, но как-то непривычно. Илларион вспомнил, что раньше с ним такое случалось частенько и было, помнится, в порядке вещей, а теперь, пожалуйста, успел отвыкнуть…
"И правильно, – подумал он, – и не надо заново привыкать, потому что это все равно скоро пройдет. Раньше проходило, и теперь пройдет, причем намного быстрее, чем когда-то.
А когда к этому привыкнешь, а оно вдруг возьмет и пройдет, сразу почувствуешь нехватку чего-то важного, необходимого.
Это как с телевизором. Веками люди без него обходились, а попробуй-ка теперь отнять у обывателя его ящик! Да он же тебя зубами загрызет, а если не получится, впадет в депрессию, потому что не знает, как; ему без телевизора жить и что ему без телевизора делать…"
Сравнение женщины, которая сейчас расчесывала перед зеркалом свои густые каштановые волосы, с телевизором показалось Иллариону, мягко говоря, странным, притянутым за уши. Он поискал другое, не нашел и мысленно махнул рукой: надо будет – само найдется.








